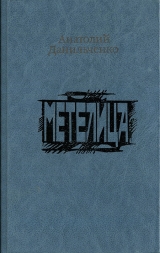
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 38 страниц)
8
В Метелице Захар Довбня родни не имел. С гибелью Полины оборвалась последняя родственная связь с семьей Лапицких. И все-таки кроме Лапицких принять Захара было некому.
Антип Никанорович это знал и с первой же минуты встречи с Захаром решил дать ему пристанище под своей крышей. Вынужден был встретить как родственника по неписаным законам гостеприимства и потому, что Захару просто некуда было деваться, хотя в душе Антип Никанорович был против него.
Помнилась Захарова «партизанщина» во время оккупации и помнилась Полинина распутная жизнь.
Увидев Захара перед своим двором живым и здоровым, Антип Никанорович удивился, но только на минутку. Если рассудить здраво, так оно и должно было случиться: мужики, подобные Захару, головы свои под пулю не понесут.
Захар поставил чемоданы прямо в пыль и, широко улыбаясь, шагнул вперед, готовый обняться, но Антип Никанорович, будто не заметив этого движения, протянул руку, давая понять, что хотя и встречает фронтовика радушно, хотя грудь того и увешана медалями, но обниматься он погодит. Захар тут же сделал вид, что обниматься и не собирается. Поздоровался скромно за руку.
– С прибытием, служивый, с прибытием! Вертаются помалу мужики. Ладная подмога.
– Отвоевались, Никанорович. Шабаш! – пробасил Захар.
– Живой, значит. А мы, грешным делом, и не ждали уже, думали, сгинул.
– Да, считайте, с того света. Немудрено…
– Ну, проходь, што ж мы на улице-то, – пригласил Антип Никанорович, берясь за чемоданы, и крякнул от неожиданной тяжести.
– Я сам, Никанорович, сам, – заторопился Захар и перехватил у него объемистые, обитые деревянными планками трофейные чемоданы пуда по три весом каждый.
«Нахапал, – подумал Антип Никанорович с неприязнью и открыл перед гостем калитку. Ему сразу же вспомнились мужики, приезжающие с войны налегке, с полупустыми вещмешками. – Этот своего не упустит».
Прошли в хату. Захар поставил чемоданы в угол горницы, скинул вещмешок, расстегнулся и, отдуваясь от жары, уселся на стареньком диване.
Антип Никанорович кликнул Анютку:
– Сбегай-ка, внучка, за хлопцами. Видишь, батька Максимкин возвернулся.
Худенькая Анютка зыркнула с любопытством на Захара, сказала: «На болоте они», – и шмыгнула из горницы. Захар хотел было остановить Анютку, дать ей гостинец, да махнул рукой. Две Анюткины косички уже мелькнули за окном.
– Тимофеева, никак? Вытянулась – не признать.
– Растут, – согласился Антип Никанорович. – Сына-то не запамятовал?
Захар вздохнул и ничего не ответил. Он достал из галифе пачку «Казбека», покрутил папиросу в толстых волосатых пальцах, в которых она казалась соломинкой, вжикнул никелированной зажигалкой и глубоко затянулся. Его могучая шея слегка вздулась и покраснела.
В этой хате, здоровый, занявший полдивана, Захар казался необычным, чуть ли не диковинным существом. Или же глаза дедовы отвыкли за войну видеть здоровых людей? Захар за эти годы мало изменился, разве загрубел на вид и еще больше раздался в плечах. Казалось, даже война шла ему на пользу. Загорелое скуластое лицо его было по-мужски красиво: широкие, четко выделяющиеся губы, густые, нависающие карнизами черные брови, уверенный, с хищным блеском взгляд и три морщины на крутом лбу, под такой же, как и брови, смолистой шевелюрой, кряжистые ноги в хромовых сапогах стояли твердо, будто приросли к половицам, косматая грудь под расстегнутой гимнастеркой вздувалась ровно и медленно, а если добавить ко всему этому сверкающие медали, то – жених на всю округу. Недаром бабы любили Захара. Единственно, что ему не шло, это улыбка. От такого мужика следовало ожидать перекатистого смеха, но улыбка была какой-то ненатуральной, будто придуманной. Не улыбка – насмешка.
– Што ж о своих не любопытствуешь? – спросил Антип Никанорович, оглядев гостя.
– Чего спрашивать? Знаю, – ответил Захар и поморщился. – От Гомеля с Иваном Моисеевым в одном вагоне ехали. Так что… Долгий то разговор… И особый, – добавил он, помолчав.
Поговорили минут пять: кто вернулся? кто погиб? Антип Никанорович видел, что Захару не сидится, а вставать, не поговорив, неловко.
– Поживешь пока у нас, – сказал он. – Располагайся, потом покалякаем.
Захар зазвенел медалями, поднялся.
– Пока хлопцы прибегут, я пройдусь, гляну там… – Он имел в виду свой двор.
– Погорело все…
Прогибая половицы своим тяжелым телом, Захар вышел во двор. Антип Никанорович потоптался в горнице, покосился на чемоданы в углу, чмыхнул недовольно носом, поворчал и подался вслед за Захаром. Хочешь не хочешь, а гостя надо потчевать, придется проведать Капитолину. «Опять к этой лярве!» – ругнулся Антип Никанорович. Но другого выхода не было, и он подался со двора.
На улице – ни души, только Захар стоял у пепелища своего двора и задумчиво дымил папиросой. Он заметил Антипа Никаноровича и окликнул его:
– Куда, Никанорович?
– Раздобыть надо, – показал он пустую бутылку.
– Не ходите. Этим я запасся.
– Ну, коли так… – Антип Никанорович пожал плечами. К Капитолине ему страсть как не хотелось идти. Приблизился к Захару, остановился.
На месте Захаровой хаты был неровный, в буграх и ямах, пустырь, густо заросший бурьяном, репейником, лопухами и крапивой; на месте грубки поднималась молодая березка, такая же березка стояла в углу, где было когда-то гумно. Откуда взялись эти березки, никто не знал, потому что в Метелице их не было, не считая двух-трех на краю деревни. Ни золы, ни обугленных головешек не видать, даже печную трубу и саму печку растянули по кирпичику еще прошлым летом. В бурьяне копошились куры, и чей-то поросенок рылся в запущенном саду.
Захар жевал мундштук папиросы и хмуро сопел. Антип Никанорович его не трогал, не заговаривал, зная, что любые слова сейчас излишни. Захар так же молча докурил, сплюнул окурок, пнул сапогом обломок кирпича и повернулся.
– Ничего, – сказал он со злой усмешкой и опустил ресницы, – они свое получили с лихвой!
И по этой усмешке, по сдержанному самодовольному голосу было понятно, что Захар знает за собой что-то страшное, о чем вслух не говорят.
«Попил кровушки людской», – подумал Антип Никанорович с отвращением и в то же время жалея его.
– Зачнешь строиться? – спросил Антип Никанорович, чтобы только нарушить тягостное молчание.
– Зачну, – прогудел Захар и шагнул прочь от пепелища.
Хлопцы еще не пришли, и Захар, ополоснувшись холодной водой, принялся распаковывать вещмешок. Достал гостинцы для детей, кругляш сухой колбасы, тушенку и какие-то еще диковинные банки, развернул две шелковые косынки. «Бабам», – сказал он, имея в виду Просю и Ксюшу. Все это проделывал не торопясь, обстоятельно, то и дело позванивая медалями. Заслышав детские голоса во дворе, он встрепенулся, поспешно отложил вещмешок, выпрямился на диване и застыл, будто аршин проглотил.
Рыжий Максимка вбежал в горницу, остановился растерянно у порога, уставясь на батьку немигающими глазами.
– Ну что ты, сынок… – сказал Захар глухо и улыбнулся.
Максимка сорвался с места и с криком «папка» кинулся к нему на шею. Захар облапил, почти спрятал его в своих могучих руках и рокотал что-то бессвязное и бессмысленное. Отстранился на минуту: «Ну, дай-ка глянуть… Ах ты, рыжик!» – и с новой силой обнимал сына, уже не сдерживая радостных слез. И странно было Антипу Никаноровичу видеть эту картину нежности, эти крупные, обильные слезы на загорелых, обветренных щеках. Вскоре Захар успокоился, отпустил сына с колен и, приговаривая невпопад, словно ему было стыдно за минутную слабость, начал делить между детьми гостинцы. Счастливый Максимка вертелся около батьки и хвастливо поглядывал то на медали, то на Артемку. Артемка же надулся и глядел исподлобья, словно осуждая Максимкину радость и медали его батьки. Нечто подобное чувствовал и Антип Никанорович к Захару: вот ты вернулся без единой царапины, с медалями на груди, и еще неизвестно, какими путями достались тебе эти медали, а Савелий слег где-то в польской земле. Где же справедливость? Кто из вас двоих заслужил большее право на жизнь – ты или Савелий? Недоброе и неуместное в данную минуту чувство поднималось в груди, как будто Захар был виноват в гибели Савелия. Тем виноват, что остался в живых, сумел увернуться от вражеской пули.
Словно прочитав мысли Антипа Никаноровича, Захар сказал задумчиво:
– Жалко Савелия. Такому человеку жить да жить. Где погиб?
Захар не врал, он действительно уважал Савелия и до войны был с ним в более близких отношениях, нежели с Тимофеем.
– Под Варшавой.
– Под Варшавой? – переспросил он, вздергивая брови. – Рядом воевали, значит. И я Варшаву брал. Жарко было, это так, царапнуло меня там… Ну а тут, в Метелице, как ему удалось от полицаев открутиться? Меня тоже чуть было не сцапали.
Этот вопрос удивил Антипа Никаноровича.
– Удалось… А ты почем знаешь?
– Наведывался в сорок втором, по осени, – отозвался Захар и, помолчав, добавил, как о деле общеизвестном: – Партизанил же тут… А деревню когда спалили? До самого прихода наших стояла, насколько я знаю.
– В самый последний день, когда бегли. Мы в лесу отсиживались. Вертаемся – и как обухом по темени, – зола…
– Много метелицких погибло?
– Легче ответить, хто выжил. Что ни двор – то сироты. Покосили мужиков.
Захар помолчал и перевел разговор на хозяйские темы, начал расспрашивать о послевоенной жизни, о новом председателе Якове: как он, даст коня привезти лес на хату и кто из мужиков сможет помочь в строительстве? Он уверенно заявил, что к зиме вселится в новую хату, в чем Антип Никанорович усомнился. Хату строить – дело серьезное, за три-четыре месяца еще никому не удавалось.
– Пока не отстроюсь, в колхоз не пойду, – сказал Захар. – Не квартировать же мне у вас до весны.
– Все одно не управишься, – покачал головой Антип Никанорович. – А у нас места хватит.
– Мужиков соберу, быстро сладим.
– Накладно будет.
– Ничего, – усмехнулся самодовольно Захар. – В обиде не останутся.
– Ну, дай бог. Отдохни, коли уморился, я тут по хозяйству, – закончил Антип Никанорович и незаметно покосился на чемоданы. Не ошибся, значит. Этот мужик взял свое с привеском, раз хату собрался поставить за одно лето.
Он вышел из горницы и, не дожидаясь баб, принялся готовить небогатую домашнюю закуску.
* * *
К вечеру хата Антипа Никаноровича наполнилась гостями. Захара пришли проведать фронтовики, вернувшиеся раньше его, и довоенные друзья. Каждый приносил с собой что-либо из закуски. В последние годы в Метелице повелось ходить в гости со своими харчами. К этому привыкли и не считали зазорным брать от гостей еду. Когда у людей каждая бульбина, каждый кусок хлеба стал на учете, и понятия приличия, гостеприимства, хлебосольства изменились. Уже считалось неприличным идти в гости с пустыми руками, потому что лишний рот за столом всем был в тягость.
Фронтовики, собравшись вместе и пропустив по чарке-другой, как обычно, заводили одни и те же разговоры о войне, о боях, о штурме того или другого города и, как обычно, внушали друг другу и всем окружающим, сколько им пришлось всего хлебнуть, сколько раз брала их за глотку косая и отпускала в самый последний момент, что если они и остались в живых, то благодаря случаю. Так оно и было. Каждый из них мог не вернуться, как не вернулся Савелий, как не вернулись две трети метелицких мужиков, каждый из них был исполосован ранами и четыре года ходил в обнимку со смертью. Тыловики поддакивали, сочувствовали и соглашались во всем, считая свои горести и страдания ничтожными в сравнении с тем, что выпало на долю фронтовиков.
Только захмелевший Лазарь, всегда и со всеми согласный, вдруг вздумал перечить бывшим солдатам.
– А мы што, думаете, так себе, а? Да мы тут хлебнули болей вашего! – перекрывал Лазарь своим бабьим голосом мужской гул за столом. – Вас хоть кормили, а мы шолупайки грызли, а? Батька мой серед дороги… без могилки… Людей живком в землю закапывали… и полицаи скрозь… Добре вам с винтовками да автоматами, а нам? Хлопят – к стенке… и девок насильничали, а мы, не приведи господь, знай кланяйся!
– Хватит тебе, Лазарь! – отмахивались от него. – Война, чего ж ты хотел?
– Да я што, я ж так, – притихал Лазарь, но тут же опять встревал в разговор: – Думаете, мы так себе, а? Это вам – война, а нам – одно изуверство!
И хотя Лазарь, может быть, впервые в жизни говорил толковое слово, его не слушали и не принимали всерьез. Что возьмешь с недотепы Лазаря? Поговорил, и ладно, грех на него обижаться.
– Да, Лазарь, всем досталось.
– Ты послухай-ка, что Алексей рассказывает.
Захар снисходительно похлопывал Лазаря по плечу. Трубный голос его рокотал спокойно, ровно, но так, что вздрагивала лампа-восьмилинейка, подвешенная за крюк в потолке над столом. Довоенный дружок и гуляка Алексей Васильков глядел прямо в рот Захару и, как влюбленная девка, льнул к его округлому плечу. «А помнишь, Захар? – заплетал Алексей языком. – А помнишь, кореш ты мой дорогой?» Но так и не договаривал, что «помнишь». Захар был центром внимания за столом, вокруг него велись все разговоры. Он это видел и принимал как должное. При каждом движении медали его позванивали, как бы подстегивая мужиков к новым похвалам фронтовику, и казалось, что делает он это умышленно.
Антип Никанорович старался быть радушным, приветливым хозяином, но помимо воли серчал и все настойчивей скрипел табуреткой. Назойливое позванивание медалей начинало его раздражать. Он заметил, что Захар избегает разговоров с Тимофеем, словно того и нет за столом. Тимофей же молчал, как непрошеный гость в чужой компании, и это не нравилось Антипу Никаноровичу.
На дворе уже сгустились сумерки, детей уложили спать, и вся компания вышла во двор, чтобы свободно задымить цигарками и не сдерживать зычных голосов. Долго еще галдели мужики, вспоминая и военное, и довоенное время, разговора же касательно личной жизни Захара никто не затронул, и Антип Никанорович знал, что этот разговор впереди, никуда от него не уйдешь.
Наговорившись и помня, что завтра вставать с первыми петухами, гости разошлись по домам. Антип Никанорович, Захар и Тимофей вернулись в хату. Прося с Ксюшей навели порядок на столе и говорили о чем-то своем. Антип Никанорович еще раньше предупредил Захара, чтобы в присутствии Ксюши о Савелии – ни слова.
– Ушли служивые? – спросила Прося.
– Подались, – отозвался Захар и присел к столу.
После шумной компании в хате стало тихо и пусто. Были слышны ходики на стене, скрип половиц и табуреток, лай чьей-то собаки на улице и особенно отчетливо – позванивание Захаровых медалей.
– За сына вам, Никанорович, спасибо! И тебе, Прося, большое спасибо! Не забуду. – Он сделал упор на том, кого конкретно благодарит.
– Не чужой ить – племянник, – сказала Прося, не заметив, что Захар благодарит не всех Лапицких, а выделяет ее и Антипа Никаноровича. – Так и благодарить не за что. Вот уберегти как следует не сумели. Не обессудь, время такое было. Супротив силы что мы могли?
– Здоровье как, не хворает? – спросил он у Проси, настойчиво не замечая Тимофея.
– Слава богу, не хуже других. И в школе ладно, вот и Тимофей скажет.
– Способный мальчик, – подтвердил Тимофей. – Старательный и спокойный. Только перегружать его не следует.
Захар покосился на Тимофея и заскрипел табуреткой. Только теперь Антип Никанорович увидел, что Захар крепко пьян. Красные глаза его ворочались медленно и неопределенно, будто ничего перед собой не видели, вспотевшая шея вздулась, и язык заметно спотыкался на звуке «р».
– Жить-то как собираешься? – спросила Прося. – Тяжелая нынче жизнь пошла.
– Тяжелей, чем было, не будет. Всяк нажился, и теперь проживу.
– Э, не скажи, – не согласился Антип Никанорович. – Прожить-то проживешь, однако тяжесть тяжести – разница. Одно дело – немца бить, другое – прокормить свою семью. Теперя полегчало, а было… Чул, што Лазарь сказал? Дурны-дурны, а тут в середку угодил. Это для вас – война, там хоть бицца можно было и загинуть как подобает, а для нас – одно изуверство.
– Оно и видно… Вон и Полина от тяжестей загнулась. Эх-х, не дожила баба! – Захар скрипнул зубами и собрал в огромные кулаки свои волосатые пальцы, словно показывая, что́ было бы с Полиной, доживи она до конца войны.
Разговор начал принимать крутой оборот. Обычно молчаливая и покорная, Прося раскраснелась и сердито вступилась за покойницу сестру:
– Ты особливо не рычи, ей тоже хлебнуть пришлось.
– Погляжу я, так все вы исстрадались и все хорошенькие, – уже не скрывая злости, прогудел Захар. – Ты сестрицу свою не покрывай, и мне она не чужой доводилась, да чего замалчивать, коли стервой оказалась. Пригрел на груди!..
Он торопливо наполнил стакан, одним духом осушил его, поскрипел зубами вместо закуски и продолжал:
– И нечего оправдываться! Чистенькие… Сына от теперь «перегружать не следует»…
– Оправдываться никто не собирается! – не выдержал Тимофей. – Не в чем нам перед тобой оправдываться. А сыном не укоряй, знаешь, что я был бессилен что-либо предпринять.
– Своих сумел уберечь, – проворчал Захар, все больше пьянея.
– Глупство городишь, паря, – вмешался Антип Никанорович. – Пьяный ты для такого разговора, проспись-ка лучше.
– Я от обиды пьяный! За сына… А та… эх-х, баба, в душу наплевала!
– Не шуми, Захар, детей разбудишь, – попросила Ксюша.
– А, Ксюша? – словно очнулся Захар и продолжал, едва удерживая отяжелевшую голову: – Одна ты – человек, и Савелий – мужик, уваж-жаю! – Он навалился грудью на стол, полоская свои медали в миске с огуречным рассолом. – Уваж-жаю… А моя… эх-х!
– На Полину все валишь, – сказала Прося, – а своей вины не чуешь? Может, через тебя она и сбилась с путя. Судья выискался!
– Это каким манером – через меня?
– А таким, что совестливо ей было людям глаза показать.
– Не п-понимаю.
– Понимаешь, неча там! Перед нами героя не строй, не на митинге!
– Прося, не время сейчас об этом, – попытался остановить жену Тимофей.
– Ничего, время! – разошлась Прося. – Досыть я молчала! Полину никто не обеляет – виновата. А не герой-мужичок довел ее?.. Кабы был, как другие мужики, дома или в отряде, и Полина Полиной осталась бы.
– А я где, по-твоему, был?
– Тебе лучше знать. Но кто с Маковским был, мы тоже знаем.
– Маковский мне не указ! – выкатил глаза Захар. – У меня свой отряд имелся!
– Ладно, Захар, с этим разберутся, – сказал Тимофей. – Кончим этот разговор.
– Это с чем разберутся?
– С отрядом твоим. Пошли спать.
Тимофей поднялся, давая понять, что разговаривать с пьяным больше не станет, но Захар взорвался пуще прежнего. Хмель как будто отступил от него, лицо с хищной злобой перекосилось, он вскочил, опрокинув табуретку, и грохнул кулаком в грудь, отчего с новой силой зазвенели медали.
– Со мной разбираться? Со мно-ой?! Это я разберусь! – И он опять ударил себя в грудь, как в пересохшую бочку.
Этого медального перезвона Антип Никанорович больше не мог перенести.
– Орденком бы тряхнул, коли герой, – проворчал он сердито. – А насчет отряда партизанского Тимофей правду сказал: разберутся. Коли невиноватый, значит, невиноватый, и неча глотку драть!
– Ви-но-ва-тый?! – захлебнулся Захар, сверкая глазами. – Раз-бе-рутся?! Да я за эти награды жизнью рисковал! Я там кровя за вас лил, а ты, – он повернулся к Тимофею, – а ты… детской кровушкой торговал! Сына моего кровушкой!
Тимофей пошатнулся, как от удара, и опустился на табуретку. В хате наступила тишина. Захар, видать, и сам понял, что хватил через край, умолк и опустил готовые крушить все подряд кулаки. Ксюша с Просей, ошарашенные этими словами, застыли, не в состоянии говорить.
В груди у Антипа Никаноровича всплеснула горячая волна, он вскочил и крикнул Тимофею:
– Ты што молчишь?
Тимофей даже головы не поднял.
– Крыть нечем, – со злостью и в то же время как-то виновато сказал Захар.
– Ну, так я скажу. Вон бог, а вон порог! – указал Антип Никанорович на дверь и вдруг, притопывая ногами, закричал не своим голосом: – Во-он! Штоб и духу твоего не было!
Захар кинулся прочь из горницы, в сенцах зацепил ведро, видать, с силой поддал его ногой и, матерно ругаясь, вылетел во двор.
* * *
Назавтра поутру Алексей Васильков пришел за вещами Захара. От Алексея несло перегаром, и глаза его маслено лоснились, видать, уже успел опохмелиться.
– Извиняй, Никанорович, – пробубнил он хмуро, пряча под рыжими веками виноватые глаза. – Захар прислал за вещами.
– Там, – кивнул Антип Никанорович в угол.
Алексей принялся было увязывать вещмешок, но Антип Никанорович заметил бутылку на подоконнике и остановил его:
– Погодь. Вот это ишо. – Он взял недопитую вчера Захарову бутылку и сунул Алексею.
– Ну, что вы, Никанорович, – замялся Алексей.
– Забирай! – вспылил неожиданно Антип Никанорович. – Штоб и не воняло тут!
– И это… Максимку велено забрать.
– В саду он, кликнешь сам. Вечером придешь за его пожитками – бабы соберут.
Алексей топтался возле чемоданов и уходить не торопился, будто хотел что-то сказать и не решался. Антип Никанорович подождал с минуту и не выдержал:
– Все?
– Все, кажись…
– Ну и проваливай!
Алексей вскинул за плечи вещмешок и, сгибаясь под тяжестью чемоданов, посунулся к выходу.
Как только Алексей вышел, Антип Никанорович заметался по горнице, сердясь на себя. Накричал на человека, а за что, спросить бы тебя, старого дурня. Алексей тут не виноват. Ну, приютил, видать, Захара, потому как старый дружок его. Антип Никанорович подошел к окну, выглянул. Алексей, пыля полусогнутыми ногами, удалялся по улице, рядом с ним, припрыгивая, бежал Максимка. И с новой силой закипела в нем злость и обида на Захара, на невинного Алексея, даже на Максимку – не забежал в хату, не спросил позволения уходить, не простился… А если рассудить, то Максимка при чем, может, он и не знает, что уходит навсегда из этого дома. Куда же ему идти, как не к батьке? Стареешь ты, Антип Никанорович, и обиды твои стариковские, на детские похожи.
Но успокоиться он не мог еще со вчерашнего вечера. Всю ночь ворочался с боку на бок, сон его не брал, и утром не находил места. Он прошел в трехстен, пошарил на полке, что-то отыскивая, потом спохватился: а что он ищет? Подумал, подумал и не придумал – что. Выругался, сплюнул сердито, вернулся в горницу и присел на край дивана, сложив руки на коленях, как делают это древние бабки на завалинках, но тут же, заметив такое «бабье» положение, снова ругнулся себе под нос. Взгляд его наткнулся на серый корешок Библии, и Антип Никанорович словно обрадовался, взял Библию и принялся перелистывать толстые пожелтевшие страницы. Но читать ему было трудно: буквы мельтешили, расплывались перед глазами, и Антип Никанорович с досадой откинул книжку в угол дивана. Зрение плошало.
Антип Никанорович махнул на все и решил заняться делом. Надо было клепать косы, завтра они с Тимофеем собирались косить отаву на лугу. У них уже было заготовлено несколько копешек в первый покос, но этого явно не хватало корове на зиму. Он взял молоток и вышел под навес гумна. Там еще удерживались остатки ночного холодка, и Антип Никанорович с облегчением уселся на старую, почерневшую от времени дубовую колодку.
Только он стукнул несколько раз молотком, из сада прибежал Артемка. Поглядев дедову работу, Артемка спросил:
– А чего это, Максимка насовсем ушел?
– Насовсем.
– А чего это, дядька Захар у нас жить не будет?
– Не будет.
– А у кого они?
Антип Никанорович сердито стукнул по пятке косы, промазал и рассердился еще сильней.
– У кого надо! – выкрикнул он. – И штоб ходить туда не смел. Пойдешь – шкуру спущу!
Артемка не растерялся, только удивленно уставился на деда: чего это с ним? Антип Никанорович посопел и пояснил уже спокойнее:
– С Максимкой можешь дружить, и к нам он пущай ходит, а там показываться не моги. Уразумел?
– Уразумел, – ответил Артемка, недовольно чмыхнув носом, точь-в-точь как дед, и подался в сад.
«В меня, шельма, уродился», – подумал Антип Никанорович и взялся за молоток. От размеренных глухих ударов молотком коса переливчато позванивала: тук-динь, тук-динь, тук-динь, и ему не хотелось думать ни о чем. Но мысли настойчиво лезли в голову. Больно было за сына и обидно. Тимофей крепился, виду не подавал, что принял Захарово оскорбление всерьез, но Антип Никанорович знал, чего стоило ему это внешнее спокойствие. Неспроста Тимофеева деревяшка стучала поутру громче обычного, неспроста появились синяки под глазами. Нечего сказать, отблагодарил Захар за сына. Нашел самое больное место, чтобы корябнуть по живому – безжалостно. Героя из себя корчит, в судьи осмелился полезть… Ну да время покажет, кто судья, а кто подсудимый. Яков Илии не забыл его «партизанщины», и никто в Метелице не забыл, медалями не прикроется. Таких мародеров с наградами на груди Антип Никанорович еще в первую мировую навидался, знает их лживое геройство. Много их на чужом горбу в рай норовит. Вот и поди тут успокойся, пчел заведи… В оккупации он мечтал об избавлении от вражьей нечисти, с приходом наших мечтал о победе. Вот и победа, а где же покой? «…Нет мира в костях моих от грехов моих. Ибо беззакония мои превысили голову мою, как тяжкое бремя отяжелели на мне…» Восьмой десяток Антипу Никаноровичу, отгоревал свое, дайте помереть без тревог и терзаний!
– Нет мира в костях моих от грехов моих… Тю ты, слота! – Он заметил, что бормочет библейскую фразу, удивился сам себе и быстрее заработал молотком.
Тук-динь, тук-динь, тук-динь…
* * *
Захар поселился у Алексея Василькова, на краю Метелицы, но Антип Никанорович видел его каждый день на строительстве хаты по соседству. Они избегали друг друга, а при нечаянных встречах отворачивались, проходили мимо, не здороваясь. Примирения с Лапицкими Захар не искал и просить прощения за свою пьяную выходку не собирался. Более того, от знакомых Антип Никанорович слышал, что Захар якобы грозился «вывести Тимофея на чистую воду».
Работа на строительстве шла споро. С утра и весь день мелькала на погорелище могучая спина Захара, а по вечерам туда собиралось человек семь-восемь. Звенели топоры, визжали пилы, ухали тяжелые бревна. Расплачивался он щедро, и мужики с охотой шли ему помогать. Сельчане только диву давались, с какой легкостью и быстротой Захар доставал нужный материал для строительства. Даже кирпич, который достать было особенно трудно, он привез на пятый день, да не на чем-нибудь – на десятиколесном воинском «студебеккере».
– Вот это мужик! Вот это хозяин! – вздыхали бабы-одиночки и поглядывали на Захара жадно и заискивающе.
И Захар баб не сторонился – обнадеживал своим вниманием, ничего конкретного не обещая. Да никто от него обещаний и не требовал. То одна молодайка готовила работникам закуску, то другая…
Антип Никанорович заметил, что дружба у Артемки с Максимкой разладилась. И хотя Захар не запрещал сыну дружить с Артемкой, неразлучных товарищей видели вместе все реже и реже. «А мой папка сказал… – то и дело повторял Максимка хвастливо. – А мой папка сделал…» Это «мой папка» раздражало Антипа Никаноровича и не нравилось Артемке. Помимо воли он невзлюбил Максимку и сердился на старческую дурость – ведь ребенок тут ни при чем. Артемка же все больше стал водиться с такими же, как и сам, сиротами.








