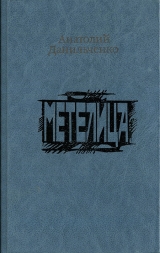
Текст книги "Метелица"
Автор книги: Анатолий Данильченко
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 38 страниц)
10
Машины в Метелице появлялись нечасто. Каждое такое появление вызывало у сельчан любопытство: к кому, по какой причине? Заслышав гудение мотора, взрослые высовывались из окон, открывали калитки и пристально вглядывались в лица приезжих, детвора вприпрыжку, с криком преследовала машину по улице, собаки с остервенелым лаем кидались к колесам.
Став центром внимания целой деревни, Ксюша смущенно улыбалась и усиленно кивала головой – раскланивалась через стекло со знакомыми. А знакомыми были все от мала до велика. Артемка важно глядел перед собой, никого не замечая. Вернее, он всех замечал и все видел, но головы не поворачивал, держа ее необычно ровно, будто аршин проглотил. Еще бы – появился в родной Метелице не пёхом со станции, а в кабине ЗИСа! Хлопцы, бегущие за машиной, видать, лопаются от зависти.
Встретил их Максимка. Он стоял у палисадника и улыбался.
– Тетка дома? – спросила у него Ксюша, выбравшись из кабины.
– Ага, дома, – усердно закивал Максимка. – Сичас она…
– Демид, развернись, заедем во двор, чтоб не тягать на улицу.
Она открыла калитку и столкнулась к Просей.
– Приехали? Вот и слава богу, – заулыбалась Прося. – Максимка с утра на улице крутится – поджидает. А то кто ж его знает, может, машины не достала или еще что. Сичас ворота открою.
Машина во дворе не поместилась, передок торчал из ворот – тешил любопытных. Демид заглушил мотор. Прося уже приглашала всех в хату, к столу.
– День большой, – повторяла она, – успеется. Какая у вас там еда на скорую руку, а я приготовилась.
Ксюше есть не хотелось, Артемку она тоже покормила, а вот насчет Демида не была уверена – поел ли. Да и когда ему было готовить в своем бараке? К тому же и вправду торопиться некуда.
Еда в голодном сорок шестом была главной заботой в каждом доме, и Прося, по всему видно, гордилась своим угощением. Особых деликатесов в Метелице и до войны не знали, но простой крестьянский продукт здесь не переводился, даже в тридцать третьем и в оккупацию сельчане не испытывали всего того, что выпало на долю горожан. И сейчас упревшая в печи картошка, румяные оладьи, помазанные сметаной, внушительный кусок белого, в розовых прожилках, сала, разные соленья были истинным благом, а для Проси – вдвойне, потому как выкручивалась она сама с двумя детьми, без мужа.
У Ксюши взыграл аппетит. Они закусывали, перебирая метелицкие и заводские новости, шутили, смеялись, беззаботно, как до войны. Даже обычно сдержанная Прося пробовала балагурить. Ей тоже требовалась разрядка от постоянных забот о детях, от тревог и тоски по Тимофею.
Демид утратил сдержанность и усиленно заигрывал с Ксюшей, выражая ей свое расположение. Она пыталась обернуть все в шутку, однако не могла скрыть смущения и оттого начинала сердиться. Ей было неловко перед Просей. Нашел время для ухаживаний, лешак толстолобый, пошевелил бы мозгами! Ладно уж где-нибудь в другом месте, только не здесь, в Метелице, да еще в присутствии Проси.
Только она подумала так – в памяти всколыхнулось все, связанное с этим трехстеном, где они сейчас сидят, с отцовской хатой, с местом этим, этой землей – все близкое, родное до боли. Веселость ее мигом прошла.
– Засиделись мы, пора шевелиться.
– Да где ж там пора? – Прося обернулась к старым, отцовским еще ходикам с тяжелой гирей на цепочке. – Вон и одиннадцать не пробило.
– Останется время – потом…
Демид, видно, понял свою бестактность и шумно, заскрипев табуреткой, встал из-за стола.
– Я пойду курну пока.
Когда он вышел, Прося поинтересовалась:
– Это заместо старого шофера? Прошлый раз, помнится, другой приезжал.
– Сейчас на заводе их двое. Демид недавно у нас, Левенкова знакомый. Воевали они вместе, в лагере добрушском вместе были.
– Ага-а, вот оно как. А мужик он хорош, любота! Заметила, как он глазками-то стриг? Неравнодушный.
– Тоже скажешь… – нахмурилась Ксюша. – Просто дурь девать некуда.
– И то верно: на гулянку не попал, теперь вокруг пальца не обмотает, – хохотнула Прося. – А все-таки, может, есть чего меж вами?
– Ну что ты несешь? Опамятуй! Тут дохну́ть некогда, а она… Тебя прямо не узнать.
– Эх, Ксюшенька, не все ж кукситься да слезами исходить. Вот ты приехала – и радость мне, душу хоть отведу. – И она опять принялась за свое, весело улыбаясь и поблескивая глазами: – Я к тому, что одной дохну́ть некогда, а с хозяином совсем наоборот. И вправду, чего хоронить себя загодя? Девка ты в соку, да и за Артемкой строгий глаз нужен. По нынешним временам мужики в большой цене, особо не раскидывайся.
Все это Ксюша отлично понимала и знала, что у нее будет новая жизнь. Может, потому и уехала из Метелицы. Но сознаться себе в том, а тем более сказать вслух другому человеку еще не могла. Не пришло время.
– Оставим, Прося. Оставим, – не потребовала, а как-то жалобно попросила Ксюша. – Давай о деле.
– Ну, как знаешь. Только мы уже не девочки-подлетки, отстыдились в свое время, надо рассуждать трезво. Сичас я…
Она прошла в горницу и вскоре вернулась с тугим свертком в руке. Сдвинув тарелки с края стола, развернула ситцевую косынку.
– Продала вот излишки, собрала кой-чего, думаю, на корову тебе хватит.
Прося аккуратно пересчитала деньги, свернула их трубочкой и передала Ксюше.
– Ты гляди, если это последние…
– Бери, бери, – замахала Прося руками, – выкручусь, мне нарядов не справлять. Я и так перед тобой в долгу по самую макушку.
– Скажешь тоже. Будто не родня мы.
– Родня, Ксюшенька, родней, а утроба у каждого своя – по отдельности. Оттого, что один сыт – у другого жиру не прибавится. Проживем, ничего, руки-ноги еще крепкие.
– Вот и ладно.
Ксюша встала, прошлась, разминая ноги, бесцельно потрогала теплую стенку печки, заглянула в горницу, потом в окно и, преодолевая желание войти в свою бывшую спальню, остановилась у дверей горницы. Уехала она отсюда еще летом, хотя и наведывалась в Метелицу по воскресеньям, но сейчас у нее было такое ощущение, точно с родной хатой прощается именно сегодня. Почему сегодня, она не могла понять, может, оттого, что собрала здесь и увозит последний урожай – следующий будет в Сосновке, – может, по другой какой причине, но это чувство прощания охватило ее всю – властно, до тоски, граничащей со слезами.
Ксюше хотелось войти в спальню – не в горницу, а именно в спальню – теплую и уютную, с тюлевыми занавесками на окне, самодельным платяным шкафом в углу, маленьким столиком у стенки, поближе к свету, и кроватью, широкой двухспальной кроватью с ребристыми металлическими спинками, увенчанными по углам блестящими шариками на узорных квадратах, которую ей купили перед замужеством. Это была ее спальня с тех пор, как она стала прятаться от старших братьев при переодевании; здесь она видела первые счастливые девичьи сны, здесь испытала томление и страх первой любви, сладость мужниных рук, услышала первый лепет Артемки. Здесь все было впервые. И безысходное горе тоже. Этот уголок в хате был для нее родным до каждой трещинки в потолке, до последней царапинки на стенах.
Она хотела войти в спальню, но приказала себе: «Не смей! Отдала – не твое. И нечего душу травить». А может быть, там теперь совсем по-другому. Тогда и вовсе заходить не стоит. И вообще, пора грузиться, дело делать, а то взбредет бабе в голову от безделья. «Глупости», – решила она, отрывая спину от дверного косяка.
Они посидели еще немного, обсуждая домашние дела и заботы. Демид – Ксюша видела в окно – прохаживался по саду, оглядывая деревья, баньку в углу, по-хозяйски трогая шаткий плетень. Он, чужой человек, смело мог ходить по всей усадьбе, поскольку Валет подох сразу после смерти деда Антипа, а другую собаку Прося еще не завела. «И хорошо сделала», – мелькнуло у Ксюши. Каково бы ей было: открывает калитку, а чужой пес не дает войти. Она даже плечами передернула. Вот заведет Прося собаку – и станет Ксюша этому дому совсем чужой.
– Как Максимка, не болеет? – спросила она, отвлекаясь от нерадостных мыслей.
– Пока слава богу. Только боюсь я.
– Чего боишься?
– Разве не слыхала? Хотя да, откуда ты могла узнать, еще и не хоронили. Один из братьев Лозинских помер, Юрка. Позавчера, уже в больнице, в Гомеле. Может, там и похоронят – не знаю.
– А что с ним, болел?
– Да и не болел, кажись. Зачах незаметно.
Юра Лозинский был одним из тех девяти мальчиков, которых брали немцы в свой госпиталь из детдома летом сорок второго. Двое из них умерли в начале сорок пятого, за два месяца до победы, теперь вот третий. Шестеро осталось, и среди них Максимка.
Такое известие не на шутку обеспокоило Ксюшу. Судьбы этих детей накрепко связаны с Тимофеем, и несчастье с любым из них не может не отразиться как на нем, так и на Просе, его жене. Каждому не станешь доказывать, да и не докажешь, что Тимофей ни в чем не виновен. Люди привыкли судить просто: раз посадили, значит, было за что, без тучи дождя не бывает. Ксюша не раз слышала подобное, да и сама рассуждала похоже. Но только когда это касалось кого-то другого, не ее брата: с ним, она твердо знала, вышла ошибка. Однако со всеми ошибок быть не может.
– Тимофею не пиши об этом, – сказала она и, встав из-за стола, принялась натягивать на плечи Просину фуфайку.
– Ни в коем разе, что ты! Нам больно, а ему вдвойне.
– Пошли, а то Демид, верно, заждался.
Погрузились они быстро. Увесистые мешки с картошкой Демид носил играючи, весело, точно разминал застоявшиеся без дела мускулы, женщинам только и осталось управиться с такой мелочью, как морковка, лук да красные сладкие бураки. Квашеную капусту, соленые огурцы и моченые яблоки они собирались носить ведрами, но и тут Демид все переиначил, опустив обратно в погреб приготовленные заранее пустые бочки.
– Заполняйте на месте.
– Господи свет! – всплеснула руками Прося. – Надорваться вздумал.
– Не ершись, Демид, и вправду надорвешься, – поддакнула Ксюша. – Тут же пудов на восемь потянет.
Но это его только раззадорило.
– Но бои́сь, гражда́не, – шутил он, умышленно коверкая слова. – Живы будем – не помрем!
И он действительно, на удивление женщинам и к восторгу подошедших с улицы Максимки и Артемки, выволок груженые бочки из погреба и поднял в кузов машины. Уж до чего был здоров дед Антип – первый силач в округе, – но даже он в свои лучшие годы не взялся бы за такое.
– Ну и мужик! Ну и хозяин! – шептала Прося, лукаво посмеиваясь. – Прямо завидки берут.
– Опять ты за свое! – ворчала Ксюша с напускным недовольством. – Отцепись.
* * *
В Сосновку они вернулись засветло. Засветло разгрузились и расставили все по местам. Ксюше надо было рассчитаться с Демидом, но она не знала, сколько дать за его труды и за машину. Спросить же не решилась, чтобы не поставить в неловкое положение и его, и себя. Хотя кто их знает, эту шоферню, может, для них называть цену в порядке вещей? В самом деле, почему это человек должен стыдиться получать за свой труд. А тут еще примешивались черт-те знает какие отношения с Демидом… В общем, спросить не отважилась.
Она отсчитала втрое больше среднего дневного заработка – одно дело производить бухгалтерский расчет по государственным тарифам и совсем иное – платить за шабашку в выходной, да еще за машину – и подошла к Демиду.
– Возьми вот… Спасибо, сама бы ни в жизнь не управилась.
Он покосился на деньги и, заталкивая под сиденье тряпку, которой только что вытер руки, прогудел глухо:
– Спрячь, Ксения Антиповна. Не надо.
– Ладно, ладно, бери. Как-никак весь выходной ухлопал на меня, – принялась было настаивать Ксюша.
– Не возьму я с тебя.
– Как это?..
На минуту она растерялась, потом догадалась о причинах отказа, смутилась, сунула деньги в карман и, не находя места рукам, начала старательно поправлять на голове свой кашемировый платок.
– Не возьму, да и все. – Он заметил ее смущение и весело заулыбался. – А вот от ужина не отказался бы.
– От ужина? Ага, конечно… ну да, темнеет уже. Так это… ты загоняй машину в гараж, а я соберусь там… – И она заторопилась в дом.
Демид не торопился, видно, поставив машину, отправился в барак переодеться и дать Ксюше время приготовиться. Заявился уже по темному, умытый, причесанный, в свежей рубашке, когда стол был накрыт и на керогазе, потрескивая, дожаривалась картошка. Вкусный запах расплывался по всему дому, щекоча в носу и нагоняя аппетит. Артемка несколько раз подходил к сковородке поглядеть, скоро ли поджарится. К этому времени он успел очистить от золы поддувало грубки, принести из сарая березовых дров, распалить жаркий огонь – это было его постоянной обязанностью – и теперь слонялся без дела, путаясь у Ксюши под ногами и нервируя ее. Она и так завозилась, даже привести себя в порядок не успела.
– Картошечка? – спросил весело Демид. – Наипервейший продукт в Белоруссии, как я успел заметить. Так, Артемка?
С его приходом в кухне сразу стало тесно и оживленно.
– Без бульбы какая еда! – ответил Артемка солидно, как дед Антип когда-то. – Да если еще со шква-арками!..
– Да с огурчиком.
– Вкусно.
– Или, скажем, с капустой, – подзадоривал Демид, сохраняя серьезное выражение.
– Ага, особенно когда целые кочаны, с кочерыжками.
Засиделись они допоздна. Артемку Ксюша накормила и отправила спать, Демида же как гостя выпроводить не могла. Да и желания такого не было, наоборот, хотелось посидеть спокойно, послушать его красивые рассказы о могучей Волге, которая еще с детства, с первых песен, школьных учебников и книжек, вошла в ее сознание чем-то близким, неотъемлемым, вместе с понятием родины. Ни Днепр, протекающий по Гомельщине, ни Сож, ни соседние Припять и Березина не вызывали у нее, у чистокровной белоруски, таких чувств и мыслей, как эта русская река, пролегшая через всю Россию где-то в тысяче верст от родной Метелицы. Реку эту Ксюша никогда не видела и наверняка не увидит, однако ощущала с ней крепкую родственную связь. Задумалась она над этим впервые только сейчас, слушая и разговаривая с волжанином. Неужто все услышанное и прочитанное в детстве, в юности так сильно? Или тут кроется что-то другое, недоступное для ее понимания?
Демид рассказывал, как ловил на Волге осетров – Ксюша слышала о такой рыбе, ее в Метелице называли царской, – как следует варить уху – это оказалось целой наукой, как однажды, поспорив, пытался переплыть на какой-то Голодный остров и выдохся. Рассказывал он и о Сталинграде – городе, о котором в Метелице узнали в начале сорок третьего, о котором с гордостью шептал дед Антип каждому прохожему, опасливо косясь по сторонам, – не дай бог услышит полицай.
Но всякие разговоры в любой белорусской хате, за каким бы то ни было застольем или просто в беседе, неизменно переключались на войну. Происходило это незаметно и естественно, как дыхание. Каждая хата слышала вопль непосильного горя, каждой семьи коснулась безутешная скорбь, тяжесть непоправимой беды. Этим жили, об этом думали, молча – в одиночестве, вслух – на людях.
Заговорили о пережитом и Ксюша с Демидом – размеренно, тихо, приглушив голоса, чтобы не разбудить Артемку. И этот полушепот, домашняя обстановка кухни, общая для двоих тема сблизили их, располагая к откровенности. Ксюша в основном знала о скитаниях Демида по лагерям, о его приезде в Сосновку без документов и о помощи Левенкова в их получении. Она знала о нем намного больше других, и это также их сближало. Может, потому она и разоткровенничалась.
До сих пор Ксюша избегала разговоров о Савелии, не хотела ни перед кем плакаться, делиться своим горем – таила в себе как нечто сокровенное и близкое только ей одной. Но сейчас, совершенно не заметив того, начала рассказывать о Савелии и о себе. Зачем, почему именно Демиду, чужому человеку, говорила это, она не могла объяснить. Может быть, потому, что он ничего не знал о ее жизни, может, просто время пришло. Она ловила себя на мысли, что говорит о погибшем муже спокойно, без надрыва, и удивлялась. Еще месяц назад при каждом воспоминании о Савелии у нее к горлу подкатывал жесткий комок.
– Уважаю, – сказал Демид, выслушав ее, – уважаю таких мужиков.
Он плеснул в стакан остатки водки, одним духом выпил и без всяких переходов, дерзко и властно взяв ее за руку, сказал:
– Ксения, давай сойдемся.
Ксюша испуганно вздрогнула и пролепетала:
– Что ты, опамятуй!
– Я знаю, что не заменю тебе Савелия. Но буду стараться, душа из меня вон! Слышишь, Ксения Антиповна?
– Пусти, больно… – Она высвободила руку и невольно оглянулась на дверь, за которой спал Артемка.
Все это было так неожиданно, быстро и дерзко, что не могло не испугать. Демид застал ее врасплох. Ксюша не была готова к ответу, хотя уже неделю, две недели назад предполагала, чувствовала, что именно этим и кончатся его домогания. Но ведь не так быстро, не так сразу…
– Ответь, Ксения, – напирал он, не давая ей сосредоточиться. – Ответь.
– Пьешь ты, – пробормотала она глухо, не решаясь ни отказать, ни согласиться.
– Ну вот, сама же угостила.
– Это к делу. Я не о том.
– А что в том бараке остается? Так, от скуки. Ксения Антиповна, мое слово железное, если когда-нибудь обижу, если… Ответь, слышишь? Ты согласна? – И он снова потянулся к ее руке.
– Не знаю, – прошептала Ксюша. – Не знаю, уйди. Прошу тебя, уйди, не знаю…
– Не прогоняй, ведь все равно – судьба.
– Уйди, пока не отказала. Жалеть будешь.
– Ладно, ладно, ухожу. Железно.
И он, торопливо накинув на плечо свою куртку, вывалился за двери.
…В течение недели они виделись ежедневно – в конторе, на улице, у гаража. Демид терпеливо ждал, только поглядывал на нее вопросительно, молчаливо требуя ответа. Ксюша все обдумала, взвесила, но никак не могла решиться. В пятницу вечером спросила у Артемки, хочет ли он, чтобы дядька Демид жил вместе с ними? Артемка хотел. Еще бы, тогда он сможет кататься на машине сколько влезет.
В субботу Ксюша пригласила Демида поужинать и разрешила ему остаться.
11
За первую зиму в Сосновке Артемка здорово повзрослел. Это он мог сказать твердо. Как-никак десять годков за плечами. Недаром дядька Демид с ним разговаривает на полном серьезе. Теперь он доводился ему отчимом и поселился в комнате, Артемка же перебрался на топчан за печкой, в кухню – ну точно как дед Антип. А когда дом выстуживался – лез на печку. Благодать!
С дядькой Демидом они ладили с самого начала, когда тот приехал в Сосновку и щедро угостил леденцами в круглой цветастой коробке: она и до сих пор у Артемки – вместо копилки. А складывает он в нее отчимовские рубли, которые получает регулярно за каждую пятерку в дневнике. Мамка поначалу была против, но дядька Демид настоял, вышло по его. Твердый мужик, всегда по его выходит. Теперь в коробке скопилась приличная сумма, пожалуй, на коньки железные, самые что ни на есть всамделишные, хватит. Но если даже и не хватит, то все равно своя деньга – дело не малое. Лишь бы в школе вызывали почаще да отметки ставили, а то взяла моду учителка: спросить спросит, а отметку не поставит.
С отчимом хорошо – добытчик, голодать не приходится, а все потому, что шофер. Артемка не раз слышал, что зарабатывает дядька Демид почище всякого оборотчика. И вообще, машина – это вещь: и покататься можно, и даже покрутить баранку. Уже не один раз пробовал. Не вышло, правда. Он и сегодня надеялся хоть немного прокатиться, потому, приготовив уроки и погуляв немного на улице, прибежал домой. Но отчим уехал в Гомель и что-то долго не возвращался.
Артемка срисовывал с «Родной речи» портрет Сталина и прислушивался к звукам улицы в ожидании рокота мотора во дворе. Но вместо машины услышал он стук в дверь. Это пришла Степанида Ивановна.
– Дома? – спросила она с порога. – А то вечно собакам хвосты крутит.
Она сняла свой тулупчик, повесила на гвоздь в кухне и, пройдя в комнату, сразу же сунула нос в Артемкин рисунок.
– Ну, молодец! Как две капли воды. Похож. Только череп зачем проломил?
– Какой череп? – не понял Артемка.
– Обыкновенный. Гляди, лоб вот здесь, у виска, ты вогнул. Потрогай-ка свой лоб, что он у тебя, вогнутый или кругляшом? Потрогай, потрогай, – начала она сердиться, заметив Артемкину улыбку, – не раздавишь. Что, выпирает? То-то! Давай выправляй, нечего людям лбы поганить. Сам искривил, сам и выравнивай.
Артемка подтер резинкой висок, провел новую линию и слегка затушевал с краю. Получилось намного лучше. Он даже удивился такой быстрой перемене. Одну-то линию всего и провел, а глядится совсем по-другому.
– А что я тебе говорила? – заулыбалась довольно Степанида Ивановна. – Ну, ладно. Смотри, что я тебе принесла. У-у, вещь! У букиниста в Гомеле купила.
Артемка не стал допытываться, кто такой букинист, потому что Степанида Ивановна быстро развернула старый платок и выложила на стол большущую, чуть ли не со стиральную доску, книгу с золотистыми буквами на ярко-розовой бархатистой обложке. Таких книг он отродясь не видывал.
– Эпоха Возрождения, – сказала она непонятно и прерывисто вздохнула.
Еще с осени Степанида Ивановна стала бывать у Артемки. Чуть только он задержится дома, не успеет выскользнуть на улицу – она тут как тут с книжками диковинными, с нотами. И начинаются поучения да наставления. Мамка говорит, что хватит ему и школы, а Степанида Ивановна свое: «Школа учит грамоте, а культуру дает семья». Она-то интересная, эта самая культура, только и на улицу, к пацанам охота. Последнее же время, как только Степанида Ивановна обнаружила у Артемки «художественные способности», то и вовсе зачастила в гости, прямо спасу нет. Да еще и ворчит, покрикивает, командирша! Правда, она хоть и ворчливая, но добрая, Артемка не в обиде.
– Эпоха Возрождения, – повторила она и начала перевертывать страницы, объясняя, когда и кто рисовал эти картины, что она за такая – эпоха Возрождения.
От ярких красок у Артемки прямо в глазах рябило. Он и представить себе не мог, что где-то на стенах висят такие картины, высятся статуи с хату, а то и больше, величиной. Да к тому же – голые. Он застыдился глядеть на ничем не прикрытых теток с выпирающими титьками и, коротко хихикнув, перевел взгляд на другую картину. Разглядеть, конечно, хотелось все в подробностях, но над ухом у него сопела Степанида Ивановна – как тут станешь любопытствовать?
Выручила его пришедшая с работы мать. Она заметила альбом на столе, поглядела с минуту и осуждающе покачала головой:
– Ну зачем вы ребенку…
– И она туда ж! – вскинулась Степанида Ивановна. – Народец – не соскучишься. Ты ведь образованная женщина, как не поймешь? Это жи-во-пись! Величайшие мастера Возрождения!..
– Ай, как хотите, – отмахнулась мать и ушла в кухню.
За ней подалась и Степанида Ивановна, оставив Артемку одного. Теперь можно было разглядывать что угодно, не опасаясь окрика. И все-таки даже наедине с собой было стыдновато. Нарисуют же – как в бане на полке́. Вот бы Федьке Рябухе показать… Потеха!
Взрослые о чем-то разговаривали, и Артемка стал прислушиваться. Оно всегда интересно узнать, о чем взрослые говорят. Особенно когда они думают, что дети заняты уроками или еще чем и не слышат их. Как бы не так, ведь уроки пишут не ушами.
– …Да все хорошо как будто, – говорила мать.
– Дай-то бог, если так, – гудела по-мужски Степанида Ивановна. – И все же я прямо скажу тебе, Ксения Антиповна, не потворствуй. Кот он хороший, как я заметила. Хоть и земляк мне, а все равно кот.
– Какой еще кот?
– А такой, что мурлыкает, когда по шерстке гладят. Против шерсти пробовала? Царапнет, Ксения, строптив. Ты не серчай на старуху, полюбились вы мне с парнишкой, потому я…
– Ну спасибо на добром слове. Сама замечала, да как-то не придавала значения. Учту.
– Учти, учти. Много их на нас, на баб, командиров! Вот и мой… – Она осеклась и заговорила совсем другим тоном: – Кажется, к тебе Дашка направляется. В комнату я… Не хочу лишний раз… Неприятно.
Артемка догадывался, почему Степанида Ивановна не хочет встречаться с теткой Дарьей. Этой осенью начальник упек Скорубу на шесть месяцев «ни за что ни про что», как говорил про своего отчима Лешка, и «за пьянство и систематические прогулы», как пояснила мамка. Скоруба и вправду загуливал напропалую с теткой Дарьей. Артемка это знает в точности, потому как с Лешкой они в одном классе и он частенько бывает в его доме. Впрочем, развалюху, сложенную из старых шпал и обшитых полуистлевшими досками, домом не назовешь. В Метелице сараи лучше. Ходили они в каких-то обносках, жили впроголодь, но весело и шумно. Временами запыленные шипки единственного окна дрожали от ругани, временами – от хохота.
Последние три дня Лешка в школу не ходил – ни с того ни с сего рассопливился, и Артемка относил ему домашние задания, так что тетка Дарья появилась как нельзя вовремя. Он записал на клочке бумаги номера задачек, упражнений и вышел в кухню.
– Чего ж ты дите с собой тягаешь? – вычитывала тетку Дарью мать. – Простудишь.
– А куды его? Лешка вон хворый.
Врала тетка, не такой уж больной Лешка, мог бы приглядеть, и Петька – уже не сосунок, умеет передвигаться своим ходом. Просто берет его с собой тетка Дарья, чтобы разжалобить сердобольных, Артемка это знает.
– Передайте Лешке. Уроки тут, – сунул он бумажку тетке Дарье.
– Ага, Артемка. Ага, передам. Вот спасибо, вот умница, – загундосила она нараспев. – Это же не хлопец у тебя, Ксения Антиповна, а чистое золото. Таки заботливы! Таки ласковы! С Лешкой моим они – ну прямо не разлей вода…
– Ты по делу ко мне? – прервала мать ее пустопорожнюю болтовню.
– Да как и сказать… Дело мое известное – как бы ноги не протянуть. Поверишь, Ксения Антиповна, в хате крошки не осталось. Бяда! Прямо бяда! Давай я тебе кину карту на судьбу, – и она вытянула из кармана латаной-перелатаной фуфайки замусоленную колоду карт.
Тетка Дарья не просто побиралась, как нищенка, она умела гадать и всякий раз предлагала «кинуть карту на судьбу».
– Спрячь, ты же знаешь, я не гадаю, – отмахнулась мать. – Картошка есть, сейчас насыплю.
– От добрая душа, спаси тебя христос! Чем только и расплачусь? А то, поверишь, покати шаром… ни на лавке, ни под лавкой. Без Ивана хоть ложись и помирай. Прямо бяда!
Маленькая, щуплая, с завернутым в разноцветное тряпье Петькой, она слезливо гундосила о своих бедах и совсем не походила на ту веселую и крикливую тетку Дарью, какой ее видел Артемка, приходя к Лешке. Дома она и выглядела не такой жалкой и забитой, и гундосила меньше.
– Ты вот жалишься, Дашка, а пьешь. Лучше бы детям чего купила, – упрекнула ее мать, насыпая в торбу картошки.
– Дык жизнь проклятая! Через нее все, – повеселела тетка Дарья. – С горя, Ксения Антиповна, когда и пригублю. Иван мой мне так сказал: «Пей, Дашка, ежели тебе от этого легче». А и вправду легче. Ну, побегла я, Ксюшенька. Дай тебе бог! – И она быстро юркнула за дверь.
В кухне появилась Степанида Ивановна. Она постояла молча, подперев кулаками бока, почмыхала носом и проворчала:
– Бездельница!
– Оно-то так, – согласилась мать, – а жалко.
– Во-во, жалко. Истинно в русской натуре – жалеть бездельников и прощелыг. Они тебе дурачками прикидываются, и мы знаем, что никакие не дурачки, стыдимся за их притворство и им же потакаем. Хор-ро-шо! Не-ет, Ксения Антиповна, у нас с голоду не помрешь, была бы наглость.
– Но если человек уродился таким, что ж ему – пропадать?
– Куда там! – рассмеялась Степанида Ивановна. – Плодить себе подобных! Ну, будет, что-то я сегодня не в духе. Кипяточек есть? Я тут грузинского раздобыла – почаевничаем. Мой Онисим обещался припоздниться.
– Сейчас поставлю.
За окном опускался вечер. Бело-розовый от кирпичной пыли снег во дворе перестал искриться – лежал серым застиранным полотном. Включили свет – и на улице враз потемнело. Теперь уже не оставалось никакой надежды прокатиться на машине – дядьки Демида все не было.
Артемка долго еще разглядывал альбом, выслушивая пояснения Степаниды Ивановны, потом они пили чай вприкуску. От чая этого навару никакого, но от сахара, отливающего синевой и каменно-крепкого, попробуй откажись. Тут и не хочешь, а станешь водохлебом. И Артемка упорно одолевал третий стакан.
Дядька Демид появился неожиданно. Он шумно ввалился в дом, обдав всех морозной свежестью, – румяный, веселый.
– Чаевничаем? – загудел с порога. – Это верно: чифирек скрепляет кости, сахарок приносит вред.
Он имел в виду крепкий до горечи чай Степаниды Ивановны. Артемка однажды отхлебнул, так еле сдержался, чтобы не сплюнуть. И как она только употребляет такой? Да еще и посмеивается, дескать, вы не чай пьете, а водичку закрашенную.
Под мышкой у дядьки Демида был зажат объемистый сверток, и Артемкин взгляд так и тянулся к нему. Гостинец – это уж точно. Кто без гостинца приезжает из Гомеля? Но разворачивать сверток дядька Демид не спешил; он положил его на лавку, неторопко разделся, переобулся, все время разговаривая со Степанидой Ивановной и мамкой и вовсе не замечая Артемку, старательно отводя от него взгляд. И Артемка понял: сверток – для него. Слишком уж улыбчив сегодня дядька Демид.
– Ну, кому это? – спросил он наконец, указывая глазами на сверток.
Артемка расплылся в улыбке. Кому же еще, как не ему?
– Мне.
– Тогда отгадай, что там.
– С трех раз, – поторопился Артемка выговорить себе условие.
– Валяй с трех.
– Значит, так… – задумался он, прикидывая, что бы там могло быть вкусное такое. – Пряники и мармелад!
– Один, – загнул палец дядька Демид.
Не отгадал Артемка и во второй раз. Конечно, даже не отгадай он, все равно содержимое свертка достанется ему, но тогда это будет «незаслуженно».
– А полёгать можно?
– Попробуй.
Артемка взвесил сверток, тайком ощупывая его со всех сторон, и чуть не подскочил от радостной догадки:
– Коньки!
– Гляди ты его! – удивился дядька Демид. – Прямо сквозь стену видит. Ну, разворачивай, угадал.
Таких коньков не было ни у кого в поселке, даже у Петьки Климука, который вечно задавался своими снегурками; из-под бумаги блеснули настоящие дутыши! У Артемки дух перехватило. Белые, сверкающие, как зеркало, с насечками на носках и пухлыми приземистыми ножками, они просто завораживали. Теперь он Климука как пить дать обгонит, а то на деревяшках какая езда!








