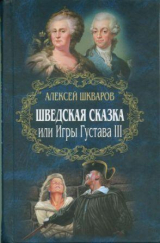
Текст книги "Шведская сказка"
Автор книги: Алексей Шкваров
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 37 страниц)
– На богомолье. – Пояснил за всех Железняк.
– Не молиться, братья, время настало! – сверкнув глазами, сказал монах.
– Что так? – пододвинулись к нему козаки, переглянувшись.
– А то не ведаете, что на гетьманской Крайне деется? – внимательно обвел взглядом горящим всю компанию монах.
– А шо? – спросил за всех Железняк.
– А то! Ксендзы с ляхами, да с униатами , православных христиан заместо коней в таратайки свои запрягают. Боем бьют смертным. Мучают безвинно. Храмы наши в аренду жидам отданы, а те вперед деньги гребут, а лишь опосля обедню служить дозволяют. Значки свои поганые на святой пасхе ставят!
– Это как? – запорожцы еще ближе подались к монаху, руки сами взялись за рукояти сабель.
– А так! – гневно выкрикнул монах. – В Варшаве ихней провозгласили было равенство вер. Нашей, истинной греческой, и латинской. Да только шляхта клятая тут же в конфедерацию соединилась. Истребить грозиться всех православных, псам своим скормить. И уже исполнять начали. Стоном стонет земля наша. Кровью исходит.
– А шо, козаков на Украйне не стало? – перебил монаха куренной, злобой наливаясь.
– Есть, да силенок мало. Тех, кто противиться решил – смерти лютой предают. Племянника родного нашего игумена Мельхиседека со товарищами на кол посадили. Самого старца в оковы заковали, да в темнице держат. Обитель Мотренинская ныне разорена и осквернена нечестивыми. Жидовки шьют из риз монашеских юбки себе ныне. Козаки, что в живых остались, с крестьянами вместе, бегут ныне за Днепр, к Переяславлю, за границу русскую. Попрана вера православная, попрана! Горе нам, горе! – опустил голову монах, покачал обреченно.
– Перевешать всю жидову вместе с ляхами, бисово отродье! Перетопить в Днепре! – зашумели запорожцы.
– Да щоб свиньи их зъили! Нешто терпеть это можно? – поднялся могучий Бурляй.
– Ось справим ляхам та жидам поминки по душам христианским! – со свистом вылетел клинок кривой из ножен. Шило хищно ощерился.
– А ну геть! Убери шаблюку, Шило! – прикрикнул атаман, подавив в себе ярость и успокаивая разгорячившихся. Встал на ноги, во весь рост богатырский выпрямился.
– Что не веришь, козак? – блеснул на него взглядом чернец. – Коль на Переяславль идешь, там и спросишь сам у владыки Гервасия. Сказывали грамоту он имеет. От царицы русской. Указ императорский подниматься супротив поляков за веру нашу.
– Указ говоришь царский… – задумался Железняк, мыслями в Сечь перенесся. – Нет, не даст кошевой Калнышевский все войско запорожское поднять. На один только курень свой рассчитывать мог Максим. Сколько их? Сотен пять-шесть набрать можно. И все?
Словно мысли козацкие потаенные читая, вдруг произнес монах:
– Близ рогаток пограничных полным-полно козаков обретается, что бежали от войск конфедерации ляхской. Уговорись с ними и ступай, атаман в Польшу, режь ляхов и жидов, все крестьяне и козаки за тебя будут!
– Утро мудренее! – отвечал Максим, подивившись про себя догадливости монаха. – Всем спать! А вы, – головой мотнул, – Шило с Бурляеем, в сторожу.
Добрались козаки с монахом вместе до Переяславля. Показали там Железняку пергамент с указом царским. Титул золотом прописан, правда печать и подпись подделаны. Но кто об этом атаману поведал? Епископ Гервасий сам сказал:
– Поднимайтесь, козаки! Сама царица волю свою изъявляет в помощь вам.
А тут и игумен Мельхидесек объявился. Бежал таки таинственно из лап польских.
– Ничего и никого не жалейте, козаки! Отмстите за веру нашу поруганную! – вещал игумен на площади, рукой иссушенной знаменье крестное творя.
– Гайда! – махнул рукой Железняк. И поднялась вся масса народная, ибо переполнилось терпенье людское, мстить начали – за оскорбление веры предков, за посрамление церквей, за бесчинства панов, за угнетенье, за унию, за власть жидовскую, за все, что скопилось доныне. И пошли гайдамаки, наметом страшным земли польские опустошая. Молодой, но сильный духом Максим Железняк, повел козацкое воинство за собой. С козаками вместе поднялось крестьянство. И содрогнулась Польша!Пощады не было. Впереди сотен козацких лазутчики крались, и появлялись гайдамаки всегда там, где менее всего ожидать их могли. И все тогда прощались с жизнью. Горели деревни, костелы и синагоги, скот, что угнать не могли, избивали, не щадили никого, ни старого, ни младого. Волосы дыбом поднимались от свирепости козацкой. Самая страшная война, это война за веру!
В одной часовне придорожной, приказал Железняк повесить вместе ксендза, еврея и собаку, а на дверях написали: «Лях, жид и собака – всё вира однака».
Высылаемые Варшавой немногочисленные отряды или не могли догнать козаков, или робели при встрече, коней вспять поворачивали, тыл показывая.
Толпы ляхов, евреев, монахов, женщин с детьми искали защиты за городскими стенами, где хоть какая-то надежда была на гарнизон и укрепления. Козаки пока не решались брать города, стороной их обходили. Но силы росли их. Со всех сторон стекались к Максиму люди. Сколь обиженных-то было. Конфедераты, в Баре засевшие, по глупости своей, гнев против Варшавы и России, на православных своих поданных вымещали, ныне и аукнулось. Ширился бунт гайдамацкий. К городам приближался.
Богата была Умань – вотчина князей Потоцких. Губернатором сидел здесь пан Младанович, а казной городской ведал пан Рогашевский. Ох и не любили паны один другого. Все доносы друг на друга писали воеводе Потоцкому. Гарнизон стоял сильный в Умани, оттого не боялась шляхта бунта гайдамацкого, хотя и усилили караулы на стенах и валах, город окружавших. Зорко всматривались караульные в степь, но кроме искавших защиты евреев, пока никто не приближался. Городскими козаками командовал старый сотник Дуска, а в помощниках у него были Гонта да Ярема.
Надоело воеводе Потоцкому разбирать жалобы уманьских губернатора и казначея, отправил туда доверенного своего, пана Цесельского:
– Поезжай! – махнул рукой шляхтичу, – выясни, чего грызутся. А то сотник Гонта мне сказывает, что только этим и заняты паны ясновельможные. Разберись, в чем правда.
По рождению крестьянин села Росошек, имений Потоцкого, приглянулся с малолетства Иван Гонта своему князю. Приметил его Потоцкий, образование дал, выдвинул, в козацкую надворную милицию сотником определил. Выделялся сотник Гонта и среди местного шляхетства, оттого не любили его поляки, завидовали, уничтожить жаждали. А Потоцкий приблизил Гонту, часто вызывал его к себе, отдавал приказы напрямую, обходясь без губернатора.
– А еще, – продолжил Потоцкий, – конфедераты Барские в помощь козаков себе надворных просят. Тому не бывать! Не будут козаки с русскими биться. Прикажешь Младановичу вывести их из города, да на степи поставить. Сам пусть соберет шляхту местную, конную и пешую, трехмесячным припасом за счет казны нашей снабдит, да и отправит в Бар, к пану Пулавскому, коли ему так воевать с русскими не терпится.
Пан Цесельский недолюбливал сотника, как и остальная шляхта. Оттого сидя уже в Умани, меды попивая, делился мыслями с губернатором да казначеем:
– Я, паны ясновельможные, разумею так, что сотник Гонта воду мутит супротив вас. Вознесся сильно, пся крев , думает, одному князю обязан возвышением своим. Мыслю я, паны, надобно с Гонты сотню другую золотых получить, иначе ославим его пред воеводой киевским, нашим благодетелем общим, ясновельможным князем.
– А тяжесть поборов, для припасов милиции, что в Бар направляем, на козачество также возложим. – Ввернул казначей Рогашевский, – нечего истощать казну воеводскую.
– Бардзо добже придумано! – согласились все.
Выслали паны надворных козаков в степь, деньги содрав. И успокоились. Скрипнул зубами от злости Гонта, но до дому съездил, достал денег, высыпал на стол пред шляхтой кучку золота, посмотрел, как алчно глаза разгорелись – дележ предстоял, нахлобучил шапку, и не прощаясь вышел, дверь ногой сильно пнув.
Сидел в степи Гонта, хмурился, раздумывал. Раз даже заговорил со старым Дуской про гайдамаков, про Железняка. Болел сильно старик, лежал больше на телеге, люльку посасывал. Чуял, что смерть близка. Поманил рукой сотника, чтоб пониже к нему нагнулся, говорить тяжело было старому, и шепнул:
– Семь недель с Железняком попануете, а семь лет вас потом вешать и четвертовать будут!
Эх, надвигалась беда на Умань, а шляхта беззаботная и ухом не вела. Одни евреи, вечно гонимые, чутьем звериным инстинктивным, понимали – быть беде. Все знали, про все ведали. Спасения искали. Пошли старейшины еврейские до панов Цесельского и Младановича, кланялись низко, трясли бородами и пейсами длиннющими:
– Надобно панам ясновельможным опасаться сильно сотника Гонту. Верные люди сказывали обижен он на шляхту. Подбивал на бунт старого Дуску, только помер тот на днях, ныне Гонта над всеми козаками уманьскими за главного. Коли не запрете сотника, пан ясновельможные, беде быть. Железняк уже неподалеку от Умани. Переметнется Гонта к нему. Просим защиты у вас, панов великодушных, а в знак признательности нашей, что не откажете евреям бедным, примите подношение в три тыщи золотых червонцев.
Переглянулись Цесельский с Младановичем. Железняк-то где еще, стены у нас крепкие, комендант надежный, пушки имеются, а золото… вот оно. Кивнули важно, защиту пообещали. И вызвали Гонту срочно в город. Прискакал сотник и в кандалы тут же взят был. Народ на площади собрали, быстро виселицу соорудили. Но в толпе многие хмурились, знали сотника, как доброго козака, как любимца самого воеводы киевского Потоцкого. Не стерпела пани Обуховская, вдова полковничья, за всех крикнула Цесельскому:
– Не гоже пана Гонту по навету казнить! Всем ведомо, как любит его пан Салезы Потоцкий! Оставьте в живых, ручаюсь за него!
Из толпы крики послышались:
– Не гоже!
– Ручаемся!
Цесельский и сам вдруг задумался. Переглянулись с Младановичем. Забыли впопыхах о том, что Гонта и правда любимец воеводин. Как бы потом самим башки не лишиться. Крут, ох, как крут на расправу, князь Потоцкий.
– Ладно, Гонта, – решили, – возвращайся в степь.
Сняли кандалы с козака, потер он руки занемевшие, после поклонился поясно народу, на коня вскочил и был таков.
Совсем поникли евреи уманьские, увидев, что отпущен тот, кого боялись они. Долго толковали промеж себя. Крик подняли, ругались, руками размахивали. Горячились Лейба Шаргородский и Мойша Менакер:
– Драться надобно будет братья евреи. Никому верить нельзя.
– Откупимся – не соглашались другие. – Пошлем дары к Гонте, чтоб сидел на месте, в степи, не шел к Железняку. – Большинство таких было, на том и порешили. Плюнули на них Лейба с Мойшей:
– Ох и пожалеете потом, гои, да поздно будет! – ушли с толковища. Остальные нагрузили возы с добром всяким, в степь отправились, Гонту задабривать.
– Пощади нас, любезный пан Гонта, – поклонились низко, – защити от гайдамаков. Один ты с ними совладать можешь. Не даром любезного пана так любит ясновельможный князь воевода Потоцкий.
Усмехнулся сотник, верные люди дали ему уже знать – чьему навету он обязан был виселицей. Подумал про себя:
– Будет вам защита, поганцы, – а вслух сказал:
– То добре, панове жиды, похлопочите пред паном Цесельским мне приказание выступить против Железняка.
Выхлопотали евреи приказ, но Цесельский отправил вместе с Гонтой трех шляхтичей-полковников, следить за козаками. Выступили сотни в поход. Правда, Гонта тут же объявил полякам:
– Можете, ваши милости, ехать прочь. Мы в вас не нуждаемся и вашей крови не хотим. – Полковники поспешили убраться поскорее назад в Умань. А Иван Гонта повел свои сотни к Железняку.
В лесу встретились. Есаулы верные, Бурляй, Шило, Журба, Голобородько, на ковре лежали, горилку попивали, салом с хлебом закусывали. Атаман в сторонке на пеньке примостился, по пояс голый, весь коричневый от загара. Цирюльник из местных, полуаршинной бритвой скоблил голову козака, мылил куском грязного мыла, поливал из кувшина водой.
– Сидай с хлопцами, Гонта, – показал на ковер Железняк, – угощайся покуда. – И цирюльнику:
– А ты, давай, брий гладенько, тильки оседелец не зрижь.
Брадобрей старательно скоблил голову запорожца, с треском, словно чешую с рыбы счищал. Иногда соскакивал с гладкой головы кусочек кожи, и тогда цирюльник хмурился, поливал порез водой, смывая льющуюся кровь, и снова усиленно мылил. Железняк успокаивал:
– Плюй на то, хлопец. После землей присыпем. Яка то кровь? У нас шапки красны, пид ними крови не видно.
Бритье завершив, толковал Железняк сотнику уманскому про указ царицын. В круг всех козаков собрали, подьячий, к войску прибившийся, читал вслух. На день завтрашний костры гайдамацкие запылали в окрестностях Умани. Взять с ходу крепость не получилось. Комендант Умани Ленарт умело оборону возглавил, встретил бунтовщиков картечью, на голову козакам полетели камни, бочки, горшки, мешки с песком. Жители вылезли на стены, помогали гарнизону, даже богословы ученые взялись за сабли и ружья. Козаки отступили.
Меж тем из Умани исчез Цесельский. Остался за все отвечать губернатор Младанович. Страшно стало. Решил поляк договориться попробовать с козаками. Тайно связался с Гонтой. Обещал крепость сдать, при обещании не резать католиков, шляхту и поляков вообще:
– В жидах же козаки вольны. – добавил посланец Младановича.
Атаманы, переглянувшись, сказали:
– Пусть все поляки в костелах укроются, не тронем! Открывайте ворота.
Напрасно комендант Ленарт убеждал Младовича не сдаваться, напрасно к этому призывал пылкий шляхтич Шафранский из милиции, землемер бывший, напрасно молили Младановича евреи, на обещания о защите ссылавшиеся. Никого не слушал губернатор. Приказал разрядить все орудия и распахнуть ворота. Жителям всем советовал в храмах спрятаться. Ворвались гайдамаки в город. И началось… Сперва резали евреев. Часть из них в синагоге заперлась. В бой вступила. Дрались отчаянно. Мойша Менакер с Лейбой Шаргородским возглавили сопротивление. С полсотни козаков положили. Да куда там… Приказал Железняк пушки подтащить к синагоге, расстреляли всех в упор. А после никого уже не щадили. Ни детей, ни стариков. Женщинам груди отрубали, перед тем, как убить. Волосы дыбом вставали от зверств того времени полудикого. После, за поляков взялись. Охватывались костелы древние пламенем всесокрушающим, вырывались его языки через окна готические. Кто выскакивал из пожара, под саблями падал сраженный. Немногие спаслись. Женщин польских, что понравились, брали себе козаки в жены, даже детей их усыновляли, всех остальных перебили.
Приволокли к Гонте и самого пана Младановича связанного. Выкрикнул шляхтич в лицо сотнику отчаянно:
– Ты ж обещал, Гонта?
– Ты тоже обещал евреям не выдавать их мне! – отвечал сотник. И слетела к его ногам голова Младановича.
Три дня шла ужастная резня. Весь город был услан трупам. Глубокий колодец на рыночной площади наполнили детьми убитыми. Крестьяне по селам окрестным тем временем вязали евреев-арендаторов и шляхту, свозили в Умань, а пьяные козаки казнили их. Всего погибло около 20 тысяч человек. Некоторые откупиться пытались, гайдамаки охотно брали подношения, а потом убивали. Другие крестились срочно, и таких козаки заставляли участвовать в массовых убийствах других евреев. И убивали. Куда деться…
В память об Уманской резне евреями была составлена особая кина , которую читали в синагогах ежегодно в день 5 таммуза .
Глава 13. А заплатила за все Польша…
Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни,
и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших.
Премудрость Соломона (гл.1, ст.12), Ветхий Завет.
Отпраздновав победу, сели Железняк с Гонтой в Умани, стали рассылать по всей Украине письма. К народу взывать: «Пришло время освободиться из неволи, пришло время отомстить за все наши муки!». В Киев слали донесения, пред властями русскими отчитывались. Верили, что указ Екатерины не был фальшивкой. А по всей Украйне панской разлетались отряды гайдамацкие. И везде путь их был отмечен пожарами и виселицами.
Конфедерация Барская совсем сникла. С одной стороны русские отряды громили их по всей Польше, с другой – гайдамаки вырезали всех поляков и евреев под корень. Вожди конфедерации то и дело прятались за границей. То в турецких владениях, то в венгерских. Сам король уже обеспокоился. Срочно пригласил к себе Репнина, ходил непрестанно по кабинету и в окна выглядывал, то на Свентоянскую улицу, то в сторону Краковского предместья.
Русский министр появился, как всегда неожиданно:
– Я здесь, ваше величество!
– Князь, – без предисловий начал Станислав-Август, – Новое несчастье обрушилось на многострадальную нашу Польшу. Верно, что без Барской конфедерации этого бы не было. Фанатики католические стали насильно заставлять несчастных крестьян нашей Украйны обращаться в грекоуниатскую веру. И вот результат! Они возмутились. Их много и они свирепы. Убиты уже тысячи поляков, священников и евреев. Фанатизм греческой веры и рабский бьется теперь против фанатизма шляхетского и католического. Но это ужасно, князь! Надо остановить их.
– Я сам сильно раздосадован этим гайдамацким бунтом, ваше величество. – Морщась, как от зубной боли, отвечал Репнин. – Я просил, я требовал, чтобы все православные польских областей были переданы в духовное управление белорусского епископа. Так нет, этот мятежный игумен Мотренинской обители спелся с архиереем переяславским и вот вам – бунт!
– Я слышал, будто эти…козаки имеет манифест императрицы?
– Ложь, – опять сморщился Репнин, – фальшивка. Императрица обеспокоена не менее нашего. Гайдамаки подходят близко к границам турецких владений. И это может вызвать не нужные осложнения в наших отношениях с турками. Обрезков и так пишет постоянно, что французы мутят воду изо всех сил и стараются подтолкнуть Порту к войне с нами.
– Но что же делать, князь?
– Я уже отдал приказ генералу Кречетникову покончить с гайдамаками.
– Надеюсь это свершиться быстро. – Король оживился, узнав новость.
– Я тоже, – Репнин поклонился, показывая, что ему надо спешить. Король не задерживал.
Славен город Балта своими ярмарками. Главный товар здесь лошади. Ремонтеры приезжали аж с самой Пруссии и из Саксонии. Заодно торговали рогатым скотом, овцами да баранами. Греки, армяне, евреи, турки, татары все богатели от торговли знатной. Местечко-то было пограничное. В двух шагах, за речкой Кодымой, лишь мостик перейти, турецкая земля начиналась и городок Галта располагался. Конфликтов особых не случалось. Все торговлей больше промышляли.
Сюда, к Балте, неслись козаки сотника Шило, догоняя разбегавшихся от них конфедератов и евреев. Влетели в местечко, перебили всех евреев, дня три отдохнули, и в обратный путь тронулись. Турки это все наблюдали со своей стороны, а как только козаки покинули Балту, не выдержали и накинулись. Зависть замучила, пограбить тоже охота. С ними евреи и поляки спасшиеся. Теперь пришел их черед православных христиан убивать. Товары разграбили, дома подожгли.
Шило, узнав, что турки напали, развернул коней, вернулся и вышиб неприятеля назад, за речку Кодыму. В запале перелетели кони козацкие через мост и… погуляли всласть гайдамаки в Туретчине.
На другой день опять полезли турки, но отбиты были. После этого козаки помирились с турками и многое из награбленного назад вернули.
Адвокат, а ныне глава Барской конфедерации, пан Пулавский пытался уговорить пашу Хотина сообщить о нападении в Стамбул. Но старый турок был мудр и непреклонен:
– Зачем тревожить нашего султана, ибо он тень аллаха на земле?
– Но это ж почти война!
– С чего ты взял, христианин? – пожал плечами недоуменно паша.
– Гайдамаки действуют по указке русской царицы. – с адвокатской пылкостью доказывал шляхтич.
– У Порога Счастья, в Стамбуле, есть мудрый реис-эфенди, ему и решать, а не мне, ничтожному слуге султана. Мы отписали ему, что инцидент исчерпан. Мы замирились с гайдамаками. Нам война не нужна!
Но она нужна была Франции. Герцог Шуазель надавил на своего посла Вержена, тот щедро отсыпал золота, и в Стамбуле забили боевые барабаны. Барон де Тотт, при крымском хане обитавший, в обход паши хотинского подкупил галтинского Якуба. Тот и отписал в Стамбул все в другом свете – дескать не гайдамаки нападали, а русские.
Обрезков вызвали к визирю, но он легко доказал обратное, и добавил от себя:
– Россия не обязана отвечать за всяких разбойников.
Порта потребовала убрать все войска из Польши.
– По окончании всех дел, ибо мы не делаем в Польше ничего, что было бы противно интересам Порты. А если вам потребно, то изложите все на бумаге, я отошлю в Петербург и сообщу ответ немедленно по получении.
– Нет! – требовали, – дай немедленно обязательство, иначе война.
– Обязательства подобного рода не в моей власти давать! – твердо стоял на своем русский министр. Через некоторое время Обрезкова и еще одиннадцать чиновников посольских арестовали, и под улюлюканье толпы отправили в тюрьму Эди-Кюль.
Франция вступила в прямую конфронтацию с Россией, не гнушаясь мелкими пакостями. Так в письмах, адресованных Екатерине, вдруг исчезло прилагательное «императорское» при существительном «величество».
– Что означает сие? – немедленно последовал вопрос русского министра Голицына.
Шуазель, пожав плечами, пустился в пространные разъяснения, что выражение «majeste imperiale» не согласуется с французскими правилами словообразования.
– Французские короли, князь, принимая титул величества, не прибавляют к нему никаких прилагательных, а потому не могут и другим коронованным особам давать эпитеты.
Екатерину это задело. Она тут же указала Голицыну:
– Против регул российского языка не принимать никаких грамот без надлежащей титулатуры!
Письма перестали принимать, а Голицына по требованию Франции заменили поверенным в делах Хотинским.
Ему, герцог Шуазель заявил с ходу:
– Мы не уступим!
Но Хотинский тоже был не промах:
– И мы не уступим!
Петербург зашевелился.
– Что там за гайдамаки такие объявились? – проявила интерес к происходящему на Украине Екатерина.
– Против Барской конфедерации поднялись казаки да крестьяне. – Ответствовал ей Панин. – Говорят, с твоим манифестом в руках громят поляков и жидов? А, матушка?
– Я и … как их, гайдамаки? Ты в своем уме-то, Никита Иванович? – рассмеялась императрица. – То что супротив конфедератов бьются, это хорошо, а вот с турками ссорить нас не с руки. Передай Репнину в Варшаву, пущай утихомирит. А то глядишь к нам бунт перекинется, да и Обрезкову в Стамбуле совсем тяжко станет с турками совладать.
Генералу Кречетникову приказ из Варшавы не по душе пришелся. Мало того, что гайдамаки были хорошей подмогой в борьбе с конфедератами, так еще Репнин требовал пленить вожаков и разделить. Тех, кто под польской короной был – выдать панам, а прочих – запорожцев, слободских, в Сибирь. Но приказ, есть приказ, надо выполнять. Вызвал к себе донского атамана Гурьева:
– Отправляйся со своими донцами. Успокоить нужно запорожцев с украинцами. Исполняй!
Ничего не сказал Гурьев, выходя от генерала, только слова деда Игната своего вспомнил:
–Не будет прощенья хохлам треклятым! Запомни то, внучок. Мсти, коли встретишь.
Послал тогда гетман Мазепа казаков своих да запорожских бунт булавинский давить на Дону. Много крови казацкой пролилось… Еле выжил молодой Игнат Гурьев. От удара запорожской шаблюки руки лишился. На всю жизнь отметина. Как и ненависть к предателям воли казачьей. Вышел его внук, а ныне полковник, к своим есаулам, приказал всех казаков собрать. Взглянул грозно – утихомирились все разом, замолчали:
– Братья казаки! – начал речь Гурьев, – ведомо ли вам, как хохлы усмиряли наши городки на Дону? Как наших дедов казнили люто? После них обезлюдел Тихий Дон. Кого смерти предали, кого выслали навечно.
– То знаем, атаман! – отозвались донцы, желваки заходили у многих.
– Ныне, – руку поднял, шум останавливая, – идем брать в полон гайдамаков хохлацких. Слушай меня все! Много их, брать потому будем хитростью.
– О, паны-козаки донские в помощь к нам пожаловали! Конец теперича ляхам да жидове! – радостно встретили донцов Гурьева Железняк с Гонтой. Пир горой, да дым коромыслом. Гайдамаки песню затянули:
Йихалы козаки из Дону до дому
Пидманули Галю, зибрали с собою
Ой, ты Галю, Галю молодая
Пидманули Галю, зибрали с собою…
Гурьев аж зубы стиснул. Рука сама легла на рукоять сабли. Сдержался. Пущай напьются!
После, уже связанные, лежали вместе Железняк и Гонта.
– Що теперь буде? – шепнул сотнику запорожец.
– А буде, що Бог даст! – философски отвечал Гонта.
А было все следующим образом: Ивана Гонту с 845 товарищами выдали полякам. Всех казнили самым зверским способом. Трупы козаков были развешаны от Умани. Винницы, Брацлава до Львова. С Гонты сперва сняли живьем двенадцать полос кожи. Усмехнулся бывший сотник уманьский:
– От казали: буде болити, а вина ни болить, так паче блохи кусають!
Затем четвертовали Гонту, а после разрубили еще на четырнадцать кусков, в четырнадцати городах на площадях развесили.
Максим Железняк, а с ним еще 73 запорожца, были заключены в Киево-Печерский монастырь. После суда отправлены в Сибирь. 1 ноября 1768 года они пытались бежать из-под караула в районе Ахтырки, но были схвачены. Дальнейшая судьба не известна.
Память о них долго хранилась в малороссийском народе. Им посвящена поэма Тараса Шевченко «Гайдамаки».
В тот же день, что неудачным оказался для побега Железняка со товарищи, Россия получила известие о начале войны с Турцией. Гайдамаков задавили, татары тут же вторглись, конфедераты оживились, а тут и война подоспела. Держись теперь!
– Татары уже ушли из пределов русских. Турки раньше весны не начнут. – Панин сообщил императрице. Екатерина в волнении ходила по кабинету. Думала.
– В первую очередь с конфедератами покончить! За зиму к войне изготовиться.
В ноябре Суздальский полк был сорван приказом с квартир и вышел маршем на Польшу. Предстояло пройти 869 верст в самое ненастное время года, в грязь и распутицу. Суворова два месяца назад произвели в бригадиры, он обратился за помощью к губернатору Сиверсу, получил в свое распоряжение множество подвод и рассадив на них весь полк, с поспешностью вышел в поход.
– Надлежить непрестанно тому обучать, как в бою поступать, господа офицеры! – не уставал повторять Суворов на ходу. На растагах тут же учение учинял. Проверял, как научились ружья заряжать. Сам показывал:
– Патрон склеиваешь… Скуси… Теперь сыпешь немного пороху на полку… Остальное – в ствол… закупориваешь пулей с бумажной гильзой и шомполом, шомполом. Повторить можешь? – вернул ружье солдату.
Веселов на удивление ловко перезарядил. И стрелял отлично. Ни одного промаха.
– Искусен ты братец в огневом деле. – похвалил Суворов. И отступив в сторону, слегка прищурился, – Веселов?
– Так точно, ваше высокопревосходительство! – бодро ответствовал Петр.
– Молодец! Не посрамишь своего батюшку. А штыковому бою, обучен?
– В совершенстве! – вмешался ротный.
– Значит, поздравляю с капральством, Веселов!
Так и двигались. По 28 верст за переход. Через месяц Суздальский полк был под Смоленском, за тридцать дней захворало шестеро и пропал один. И начались бесконечные погони и стычки с конфедератами. Пулавский метнулся было в Литву, но Суворов настиг его у Влодавы и разгромил.
Из Франции прибыл капитан Дюмурье для установления порядка и единства в действиях конфедератов. Но француз был неприятно поражен нравами, царившими среди вождей – изумительная роскошь, безумные траты, длинные обеды и пляски.
– Вы привезли денег, мой дорогой друг? – увлекая капитана в сторонку, доверительно зашептал ему на ухо Пулавский.
– Нет! – честно ответил капитан.
– Как! – в отчаянии воскликнул бывший адвокат.
– А зачем? – прямолинейно спросил Дюмурье, – судя по вашему образу жизни вы ни в чем не нуждаетесь.
– Но у нас армия в 17 тысяч человек. Их надо содержать! – негодовал Пулавский.
– Это не армия. – парировал француз, – это сброд, который подчинен десятку вождей, несогласных между собой. Вы подозреваете друг друга, деретесь между собой, переманиваете солдат. У вас нет пушек, нет пехотинцев. Одна конная шляхта, дурно вооруженная, не имеющая понятия о воинской дисциплине, не желающая подчиняться. Вы не можете оказать достойного сопротивления не только линейным русским войскам, но и казакам. – Дюмурье схватился за голову, осознав в какую авантюру он ввязался.
Под Ореховым, Суворов с двумястами суздальцами, да сотней казаков и карабинеров атаковал три тысячи конфедератов сыновей Пулавского – Казимира и Франца-Ксаверия. Один к десяти! Сперва шляхта к лесу прижала их, но Суворов ударил пушками с флангов, и:
– Вперед, мои чудо-богатыри! – На штыках суздальцы брали конную шляхту. Видано ли такое?!
– Ах, молодцы, вы мои! – восхищался атакой своих егерей и гренадеров Суворов. Веселов Петька тож отличился. Троих конных с земли штыком достал. Опешили паны, коней заворачивать стали. Напрасно братья Пулавские остановить их пытались:
– Стойте, пся крев! – куда там… понеслись, дороги не разбирая. А в спину им уже летело:
– Руби их в песи! – … и сталью казачьей безжалостной по спинам да головам доставали. А тут и карабинеры подоспели. Залп за залпом всаживали. Грохнулся с коня наземь Франц-Ксаверий Пулавский, брата от смерти неминуемой заслонив. Остальные ушли, кто смог, конечно. Никого не осталось от воинства панского. Разбежались, куда глаза глядят. Осиротевший Казимир сам поехал на следующий день в русский лагерь, просил выдать тело брата.
Суворов и не возражал. Принял противника с почестями, уважительно. Побеседовал с Пулавским накоротке. Поразил он поляка:
– Как же вы, ваше превосходительство, со столь малым числом людей атаковать нас решились?
– Так сударь мой разлюбезный привык я так. Не числом, а умением! – руками развел Александр Васильевич. – Аль результатом недовольны? Простите великодушно старика.
Месяца два спустя был Веселов вызван в палатку к Суворову. Там стол накрыт с обедом дымящимся, офицеры все полковые расселись. Лишь Суворов с капитаном Нобоковым стоят. Растерялся Веселов. Застыл на пороге не решительно.
– Заходи, заходи, герой, – приветливо помахал рукой командир, – гостем отныне будешь. Чти, Набоков! – приказал. Капитан развернул бумагу какую-то, начал читать вслух:
– Храброго же Суздальского полка сержанта Веселова, произвести преимущественно пред прочими в прапорщики…
– Хватит! – прервал его Суворов, – чего там еще далее… Стул, господину прапорщику! Садись с нами, герой, отныне ты в звании офицерском! Ах, господа, – это уже всему собранию, – как бы хотелось мне сейчас на юге оказаться. С такими-то молодцами, как вы, как наш прапорщик вновь произведенный, дали б мы туркам жару! Надоело, господа, надоело, по лесам, да болотам, яко гайдамакам каким-то гоняться за этой шляхтой. Но, на то мы и слуги государевы. Ибо служим там, где предопределено нам.







