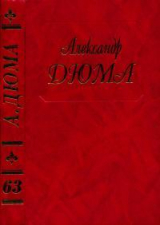
Текст книги "Путевые впечатления. Год во Флоренции"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц)
«Охрана моего узника будет обеспечена так тщательно, что я могу ручаться Вам за ее полную надежность».
И в самом деле, милейший г-н де Сен-Мар сумел создать для своего узника образцовую тюрьму; эта тюрьма, по словам Пиганьоля де Л а Форса, освещалась единственным окном, выходившим на море и пробитым на высоте пятнадцати футов над дозорным путем. Помимо обычной решетки, это окно было забрано тремя рядами железных прутьев, отделявших узника от караульных.
Во время пребывания узника на островах Сент-Маргерит г-н де Сен-Мар редко заходил в его камеру, опасаясь, что какой-нибудь любопытный подслушает их разговор. Обычно он открывал дверь и становился на пороге так, чтобы можно было, не прерывая беседы, следить, не появится ли кто-нибудь на том или другом конце коридора. Как-то раз во время такой беседы сын одного из друзей г-на де Сен-Мара, несколько дней гостивший на острове, стал искать коменданта, чтобы попросить у него разрешения взять лодку для переправы на берег, и издалека увидел, что тот стоит на пороге какой-то камеры. По-види-мому, разговор между узником и г-ном де Сен-Маром в эту минуту был весьма оживленным, ибо комендант не услышал шагов юноши, пока тот не оказался вблизи него. Он ринулся назад, мгновенно закрыл дверь в камеру и, побледнев, спросил юношу, видел ли и слышал ли тот что-нибудь. Вместо ответа юноша отвел его на то место, где был: увидеть или услышать что-либо оттуда было почти невозможно. Только тогда г-н де Сен-Мар немного успокоился; тем не менее в тот же день он отправил молодого человека домой, и в письме его отцу, объясняя необходимость столь внезапного отъезда, написал:
«Эта оплошность могла обойтись Вашему сыну очень дорого у и я отправляю его домой, опасаясь, что он может совершить еще какой-нибудь неосторожный поступок».
В другой раз случилось так, что Железная маска, которому подавали еду на серебре, раздобыл гвоздь, нацарапал несколько строк на серебряном блюде и бросил это блюдо в окно сквозь тройную решетку. Какой-то рыбак подобрал его на берегу моря и, зная, что серебряная посуда может быть только в крепости, отнес его коменданту.
– Вы прочли надпись на блюде? – спросил г-н де Сен-Мар.
– Я не умею читать, – ответил рыбак.
– Кто-нибудь видел его у вас в руках?
– Я его только что нашел и тут же понес вашему сиятельству, спрятав под курткой, чтобы меня не приняли за вора.
Господин де Сен-Мар на мгновение задумался, а потом отпустил рыбака.
– Ступайте, – сказал он, – вам повезло, что вы не умеете читать!
Год спустя примерно такую же находку сделал подручный хирурга, однако ему не так посчастливилось, как рыбаку. Он увидел, как на волнах колышется что-то белое, и решил это выловить; найденное им оказалось рубашкой тончайшего полотна, на которой, за отсутствием бумаги, смесью из сажи с водой вместо чернил и отточенной, как перо, куриной косточкой узник описал всю свою историю. Господин де Сен-Мар задал подручному хирурга такой же вопрос, как и рыбаку; тот ответил, что читать-то он умеет, но прочесть написанное на рубашке побоялся, думая, что там может содержаться какая-нибудь государственная тайна. Господин де Сен-Мар с задумчивым видом отпустил его, а на следующий день бедного парня нашли в постели мертвым.
Примерно в это же время скончался лакей, служивший человеку в железной маске, и на его место пришла наниматься одна бедная женщина; но, когда г-н де Сен-Мар сказал, что ей придется навеки поселиться в тюрьме, где находится ее будущий хозяин, и что отныне ей будет запрещено видеться с мужем и детьми, она отказалась принять эти условия и удалилась.
В 1698 году г-н де Сен-Мар получил приказ перевезти узника в Бастилию. Понятно, что во время такого длительного путешествия были приняты усиленные меры предосторожности. Человек в железной маске находился в крытых дорожных носилках, за которыми следовала карета г-на де Сен-Мара. Носилки были окружены несколькими верховыми, имевшими приказ стрелять в узника, если он заговорит или же предпримет хоть малейшую попытку к бегству. По пути г-н де Сен-Мар остановился на сутки в своем поместье Пальто. Ужин был подан в нижней зале, выходившей окнами во двор. В эти окна можно было увидеть, как ужинают тюремщик и заключенный. Человек в железной маске сидел спиной к окнам; он был высокого роста, одет в темное платье и ел, не снимая маски, из-под которой сзади выбивались пряди совершенно седых волос. Напротив сидел г-н де Сен-Мар, справа и слева от его тарелки лежало по пистолету; прислуживал за столом только один лакей, и всякий раз, входя в залу или выходя из нее, он запирал за собой дверь на два оборота ключа.
Ближе к ночи г-н де Сен-Мар приказал постелить себе на походной койке, поставленной поперек двери в той же комнате, где ночевал узник.
На следующий день они двинулись дальше, соблюдая все те же предосторожности. В четверг, 18 сентября 1698 года, в три часа пополудни они прибыли в Бастилию. Человека в железной маске на вечер поместили в башню Базиньер; когда наступила ночь, г-н Дюжонка сам препроводил его в башню Бертодьер, в третью камеру, которую для него превосходно обставили, как отмечено в дневнике г-на Дюжонка. Господину Розаржу, прибывшему вместе с г-ном де Сен-Маром с островов Сент-Маргерит, было доверено, как следует из того же дневника, прислуживать узнику и ухаживать за ним; провизию же ему доставлял комендант.
Однако, помня о рубашке, найденной на берегу моря, комендант сам прислуживал за столом узнику и сам после трапезы уносил столовое белье. Вдобавок узнику строжайше запретили говорить с кем-либо, а также показывать кому бы то ни было свое лицо в те краткие мгновения, когда комендант, самолично открыв замок маски, позволял снять ее. В случае если бы узник осмелился преступить любой из этих запретов, часовым было приказано стрелять в него.
Так несчастный узник прожил в Бастилии с 18 сентября 1689 года до 19 ноября 1703 года. В этот день в упомянутом дневнике появилась следующая запись:
«Неизвестный узник, всегда носивший черную бархатную маску[7], вчера после мессы почувствовал себя немного хуже обычного и умер сегодня в десять часов вечера, не испытав никакой тяжелой болезни. Господин Жиро, наш капеллан, принял у него вчера исповедь. Умер он так внезапно, что не успел причаститься, и наш капеллан напутствовал его за мгновение до кончины. Его похоронили во вторник 20 ноября в четыре часа пополудни на кладбище Сен-Поль. Похороны обошлись в сорок ливров».
А вот что было обнаружено в книге записи похоронных служб церкви Сен-Поль:
«В году 1703-м, ноября 19-го дня, Марчиали, от роду сорока пяти лет или около того, скончался в Бастилии, и тело его было погребено на кладбище Сен-Поль, в его приходе, 20-го дня того же месяца, в присутствии нижеподписавшихся майора Бастилии г-на Розаржа и хирурга Бастилии г-на Реля».
Однако было и еще кое-что, о чем не сказано ни в реестрах Бастилии, ни в церковной книге: меры предосторожности, которыми этот несчастный был окружен при жизни, продолжали преследовать его и после смерти. Лицо его изуродовали, облив серной кислотой, чтобы его нельзя было узнать в случае эксгумации; затем сожгли всю мебель в его камере, взломали пол, сбили потолок, обыскали все углы и закоулки, выскребли и заново побелили стены и, наконец, вынули все стекла из окна, из опасения, что между рамой и стеклом спрятана записка или какая-нибудь вещь, по которой можно будет узнать его имя.
С 19 ноября 1703 года по 14 июля 1789 года все это было окутано непроницаемой тайной – так прочны были стены Бастилии, так надежно были заперты ее железные ворота; но вот однажды стены эти рухнули от пушечных выстрелов, ворота распахнулись под ударами топора и ликующие крики тех, кто принес с собой свободу, донеслись до самых глубоких подземелий, где, казалось, умерло все, даже эхо, не сразу откликнувшееся на это ликование.
Первой заботой победившего народа было спасение живых, однако в темной и зловещей крепости оказалось всего восемь заключенных. Тогда пронесся слух, будто за несколько дней до этого более шестидесяти узников были переведены в другие королевские тюрьмы.
Проявив участие к живым, вспомнили и о мертвых; среди величественных теней, населявших развалины Бастилии, выделялась гигантская и мрачная фигура безликого призрака – Железной маски. Стали искать следы этого несчастного в башне Бертодьер, где, как было известно, он провел пять лет; осмотрели стены, пол и оконные стекла, сумели прочесть все изречения, молитвы и проклятия, какие только могли начертать праздность, покорность судьбе или отчаяние в этих неведомых миру архивах, которые заключенные, умирая, завещали друг другу, – но все было напрасно: тайна Железной маски так и осталась между ним самим и его мучителями.
Вдруг во дворе послышались громкие крики. Один из победителей нашел книгу записи заключенных Бастилии, где была указана дата поступления и выхода каждого узника – эту систему изобрел и ввел в действие майор Шевалье. Книгу отнесли в ратушу, поскольку члены муниципального собрания пожелали самолично найти разгадку столь ревниво сохраняемой королевской тайны. И вот открыли записи за 1698 год. Страница 120-я, где должна была находиться запись за четверг 18 сентября, была вырвана. Поскольку данных о поступлении заключенного не оказалось, решили найти запись о его выходе. Но страница с записью за 19 ноября 1703 года также отсутствовала, и, увидев это отнюдь не случайное совпадение, люди утратили всякую надежду узнать тайну человека в железной маске.
КАПИТАН ЛАНГЛЕ
Когда ужин был готов, трактирщик махнул нам рукой, чтобы мы возвращались; мы с большой охотой последовали этому приглашению. От морской воды и воздуха у нас разыгрался зверский аппетит; мы подумали, что те же причины должны были произвести такое же воздействие на нашего попутчика, который, войдя в воду одновременно с нами и одновременно с нами выйдя на берег, теперь одевался. Приступив к этому же занятию, мы спросили, не хочет ли он разделить с нами ужин. Он ответил, что ему доставит большое удовольствие сделать это, если только мы позволим ему заплатить за себя. Мы ответили, что тут, как и в случае с морским купаньем, он волен поступать как ему угодно: либо считать себя нашим гостем, либо заплатить за себя, поскольку нам не хотелось ни в чем задевать его гордость. Он настоял на том, чтобы заплатить, и мы сели за стол.
Ужин был сказочный: нас накормили по-королевски. Каждый заплатил по тридцать су.
За ужином мы расширили наше знакомство с молодым человеком и, пользуясь тем, что он, по-видимому, стал относиться к нам с большим доверием, спросили, куда он направляется. Он заулыбался простодушной улыбкой, не лишенной обаяния.
– Я вам сейчас скажу ужасную глупость, – ответил он. – Вы спрашивайте, куда я еду, не так ли?
– Если только такой вопрос не кажется вам нескромным, молодой человек, – сказал Жаден, чокаясь с ним.
– Так вот, я не имею об этом ни малейшего понятия! – ответил юноша.
– То есть как? – удивился Жаден. – Значит, вы просто-напросто бродите с места на место? Позвольте сказать вам: это нельзя назвать положением в обществе.
– Боже мой! – краснея, воскликнул молодой человек. – Если бы я не боялся, что вы сочтете меня нескромным, я рассказал бы вам свою историю.
– Она очень длинная? – поинтересовался Жаден.
– Я могу рассказать ее за две минуты, сударь.
– Тогда налейте-ка мне еще стаканчик этого здешнего винца, оно совсем недурно, и рассказывайте.
История действительно оказалась короткой, но от этого не менее невероятной.
Нашего попутчика звали Онезим Шэ. Родители оставили ему тысячу двести франков ренты; он служил пятым письмоводителем у нотариуса в Сен-Дени и приехал в Тулон за небольшим наследством в полторы тысячи франков, которое завещала ему тетушка.
По воле случая мы оказались в Тулоне в одно время с ним. Юношеское любопытство заставило его отчаянно, но безуспешно искать встречи с Жаденом и со мной; наконец он узнал, что мы уезжаем из Тулона фрежюсским дилижансом; тогда, уступая своему любопытству, он заказал в том же дилижансе место до Ле-Люка, рассчитывая потом из Ле-Люка добраться до Экса, а оттуда до Авиньона; однако в Ле-Люке наше общество настолько обворожило его, что он доехал с нами до Фрежюса; во Фре-жюсе, как я уже упоминал, он попросил разрешения поужинать за противоположным от нас концом стола. Любезность, с какой мы разрешили ему сделать это, покорила его еще больше. Услышав, как мы говорим о бухте Жуан, он решил побывать там одновременно с нами; теперь же, поскольку он находился в пути, ему хотелось бы, если мы позволим, сопровождать нас до Ниццы. При условии, разумеется, что он заплатит за место в нашей карете, добавил он.
Если бы наш сотрапезник был чуть менее наивен, мы подумали бы, что он над нами издевается; но его лицо говорило само за себя – это было воплощенное добродушие.
И мы ответили ему, что, если уж он непременно хочет заплатить за место в нашей карете, пусть сам подсчитает, сколько он нам должен, за вычетом тех восьми или десяти льё, которые мы проехали без него и за которые брать с него деньги было бы несправедливо. Он достал карандаш, вычел соответствующую сумму, проверил полученный результат и вручил нам девятнадцать франков семьдесят пять сантимов, со слезами на глазах благодаря за оказанную ему великую милость.
Стали садиться в карету, и наш попутчик, как мы с Жаденом его ни уговаривали, сел спиной к движению, и никак иначе.
Когда мы приехали в Антиб, Жаден уже называл его просто Онезимом. К концу ужина он говорил ему «ты». А на следующий день он нещадно похлопывал его по спине.
Онезим же, со своей стороны, всю дорогу разговаривал с Жаденом с глубочайшим уважением; он по-прежнему называл его «господин Жаден» и ни разу ни на кого не поднял руку, даже на Милорда.
В Ницце дружеская привязанность Онезима к Жадену усилилась настолько, что у него не хватило духу расстаться с другом, и из Ниццы он отправился с нами во Флоренцию.
Оказавшись во Флоренции, Онезим не пожелал покинуть Италию, не увидев Рима, и из Флоренции отправился с нами в Рим.
Короче говоря, Онезим объехал вместе с нами почти всю Италию. На это ушло все наследство его тетушки, вплоть до последнего су.
А затем он, веселый и радостный, вернулся в Сен-Дени, унося с собой, как он нам сказал, воспоминания, каких ему хватит на всю оставшуюся жизнь.
Что было потом?.. Потом оказалось, что теперь уже Жадену стало чрезвычайно трудно обходиться без Онезима.
Я забегаю вперед в моем рассказе, чтобы вы сразу могли понять, каким славным малым был наш попутчик.
Они с Жаденом ночевали в одной комнате, отделенной от моей тонкой перегородкой, и я долго не мог заснуть, слыша, как Жаден дает ему советы по поводу правил поведения в жизни.
В шесть часов утра меня разбудили звуки церковных песнопений. В ту же минуту Жаден открыл дверь ко мне и крикнул, чтобы я выглянул на улицу.
По улице двигалась похоронная процессия, которую сопровождали человек двадцать кающихся в длинных синих одеяниях и остроконечных капюшонах, скрывавших лицо. Эти кающиеся и распевали во все горло.
Никогда прежде нам не приходилось видеть подобного зрелища; мы бросились одеваться. В одно мгновение Жаден и я были одеты. Мы спустились по лестнице, прыгая через две ступеньки, и присоединились к процессии. Онезим, которому Жаден приказал задержаться, чтобы расспросить хозяина гостиницы, вскоре присоединился к нам и сообщил, что покойник – молодой подмастерье каменщика, погибший накануне от несчастного случая, и что его гроб сопровождает братство кающихся при церкви Святого Духа и святой Клары, той самой церкви, где в 1815 году содержали двадцать пленных французов из отряда Касабьянки.
Это напомнило нам о милейшем капитане Лангле.
Тем временем кающиеся быстрым шагом, не переставая петь, приближались к кладбищу. Нам захотелось посмотреть, как закончится церемония, и мы пошли вслед за процессией.
Всю дорогу я шел рядом с одним кающимся, которого, к моему большому удивлению, по-видимому, очень беспокоило мое соседство. Раз десять он оборачивался, не прерывая пения, бросал на меня беспокойные взгляды и каждый раз все глубже надвигал на глаза капюшон; под конец ему уже приходилось идти чуть ли не вслепую. Заглядывать в молитвенник, который он для виду держал раскрытым, ему не было надобности: он знал службу наизусть. Когда процессия вошла на кладбище, он постарался отойти как можно дальше от меня, но при этом оказался возле Жадена, которому я сделал знак понаблюдать за ним: у меня возникло одно странное подозрение.
Четыре каменщика, несшие на плечах открытый гроб, поставили его у края могилы. После того, как каждый из них по очереди окропил покойника святой водой, крышку гроба приколотили гвоздями – я уже видел такое на кладбище в Бо – и гроб был опущен в могилу.
В это мгновение кающиеся запели «Libera me»[8].
Я подошел к Жадену: он все еще стоял неподалеку от того кающегося, которого, по-видимому, так сильно взволновало мое присутствие. Кающийся распевал во все горло.
– Вы не узнаете этот голос? – спросил я Жадена.
– Постойте, – сказал он, напрягая память, – кажется, узнаю.
– Теперь подойдите сюда, – сказал я, поворачивая его лицом к поющему.
– Вы не узнаете этот рот? – спросил я снова.
– Постойте, постойте… Да нет, не может быть!
– Дорогой мой, одно из двух: либо на свете два таких рта, а это вряд ли возможно, либо это рот…
– …капитана Лангле, верно?
– Вы сами это сказали.
Кающийся, заметив, что мы его разглядываем, начал строить всяческие гримасы, чтобы его нельзя было узнать.
– Ах ты старый шут! – вырвалось у Жадена.
– Тсс! – произнес я, беря его за руку и увлекая в сторону.
– Вот уж нет, вот уж нет, – не унимался Жаден, – я хочу узнать у него новости о господине де Вольтере.
– Давайте дождемся, пока он выйдет с кладбища, и тогда спрашивайте у него все что хотите.
– Вы правы.
Мы вышли и стали ждать у ворот кладбища. Наш кающийся вышел одним из последних, и капюшон на нем был надвинут еще плотнее, чем раньше.
– A-а, капитан, здравствуйте! – сказал Жаден и хлопнул его по животу.
Капитан, видя, что его узнали, мужественно принял свою неудачу: он снял капюшон, и нам открылось лицо, отнюдь не исполненное монашеской суровости.
– Ну да, это я! – сказал он со своим неповторимым провансальским выговором. – Что поделаешь, с волками жить, по-волчьи выть; они тут осведомлены о моих бонапартистских взглядах и о моем почитании великого господина де Вольтера, а я не хочу, чтобы меня в порошок стерли, как этого славного маршала Брюна. Да и к тому же, что со мной сталось, оттого что я это надел? Сердце-то под этим осталось прежнее, ведь так? А сердце у меня, еще раз вам повторяю, на самом деле бонапартистское. Думаете, я знаю, что написано в этом молитвеннике? Да я ни слова не понимаю по-латыни.
– Но, капитан, – возразил я, – вы оправдываетесь в поступках, которые, по-моему, вполне заслуживают одобрения.
– Нет, просто вы могли подумать, будто я верю во все эти глупости, верю во все это притворство, годное лишь для баб и детворы.
– Успокойтесь, капитан, – сказал Жаден, – мы подумали, что вы большой озорник, только и всего.
– Да будет вам!.. Ладно, так оно и есть: я озорник, славный малый, весельчак. Вы уже пообедали?
– Нет, капитан.
– Хотите, пообедаем вместе?
– Благодарим, капитан, но у нас нет времени.
– О! Напрасно отказываетесь. Я рассказал бы вам забавные истории про святош и спел бы очень смелые песни о Наполеоне.
– Мы бесконечно вам признательны, капитан, но нам надо сегодня засветло добраться до Ниццы.
– Не хотите, значит?
– Не можем.
– Ну что ж, тогда желаю доброго пути, – сказал капитан, протягивая нам руку.
Мы поняли, что выведем его из затруднительного положения, если разойдемся с ним в разные стороны. Поэтому мы не стали больше его мучить, пожали протянутую руку и пожелали ему всяческих благ.
В гостинице нас уже ждал обед. Мы приказали запрягать, чтобы сразу после обеда отправиться в путь.
– Надо полагать, – со смущенным видом сказал хозяин, – господа направляются в Ниццу?
– Ну да, а в чем дело?
– Тогда господам следует подать паспорта на подпись консулу его величества Карла Альберта.
– Но у нас есть виза королевского посольства в Париже, – возразил Жаден.
– Все равно, – упорствовал хозяин, – господа не смогут въехать в Сардинию, если не получат визы в Антибе.
– Дайте мне ваш паспорт, – сказал я Жадену, – жить надо всем, даже королям.
Внеся по тридцать су каждый на цивильный лист короля Карла Альберта, мы обрели право въезда в его владения.
Пользуясь обретенным правом, мы сели в карету.
Два часа спустя мы достигли берега Вара.
Предмостное укрепление охраняли таможенники. Поскольку мы выезжали из Франции, никаких дел с французской таможней у нас быть не могло. И мы гордо поехали дальше.
За таможней стояли двое часовых, с которыми нам тоже разбираться не пришлось.
За часовыми нас поджидал полицейский комиссар.
Тут дело приняло совершенно другой оборот. После того как комиссар тщательно сверил описание моей наружности в паспорте с моей физиономией и проделал то же самое в отношении Жадена и Онезима, ему пришла в голову мысль, будто одна из двух дам, находившихся в нашей карете, – не иначе как сама герцогиня Беррийская. Он вздумал придраться к тому, что она якобы выглядит моложе двадцати шести лет – возраста, указанного в ее паспорте. Такое осложнение было чрезвычайно лестным для дамы, но крайне досадным для нас, и я позволил себе сделать комиссару несколько замечаний по этому поводу.
Комиссар ответил, что ему лучше знать, в чем состоят его обязанности, и что, если я не замолчу, он прикажет двум жандармам препроводить меня обратно в Антиб.
Тогда я заметил ему, что паспорт у меня в полнейшем порядке.
– А мне какое дело? – сказал комиссар. – Какое мне дело, в порядке ваш паспорт или нет? Плевать я хотел на ваш паспорт!
И с этими словами он вернулся в свою будку.
Мне стало ясно, что комиссар либо наглец, либо дурак, а с представителями этих двух человеческих разновидностей надо вести себя осторожно, если у них в руках власть.
Поэтому я умолк и удовольствовался тем, что в душе пожелал комиссару такого повышения по службе, при котором он оказался бы на берегу какой-нибудь более глубокой реки.
Не прошло и получаса, как господин комиссар вышел из будки и с высокомерием, исполненным снисходительности, сообщил нам, что не будет препятствовать нашему выезду.
И мы свернули на мост.
На середине моста стоит пограничный столб.
С одной его стороны написано «Франция», на другой стороне начертан крест, что должно означать «Сардиния».
Мы обернулись, желая сказать отечеству последнее прости.
А затем, с волнением, которое я испытывал всякий раз, покидая родину, я сделал шаг вперед.
Этого шага было достаточно, чтобы преодолеть рубеж, разделяющий два королевства. Мы ступили на италийскую землю и оказались во владениях его величества короля Карла Альберта.
КНЯЖЕСТВО МОНАКО
Есть немало такого, что неприятно королю Сардинии, но пять вещей вызывают у него особую неприязнь: табак, изготовленный вне его государства; новая, нераскроенная ткань; либеральные газеты; философские сочинения;
авторы философских и любых других сочинений.
У меня не было с собой табака, вся моя одежда была ношеной, из газет в моем багаже были только три номера «Конституционалиста», в которые были завернуты мои сапоги, а из книг – только «Путеводитель по Италии» и «Домашняя кухня»; вдобавок мое имя имело честь быть совершенно неизвестным начальнику таможни, а потому въехать в Сардинию мне оказалось гораздо проще, чем выехать из Франции.
Правда, на дне моего ружейного ящика лежали две или три сотни патронов, и я очень боялся за них; однако его величество Карл Альберт, в бытность свою принцем Кариньяно, по-видимому слишком свыкся с порохом, чтобы опасаться его теперь. Королевские таможенники не обратили никакого внимания на мои патроны.
Непонятно, в сущности, почему короля Карла Альберта так раздражают революции, ведь этот государь, по сравнению с остальными, менее всего может на них пожаловаться. Несколько веков назад его предки, герцоги Савойские, были не более как владетелями славного, но захудалого герцогства и назывались просто-напросто «Господа Савойские»; затем Ницца, устав от потрясений, последовавших за смертью королевы Иоанны, вручила свою судьбу Амедею VII, прозванному Красным; в 1815 году с Генуей случилось то же, что с Ниццей в 1388-м, с той лишь разницей, что Ницца перешла под власть Савойского дома добровольно, а Генуя была захвачена; как бы там ни было, сегодня эти два куска, прихваченные прежними герцогами и новыми королями на западе и на востоке, приятно округляют территорию Сардинского королевства и превращают его в маленькую европейскую державу, которая, благодаря мудрости и воинственному духу своего короля, занимает достойное место на военной карте Европы.
Однако герцоги Савойские не всегда одни пользовались расположением своей прекрасной провансальской возлюбленной: в 1543 году Ниццу осадила соединенная франко-турецкая армия; Барбаросса и герцог Энгиенский потребовали от губернатора Андре Одине сдать город; но Андре Одине ответил: «Мое имя – Монфор, в гербе у меня – стол бы, а мой девиз гласит: “Держись до последнего”». Хотя Андре Одине как храбрый солдат сделал все возможное, чтобы оправдать свое геральдическое заявление, он вынужден был отступить в крепость, и Ницца капитулировала.
В 1691 году Катина, в свою очередь, осадил и взял Ниццу, благодаря бомбе, попавшей в донжон крепости, где был пороховой склад. В 1706 году герцог Бервик захватил Ниццу таким же образом, как Катина, и, чтобы избавить своих последователей от штурма крепости, затруднявшего дело его предшественникам, разрушил ее до основания. Поэтому в 1793 году Ницца сдалась без всякого сопротивления и вплоть до 1814 года была главным городом департамента Приморские Альпы.
В 1814 году Ницца в четвертый раз возвратилась к своим вечным возлюбленным – герцогам Савойским и королям Сардинии.
Эмблема Ниццы – женщина-воительница со шлемом на голове, с обнаженной грудью и запечатленным на сердце серебряным савойским крестом; в правой руке у нее оголенный меч, в левой – серебряный щит, на котором изображен красный двуглавый орел с распростертыми крыльями; лапы орла упираются в зеленый утес, омываемый волнами. И наконец, у ее ног находится пес, символизирующий верность, и надпись: «Nicaea fidelis[9]».
Сколь бы лестной ни была эта эмблема для Ниццы, нам кажется, что правильнее было бы представить ее в виде красавицы-куртизанки, томно возлежащей у лазурной глади моря, под сенью цветущих апельсиновых деревьев, с распущенными волосами, которыми играет морской ветерок, и обнаженными ногами, к которым льнут волны, ибо Ницца – город сладостной лени и доступных удовольствий. Это город более итальянский, чем Турин или Милан, и, несомненно, почти столь же греческий, как Сибарис.
Нет на свете ничего пленительнее Ниццы приятным осенним вечером, когда море, чуть колеблемое ветром, прилетевшим из Барселоны или Пальмы, тихо рокочет, а светляки словно сыплются с неба, как падучие звезды. Тогда в Ницце начинается гулянье в месте, называемом Терраса, возможно единственном в своем роде, где теснятся бледные и хрупкие женщины, не имеющие сил жить в других краях и каждую зиму приезжающие умирать в Ниццу: это самые родовитые и самые больные аристократки Парижа, Лондона и Вены. Мужчины, напротив, в основном чувствуют себя здесь прекрасно, и кажется, что они приехали сюда в благородном порыве самопожертвования, чтобы отдать часть собственной силы и здоровья этим угасающим красавицам, лорнирующим на ходу очаровательных маленьких аббатов, таких щеголеватых и галантных, что с первого взгляда становится ясно: у них уже заготовлены отпущения грехов для этих дам, сколько бы те ни нагрешили.
Дело в том, что в Ницце уже появляются аббаты; не противные толстые аббаты, как в Неаполе или Флоренции, но милейшие светские аббаты, каких порой можно встретить в Риме на Монте Пинчо или на набережной в Мессине; настоящие дамские угодники в сутане, вроде тех, что присутствовали на малом утреннем приеме у г-жи де Помпадур и на вечерней аудиенции у мадемуазель Ланж, – одним словом, очаровательные аббаты, выкормленные конфетами и вареньем, с чистыми, надушенными волосами, округлыми икрами, шляпой, кокетливо сдвинутой на ухо, и маленькой ножкой в изящном лакированном башмаке с золотой пряжкой.
А теперь скажите мне, придает ли все это Ницце облик Минервы, вооруженной с головы до ног, и стоит ли понимать ее эпитет «fidelis» в буквальном смысле?
В Ницце есть два города – новый и старый, antica Nizza[10]и Nice new[11]: Ницца итальянская и Ницца английская. Итальянская Ницца, прилепившаяся к холмам, с ее расписными или украшенными лепниной домами, статуэтками Мадонны на углах улиц, с ее обитателями в живописных нарядах, говорящими, как сказал Данте, на языке del bel paese la dove '1 si suona[12]. И английская Ницца, то есть одетое мрамором предместье, с улицами, проложенными как по линейке, беленными известью домами, симметрично прорезанными окнами и дверьми и населением в вуалях, зеленых ботинках и с зонтиками, которое говорит «Yes[13]».
Для жителей Ниццы всякий приезжий – англичанин. Каждый иностранец, независимо от цвета волос, наличия или отсутствия бороды, независимо от одежды, возраста и пола, прибывает из какого-то фантастического города, затерянного среди туманов, где о солнце можно услышать лишь в преданиях, где об апельсинах и ананасах знают только понаслышке, где нет спелых плодов, кроме печеных яблок, – и потому город этот зовется Лондон.
В гостиницу «Йорк», где я жил, однажды прибыла почтовая карета. Минуту спустя хозяин вошел в мою комнату.
– Кто ваши новые постояльцы? – спросил я.
– Sono certi inglesi, – ответил он, – та non saprai dire se sono francesi о tedeschi.
Это означает: «Какие-то англичане, но не могу сказать точно, французы они или немцы».
Незачем и говорить, что поскольку каждого тут величают «милордом», то и платить приходится соответственно.
Мы пробыли в Ницце два дня; это на день больше, чем обычно проводят там иностранцы, если только они не приехали на полгода. Ницца – преддверие Италии, она дает возможность помедлить у порога, когда на горизонте уже видятся Флоренция, Рим и Неаполь!
Мы сговорились с одним возчиком, который взялся доставить нас в Геную за три дня по горной дороге, называемой Карниз. Я уже был знаком с дорогами через Мон-Сени, Сен-Бернар, Симплон, перевалами Тенда, Сан-Бернардино и Сен-Готард. Таким образом, это была, если не ошибаюсь, единственная горная дорога, которую мне еще предстояло освоить.








