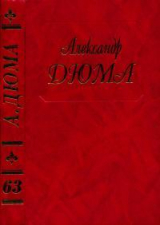
Текст книги "Путевые впечатления. Год во Флоренции"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 35 страниц)
И в самом деле, сделав своим приближенным Лоренци-но, герцог вполне мог обойтись без всех прочих. Кем только не был для него Лоренцино: шутом и льстецом, лакеем и шпионом, любовником и любовницей. Почти все время друзья проводили вместе, разлучаясь только на те часы, когда герцог Алессандро упражнялся в фехтовании. Лоренцино растягивался на удобной постели или на мягких подушках и говорил, что все эти стальные доспехи слишком давят ему грудь, а шпаги и кинжалы чересчур тяжелы для его руки. И пока Алессандро скрещивал клинок с лучшими фехтовальщиками эпохи, Лоренцино играл узким, тоненьким женским ножичком, пробовал его острие, прокалывая золотые флорины, и говорил, что только такая шпага ему по руке и другой он носить не желает. За эту изнеженность, раболепие и трусость люди стали называть его даже не Лоренцино, а Лоренцаччо.
Герцог Алессандро полностью доверял Лоренцо и дал ему доказательство этого величайшего доверия, самое веское, какое только могло быть, – сделал его посредником во всех своих любовных связях. Какая бы прихоть ни обуяла герцога Алессандро, куда бы ни влекла его эта прихоть, в недосягаемую высь или на самое дно, домогался ли он красавицы-мирянки, или его вожделение проникало за святые монастырские стены, стремился ли он склонить к неверности чужую жену, или его желания воспламенила непорочная юная дева – Лоренцо брался за все, и во всем добивался успеха. Так он стал самым могущественным и самым ненавистным человеком во Флоренции после герцога Алессандро.
У Лоренцо был друг, столь же преданный ему, как сам он внешне был предан герцогу Алессандро. Звали этого человека Микеле дель Таволаччино, он был всего-навсего сбир и благодаря заступничеству Лоренцо избежал казни за убийство. В тюрьме его прозвали Скоронконколо, и это странное прозвище так за ним и закрепилось. Позднее этот человек поступил на службу к Лоренцо и жил у него в доме, всячески выражая ему свою безмерную благодарность. Так, однажды, когда Лоренцо принялся жаловаться ему на некоего зловредного интригана, Скоронконколо сказал:
– Хозяин, назовите мне только имя этого человека, и я обещаю: завтра он уже не будет вам досаждать.
Когда Лоренцо вновь пожаловался на этого же человека, Скоронконколо спросил:
– Скажите мне, кто он? Даже если это один из любимчиков герцога, я его убью.
Услышав от хозяина те же самые жалобы уже в третий раз, Скоронконколо воскликнул:
– Имя! Его имя! Будь это хоть сам Иисус Христос, он познакомится с моим кинжалом!
И снова Лоренцо ему ничего не сказал. Время еще не пришло.
Как-то утром герцог вызвал к себе Лоренцо раньше обычного. Лоренцо поспешил явиться: он застал герцога еще в постели. Накануне герцог увидел очень красивую женщину, супругу Леонардо Джинори, и решил овладеть ею. За тем он и вызвал Лоренцо. В этом случае он особенно рассчитывал на его помощь, ибо женщина, которую он возжелал, приходилась Лоренцо родной теткой. Лоренцо выслушал это предложение столь же невозмутимо, как если бы речь не шла о его родственнице, и ответил, как отвечал обычно, что деньги отворяют любую дверь. Алессандро заметил, что Лоренцино прекрасно известно, где находится сокровищница, и ему остается лишь взять сколько нужно. С этими словами герцог вышел в другую комнату. Лоренцо покинул дворец, но, уходя, незаметно сунул под плащ знаменитую кольчугу, которая не раз спасала жизнь герцога, и бросил ее в колодец Седжо Капорано.
На следующий день герцог спросил Лоренцо, как подвигается дело; но Лоренцо ответил, что на этот раз женщина попалась порядочная и дело может несколько затянуться; потом он со смехом добавил, что пока герцог может поразвлечься со своими монашками. Он имел в виду один монастырь, где герцог Алессандро развратил сначала аббатису, а затем монахинь, превратив это святое место в свой гарем. Алессандро пожаловался ему, что потерял кольчугу; он жалел о ней не потому, что заботился о своей безопасности, а потому, что она замечательно облегала тело и не сковывала движения, и порой он даже не замечал ее. Лоренцо посоветовал заказать другую, но герцог возразил ему, что оружейник, сделавший кольчугу, уехал из Флоренции, а другого такого искусника уже не найти.
Прошло несколько недель, герцог время от времени осведомлялся у Лоренцо, как подвигается дело с синьорой Джинори, а Лоренцо всякий раз отделывался обещаниями, умело разжигая желания герцога. И Алессандро уже не терпелось овладеть той, что сопротивлялась ему так долго.
Наконец, утром 6 января 1536 года (по старому стилю) Лоренцо пригласил сбира позавтракать с ним – он делал это уже не раз, когда бывал в добром расположении духа. Они сели за стол, как добрые друзья, осушили две-три бутылки вина, и Лоренцо сказал:
– У меня есть враг – помнишь, я говорил тебе о нем? Теперь, когда я тебя хорошенько узнал, я уверен, что в минуту опасности могу на тебя рассчитывать так же, как ты можешь рассчитывать на меня. Ты говорил, что можешь разделаться с ним. Так вот, теперь для этого настало время, и вечером я отведу тебя в такое место, где мы управимся с нашим делом без помех. Ты не передумал?
Сбир снова стал заверять его в своей преданности, сопровождая эти заверения богохульными клятвами, которыми пользуются в таких случаях подобные люди.
Вечером, ужиная с герцогом и несколькими другими придворными, Лоренцо, по обыкновению, занял место рядом с Алессандро и прошептал ему на ухо, что сумел, наконец, склонить свою тетку к свиданию с ним, но с условием, что он придет один и не куда-нибудь, а в спальню Лоренцо: уступая желанию герцога, женщина хотела сохранить видимость добродетели. Кроме того, добавил Лоренцо, очень важно, чтобы никто не видел, как Алессандро войдет к нему в дом и выйдет оттуда, ибо его тетка настаивает на строгом соблюдении тайны. Алессандро был так счастлив, что сразу согласился на все эти условия. Лоренцо заторопился домой, чтобы, как он сказал, успеть все подготовить. В дверях он обернулся и еще раз посмотрел на Алессандро, который кивнул ему в знак того, что все будет так, как они уговорились.
И в самом деле, отужинав, герцог тотчас прошел к себе; он снял обычную одежду и закутался в длинный атласный плащ, подбитый собольим мехом. Перед тем как велеть лакею подать перчатки, он задумался:
– Какие перчатки мне надеть – те, что для войны, или те, что для любви?
На столе лежала пара кольчужных рукавиц и пара надушенных перчаток; лакей выжидающе смотрел на герцога.
– Подай мои перчатки для любви, – сказал Алессандро, и лакей подал ему надушенные перчатки.
Герцог вышел из дворца Медичи в сопровождении всего четырех человек – капитана Джустиниано да Чезена, одного из приближенных, также носившего имя Алессандро, и двух телохранителей, одного из которых звали Джомо, а другого – Венгерец; дойдя до площади Сан Марко (он вначале свернул туда, чтобы скрыть, куда направлялся на самом деле), герцог отпустил Джустиниано, Алессандро и Джомо. И, оставив при себе одного лишь Венгерца, повернул к дому Лоренцо. Когда герцог был возле Палаццо Состиньи, то есть почти поравнялся с домом Лоренцо, он приказал Венгерцу не идти за ним, а остаться здесь и ждать его до утра; и что бы сбир ни увидел или ни услышал, кто бы ни вошел в дом или ни вышел оттуда, он должен был хранить молчание и не двигаться с места, иначе герцог прогневается на него. Если утром герцог не выйдет, Венгерец может возвращаться во дворец. Однако телохранитель, не раз уже сопровождавший герцога в такие походы, не стал дожидаться утра и, увидев, как герцог входит в дом своего друга Лоренцо, сразу же отправился во дворец, бросился на матрац, который ему каждый вечер стелили в герцогской спальне, и крепко заснул.
А в это время герцог поднялся в спальню Лоренцо, где в камине жарко пылал огонь и где его ожидал хозяин дома. Герцог отстегнул перевязь со шпагой и сел на кровать. Лоренцо тут же взял шпагу и обмотал вокруг нее перевязь, которую дважды продел через гарду, чтобы герцог не мог вытащить шпагу из ножен. Затем он положил ее у изголовья кровати и сказал герцогу, чтобы тот подождал немного – сейчас он приведет ту, которую Алессандро так жаждал увидеть. С этими словами он вышел, затворив за собой дверь. Замок в двери защелкнулся, и герцог, сам того не заметив, оказался в западне.
Лоренцо назначил Скоронконколо встречу на углу улицы, и Скоронконколо, верный слову, действительно ждал его там. Сияя от радости, Лоренцо приблизился к нему и хлопнул его по плечу.
– Брат, – сказал он, – час настал. Враг, о котором я тебе говорил, заперт в моей спальне: ты все еще намерен меня от него избавить?
– Идем! – коротко ответил сбир, и оба зашли в дом.
Поднявшись до середины лестницы, Лоренцо остановился:
– Пусть тебя не смутит, если этот человек окажется другом герцога, – сказал он, повернувшись к Скоронконколо. – Ты ведь не отступишься?
– Будьте спокойны, – ответил сбир.
На площадке лестницы Лоренцо опять остановился.
– Кто бы он ни был, ты слышишь? – в последний раз обратился он к своему сообщнику.
– Кто бы он ни был, хоть сам герцог, – нетерпеливо откликнулся Скоронконколо.
– Хорошо, хорошо, – прошептал Лоренцо, вынимая шпагу из ножен и пряча ее под плащом; затем он осторожно отворил дверь и вошел в спальню первым, а за ним – сбир. Алессандро лежал на кровати, отвернувшись лицом к стене, и, очевидно, дремал, так как даже не обернулся на шум. Лоренцо подошел вплотную к кровати и со словами «Вы спите, синьор?» нанес герцогу ужасный удар шпагой: клинок вошел в спину чуть ниже плеча и вышел с другой стороны ниже соска, пронзив диафрагму, так что нанесенная рана была смертельной.
Тем не менее, даже будучи смертельно раненным, герцог Алессандро, отличавшийся неимоверной силой, одним прыжком выскочил на середину комнаты и уже готов был броситься на лестницу через дверь, которая осталась открытой, но тут Скоронконколо ударил его наотмашь шпагой в висок, отхватив чуть не целиком левую щеку. Герцог замер на месте и зашатался, а Лоренцо тут же схватил его поперек тела, толкнул обратно к кровати, опрокинул навзничь и навалился на него всей своей тяжестью. В это мгновение Алессандро, который до тех пор не издал ни звука, словно дикий зверь, попавший в западню, вдруг закричал, зовя на помощь. Тотчас Лоренцо зажал ему рот с такой силой, что его большой палец и часть указательного оказались у герцога во рту. Алессандро инстинктивно сжал зубы, послышался хруст дробящихся костей, и теперь уже Лоренцо отшатнулся назад, крича от нестерпимой боли. И тогда Алессандро, хотя из двух ран у него хлестала кровь и он то и дело отхаркивался ею, набросился на Лоренцо и, подмяв его под себя, словно хрупкую тростинку, стал душить обеими руками. Напрасно сбир в эту страшную минуту пытался помочь хозяину: противники схватились так тесно, что нельзя было поразить одного, не задев другого. Несколько раз он ударил шпагой между ногами Лоренцо, однако острие прошло через одежду герцога и меховую подкладку, не достав до тела. Внезапно он вспомнил, что у него еще есть нож, отбросил шпагу с ее бесполезным теперь длинным клинком и вцепился в герцога сзади. Слившись воедино с бесформенным клубком, который метался по комнате в слабом свете горящего камина, он искал, куда бы ему вонзить нож. Наконец, он добрался до горла герцога и всадил туда лезвие по самую рукоятку; но, видя, что Алессандро все никак не падает, стал поворачивать нож в разные стороны и, по словам Варки, так поворошил им, что перерезал герцогу артерию и почти отделил голову от туловища. Герцог захрипел в последний раз и упал. Скоронконколо и Лоренцо, упавшие вместе с ним, поднялись на ноги и отступили на шаг; затем поглядели друг на друга и ужаснулись: их одежда была залита кровью, а лица покрывала смертельная бледность.
– Думаю, он уже мертв, – сказал сбир.
Но Лоренцо с сомнением покачал головой, и тогда Скоронконколо подобрал свою шпагу и не спеша проткнул тело герцога. Тот не шелохнулся: перед ними лежал труп.
Они взяли окровавленное тело за плечи и за ноги и положили на кровать, прикрыв сверху одеялом. Затем Лоренцо, запыхавшись от борьбы и едва не теряя сознания от боли, открыл окно, выходившее на Виа Ларга, – он хотел глотнуть свежего воздуха, а заодно посмотреть, не сбежались ли люди на подозрительный шум. Шум действительно слышал кое-кто из соседей, а Мария Сальвиати, вдова Джованни делле Банде Нере и мать Козимо, в особенности удивлялась – что за возня поднялась в доме Лоренцо? Но хозяин дома предусмотрел и это: много раз устраивал он у себя шумные потасовки, сопровождаемые воплями и проклятиями, чтобы заранее приучить соседей к ночному шуму. И теперь соседи не усмотрели ничего нового в криках, исходящих из дома человека, которого одни считали безумцем, а другие подлецом; так что, в сущности говоря, никто не обратил внимания на происходящее – на улице и в прилегающих домах все было совершенно спокойно.
Убедившись в этом, Лоренцо и Скоронконколо с некоторым облегчением вышли из спальни, заперев ее не только на защелку, но и на ключ; затем Лоренцо спустился к своему домоправителю Франческо Дзеффи, забрал все наличные деньги, какие были в доме, приказал одному из слуг по имени Фречча следовать за ним и, сопровождаемый лишь этим слугой и Скоронконколо, взял почтовых лошадей – для этого он заранее запасся подорожной у епископа Марци – и без остановки домчался до Болоньи, где ненадолго спешился, чтобы перевязать израненную руку, два пальца которой были почти оторваны (впоследствии их удалось восстановить, но от раны остался неизгладимый шрам). После этого Лоренцо сел на коня и в понедельник ночью прибыл в Венецию. Он сразу же призвал к себе Филиппо Строцци, который более четырех лет назад был изгнан из Флоренции и в это время находился в Венеции. Лоренцо показал ему ключ от спальни и сказал:
– Видите этот ключ? Так вот, он от двери комнаты, где лежит труп герцога Алессандро, убитого мной.
Филиппо Строцци не хотел верить такой новости. Тогда убийца вытащил из сумки окровавленную одежду и показал свою изувеченную руку:
– Вот вам доказательство.
И тут Филиппо Строцци кинулся ему на шею, назвал его флорентийским Брутом и попросил его отдать двух его сестер замуж за двух своих сыновей.
Так в доме, прилегающем к Палаццо Риккарди Лоренцо с помощью убийцы Скоронконколо расправился с герцогом Алессандро, сводным братом Екатерины Медичи, первым герцогом Флоренции и последним прямым потомком Козимо Старого, Отца отечества, – ибо Климент VII умер в 1534 году, а кардинал Ипполито – в 1535-м; в связи с этим убийством нельзя не заметить одно любопытное обстоятельство: шестикратное повторение числа шесть.
Алессандро был убит в 1536 году в возрасте 26 лет, 6 января, в 6 часов утра, от 6 ран, пробыв на троне 6 лет.
Дом, в котором произошло убийство, находился на том месте, где сейчас стоят конюшни.
Однако Лоренцо довелось изведать на себе правоту евангельской истины: «Кто придет с мечом, от меча и погибнет». Он поразил герцога кинжалом – и умер от кинжала сам, в Венеции, в 1557 году. Кто нанес ему удар, осталось неизвестным; но люди вспомнили, как Козимо I, взойдя на трон, поклялся, что убийство герцога Алессандро не останется безнаказанным.
Убийство Алессандро было последним значительным событием, какое произошло в этом великолепном дворце. В 1540 году Козимо I перенес свою резиденцию в Палаццо Веккьо, а дворец был продан семейству Риккарди. С тех пор он и носит это имя, хотя впоследствии, если не ошибаюсь, при Фердинанде II, вернулся в собственность Медичи.
Сейчас в нем заседает знаменитая Академия делла Круска; там просеивают наречия и лущат причастия, как говорит наш добряк и острослов Шарль Нодье.
Такое времяпрепровождение не столь поэтично, зато более нравственно!
ПАЛАЦЦО ВЕККЬО
Хотя день уже близился к вечеру и мы порядком устали от посещения собора и Палаццо Риккарди, нам не хотелось возвращаться домой, не осмотрев площадь Великого Герцога. Я много слышал о ней, видел зарисовки художников и знал, что никакая другая площадь в мире, вероятно, не хранит столько исторических свидетельств и столько памятников искусства, относящихся к величайшим эпохам Флорентийской республики и самовластного правления Медичи. Мне еще советовали подойти к ней, чтобы полнее насладиться этим великолепным видом, по одной из улочек, которые выходят на нее напротив Палаццо Веккьо. Вспомнив этот совет, мы вернулись по улице Мартелли на Соборную площадь, где при первом нашем посещении были настолько изумлены всем увиденным, что не заметили Бигалло, старинный приют для подкидышей, и две колоссальные статуи Пампалони: одна изображает Арнольфо ди Лапо, созерцающего собор, другая – Брунеллески, смотрящего на купол. Слева от первой статуи, между нею и домом братства Милосердия, открывается улица Покойницы, названная так по знаменитой легенде, которая вдохновила Скриба на сочинение поэмы «Гвидо и Джиневра».
Мы ушли с Соборной площади по улице Кальцайоли; это одна из самых узких улиц Флоренции и в то же время одна из наиболее богатых историческими воспоминаниями. Поскольку во все времена на ней жило множество ремесленников, поскольку она ведет от собора к Палаццо Веккьо и поскольку, наконец, ее ширина едва составляет десять футов, она неоднократно становилась ареной вооруженных столкновений, столь частых в эпоху республики. Для флорентийца она примерно то же, что для парижанина улица Вивьен: ни один человек, вышедший за порог своей гостиницы или своего магазина по делам или ради развлечения, не может миновать ее. Но вот что удивительно: по Виа деи Кальцайоли рысью катят экипажи – и толпа раздвигается и безропотно пропускает их; как мы уже говорили, во Флоренции простой народ привык склоняться перед всеми, кого он считает выше себя. Если на какой-нибудь тесной улочке, ведущей к Пале-Роялю, Тюильри или Бирже, оказалось бы столько же экипажей и столько же прохожих, то ежедневно три-четыре человека погибали бы под колесами, а три или четыре десятка кучеров были бы жестоко избиты.
В общей сложности я провел во Флоренции в разное время пятнадцать месяцев и не видел на улицах ни одного несчастного случая, ни одной драки.
Виа деи Кальцайоли ведет к прелестной маленькой церкви Орсанмикеле, то есть святого Михаила, названной так потому, что она была построена на месте бывшего огорода (огород по-итальянски – «орто»). Когда-то это был хлебный амбар, выстроенный известным зодчим Арнольфо ди Лапо; но однажды в этом здании случился пожар, оно сильно пострадало, и республика, зная, как дорог народу чудотворный образ Мадонны, написанный на досках и укрепленный на одной из колонн его портика, постановила, что амбар должен быть переделан в церковь. Перестройку здания поручили Джотто; он создал план церкви (не претерпевшей с тех пор существенных изменений), а строительство велось под началом Таддео Гадди. Для чудотворного образа Богоматери решено было создать табер-накль, достойный такого сокровища, и доверили эту работу Андреа Орканье, создателю фресок на Кампосанто и архитектору Лоджии деи Ланци.
Выбор был верный: Орканья выполнил свою задачу как поэт, как ваятель и как христианин. Он сделал из мрамора то, что другие делают из мягкого воска и податливой глины. Так и тянет дотронуться до этого шедевра, чтобы удостовериться, что это не какая-то гипсовая имитация, а действительно глыба мрамора, которую выпотрошили, источили, изрезали с такой дерзновенной смелостью, так прихотливо и так затейливо, что в это просто невозможно поверить, пока не увидишь сам. Табернакль просто ослепляет – после него уже почти не замечаешь две мраморные скульптурные группы: одну работы Симоне да Фьезоле, другую – Франческо да Сан Галло. Прежде там были великолепные фрески, две из которых написал Андреа дель Сарто, но сегодня бесполезно было бы искать их: в 1770 году они были покрыты побелкой.
Весь фасад церкви – если можно так выразиться – ощетинился статуями. Есть тут святой Элигий работы Антонио ди Банко; святой Стефан, евангелист Матфей и Иоанн Креститель – Лоренцо Гиберти; евангелист Лука – Мино да Фьезоле; еще один Лука – Джамболоньи; евангелист Иоанн – Баччо да Монте Лупо; и наконец, изваянные Донателло апостол Петр, евангелист Марк, а главное, святой Георгий, которому автор мог бы сказать, как он говорил созданной им статуе Цукконе: «Говори, говори!», если бы по надменному выражению лица этого победителя драконов не было совершенно ясно, что он слишком горд, чтобы подчиниться приказу, будь то даже приказ его создателя.
Сколь бы величественной ни воображал я себе прежде площадь перед Палаццо Веккьо, действительность, следует признать, превзошла все мои ожидания. Когда я увидел эту исполинскую, прочно укорененную в земле каменную глыбу, с башней, которая угрожает небу, словно десница титана, передо мною ожила старая Флоренция, с ее соперничеством гвельфов и гибеллинов, с ее балией, приорами и Синьорией, ее цехами, ее кондотьерами, ее мятежным народом и надменной аристократией, – как если бы я был свидетелем изгнания Козимо Старого или казни Сальвиати. Четыре века истории города, четыре века истории искусства смотрят на вас справа, слева, спереди, сзади, окружают вас со всех сторон; камень, мрамор, бронза говорят с вами, заставляя вас ощущать незримое присутствие Никколо да Уццано, Орканьи, Ринальдо дельи Альбицци, Донателло, Пацци, Рафаэля, Лоренцо Медичи, Фламинио Вакки, Савонаролы, Джамболоньи, Козимо I и Микеланджело.
Попробуйте найти в целом мире другую такую площадь, где одновременно вспоминается столько славных имен, не считая тех, кого я не назвал! А те, кого я не назвал, – это всего лишь Баччо Бандинелли, Амманати, Бенвенуто Челлини.
Мне хотелось бы немного упорядочить этот блистательный хаос и расположить в хронологической последовательности великих людей, великие произведения искусства и великие события, но это невозможно. Когда попадаешь на эту удивительную площадь, надо идти наудачу, смотреть на то, что привлекает взгляд, и повиноваться чутью.
Первое, что обращает на себя внимание художника, поэта или археолога, – это сумрачный Палаццо Веккьо: стены его до сих пор украшены старинными гербами республики, среди которых, словно звезды на небе, сияют на лазурном поле бесчисленные королевские лилии, разбросанные здесь Карлом Анжуйским по дороге в Неаполь.
Как только Флоренция обрела свободу, она решила построить ратушу, чтобы там мог заседать магистрат, и дозорную башню с колоколом, чтобы можно было созывать народ. Учреждается ли на севере Европы городская коммуна, провозглашается ли на юге республика, первое их решение – построить ратушу с дозорной башней, а выполнение этого решения становится первым доказательством их существования.
А потому в 1298 году, то есть всего через шестнадцать лет после того как флорентийцы завоевали себе конституцию, Арнольфо ди Лапо получил от Синьории приказ: построить дворец.
Арнольфо ди Лапо осмотрел место, отведенное для строительства и разработал проект будущего здания. Но когда приступили к закладке фундамента, собрался народ и стал кричать, чтобы архитектор не смел класть ни единого камня там, где прежде стоял дом Фаринаты дельи Уберти. Арнольфо ди Лапо не мог спорить с возбужденной толпой: он повиновался, передвинул дворец в угол площади и оставил проклятое место пустым. Оно пусто и по сей день. Там, где более шести веков назад мстительные гвельфы распахали землю плугом и засыпали ее солью, не встали дома и не пустили корни деревья.
Дворец был резиденцией гонфалоньера и восьми приоров – по два от каждого квартала Флоренции: их полномочия длились шестьдесят дней, и все это время они жили под одной крышей, ели за одним столом и не имели права покидать свою резиденцию, то есть, в сущности, становились пленниками; у каждого было двое слуг, а кроме того, их плен разделял с ними нотариус, всегда готовый записать их решения и принимавший трапезу вместе с остальными. Каждый приор, приносивший в жертву республике свое время и свою свободу, в качестве возмещения получал десять лир в день, то есть в пересчете на наши деньги – примерно семь франков. Скупость в частной жизни сообразовывалась тогда у флорентийцев с расходованием общественных средств, поэтому правительство могло осуществлять грандиозные замыслы в области искусства или обороны. И вскоре Флоренцию стали называть Великолепной республикой.
Входная дверь в Палаццо Веккьо делит фасад не пополам, а как бы отсекает от него одну треть. Войдя, оказываешься в небольшом квадратном дворе, окруженном портиком, который опирается на девять затейливо украшенных колонн в ломбардском стиле. Посередине двора возвышается порфировая чаша фонтана, увенчанная Амуром в духе рококо, с рыбой в руках. Перед женитьбой герцога Фердинанда стены портика покрыли фресками, изображающими города Германии с высоты птичьего полета.
На втором этаже находится зал Большого Совета, построенный по настоянию Савонаролы правительством республики. Зал мог вместить до тысячи граждан, желающих принять участие в обсуждении государственных дел. Архитектор Кронака выполнил свою задачу настолько быстро, что Савонарола не раз говорил, будто каменщиками при возведении здания служили ангелы.
Кронака был прав, когда торопился, ибо через три года не стало Савонаролы, а через тридцать лет пала республика.
Так что от первоначального замысла громадный зал сохранил лишь планировку; вся отделка была выполнена в годы самовластного правления Медичи. Фрески и потолок расписал Вазари; картины принадлежат кисти Чиго-ли, Лигоцци и Пассиньяно, статуи созданы Микеланджело, Баччо Бандинелли и Джамболоньей.
И все это для вящей славы Козимо I.
Ибо герцог Козимо I и в самом деле одно из тех гигантских изваяний/которые рука истории воздвигает как памятные обелиски, чтобы указать, где кончается одна эра и начинается другая. Козимо I – это Август Тосканы и в то же время ее Тиберий. Такое определение представляется тем более точным, что в эпоху, когда герцог Алессандро пал от кинжала Лоренцаччо, Флоренция находилась в том же положении, в каком оказался Рим после смерти Цезаря: «Тирана больше не было, но не было и свободы».
Оставим ненадолго все эти камни, статуи и живописные полотна и обратимся ко всем порокам и всем добродетелям человечества, соединившимся в одном человеке: это любопытное зрелище стоит того, чтобы задержать на нем внимание.
Козимо I родился в Палаццо Сальвиати, теперешнем Палаццо Сеппарелло, во внутреннем дворе которого еще стоит мраморная статуя, изображающая великого герцога в парадном облачении и с короной на голове. Он был потомок Лоренцо, брата Козимо Старого: эта ветвь рода Медичи потом в свою очередь разделилась на две ветви, старшую и младшую; к первой принадлежал Лоренцино, ко второй – Козимо.
Его отец был знаменитый Джованни делле Банде Нере, быть может самый блестящий из тех отважных кондотьеров, чьи имена гремели по всей Италии в XV–XVI веках. Однажды, в день рождения маленького Козимо, Джованни приснилось, что сын спит в колыбели, а на голове у него – королевская корона. Пораженный этим сном, он задумал испытать Бога, дабы узнать, каковы его намерения относительно Козимо. Он велел своей жене Марии Сальвиати (она была дочь Лукреции Медичи, а следовательно, племянница папы Льва X) подняться с ребенком на третий этаж. Мария так и сделала, не зная, что ей предстоит; тогда Джованни вышел на улицу, окликнул жену, стоявшую на балконе и, протянув к ней руки, приказал бросить ребенка вниз. Бедная мать оцепенела от ужаса, но Джованни повторил приказ таким властным тоном, что она, зажмурившись, вынуждена была повиноваться. Ребенок упал с третьего этажа – и отец подхватил его.
– Отлично, – сказал невозмутимый кондотьер, – значит, сон сбудется и ты станешь королем.
Затем он поднялся наверх и отдал маленького Козимо матери, которая стояла ни жива, ни мертва. А ребенок, как было замечено, не издал ни звука.
Через шесть лет после этого события, в сражении при Боргофорте, выстрелом из фальконета Джованни деи Медичи ранило в ногу выше колена, в то же место, куда он до этого был ранен при Павии. Новая рана оказалась тяжелой, вдобавок ее лечение осложнялось из-за старой, так что ногу решили отрезать. Врачи хотели было привязать Джованни к койке, но он возразил, что, поскольку это дело касается его прежде всех, ему следует видеть, как оно произойдет. Он взял факел и держал его до окончания ампутации, причем держал так твердо, что пламя ни разу не дрогнуло. Но либо рана была смертельной, либо операция прошла неудачно, только два дня спустя Джованни деи Медичи скончался. Ему было двадцать девять лет.
Эта смерть чрезвычайно обрадовала немцев и испанцев, на которых Джованни наводил ужас. До него, пишет Гвиччардини, пехота в Италии прозябала в ничтожестве и небрежении; он же, благодаря урокам, полученным от маркиза Пескары, преобразовал и прославил ее. Он так любил это свое детище, что оставлял пехотинцам причитающуюся ему долю добычи, ограничиваясь лишь своей долей славы. А солдаты были столь привязаны к нему, что называли его не иначе как отцом и повелителем; после его смерти все они оделись в черное, сказав, что не снимут траур до конца жизни. И сдержали слово: с этого времени Джованни деи Медичи стали называть Джованни делле Банде Нере, то есть «Джованни Черных Отрядов», – под этим прозвищем он и вошел в историю.
Джованни делле Банде Нере был прадед Марии деи Медичи, которая вышла замуж за Генриха IV.
Овдовев, Мария Сальвиати целиком посвятила себя заботам о сыне. Юный Козимо был окружен мудрыми наставниками и рос под бдительным материнским присмотром. Он получил серьезное воспитание и рано развился: познания в искусстве, в военном деле и в делах правления давались ему одинаково легко, однако с особым рвением он изучал химию и естествознание.
К пятнадцати годам его характер сложился настолько, что окружающие уже могли судить, каким он станет впоследствии. Как мы уже сказали, он рано развился, держался строго и даже сурово; он не скоро сближался с кем-либо и столь же не скоро позволял кому-либо сблизиться с ним; но когда он снисходил до сближения, это было свидетельством подлинно дружеских чувств, а другом Козимо был надежным; однако даже друзьям он не рассказывал о том, что собирается сделать, предпочитая держать свои замыслы в секрете до их свершения. Так что всякий раз создавалось впечатление, будто он стремится к цели, прямо противоположной той, какая у него была на самом деле, и ради этого на вопросы он отвечал всегда кратко и нередко туманно.
Вот каков был Козимо в то время, когда ему стало известно об убийстве Алессандро и бегстве Лоренцино: это бегство устраняло у него последнего соперника на пути к единоличной власти, и он не мешкая принял решение. Собрав горстку друзей, на которых можно было положиться, он сел на коня и поскакал из своего поместья во Флоренцию.








