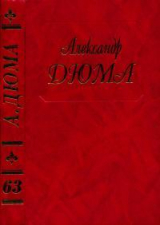
Текст книги "Путевые впечатления. Год во Флоренции"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 35 страниц)
Гонфалоньером, как мы уже сказали, был тогда Чезаре Петруччи, бывший подеста в Прато, который восемью годами ранее столкнулся с заговором, устроенным Андреа Нарди, и чуть было не стал его жертвой. Пережитый страх оставил у него в душе столь глубокий след, что с тех пор он всегда держался настороже. А потому, хотя о заговоре еще ничего не было известно и до него лично не доходило никаких тревожных новостей, он, едва заметив, что вошедший к нему Сальвиати взволнован больше обычного, в ту же минуту бросился к двери: там Джакопо Браччолини хотел преградить ему путь, но Чезаре Петруччи, при всей своей осторожности, был храбр и силен. Схватив Браччолини за волосы, он швырнул его на пол и, поставив колено ему на грудь, стал звать охрану. Пять или шесть сопровождавших Браччолини сообщников хотели было помочь ему, но подоспела многочисленная охрана, трое из заговорщиков были заколоты на месте, двое выброшены из окна, а единственный оставшийся в живых убежал с криками о помощи.
Те, кто заперся в канцелярии, поняли, что пора действовать, и хотели поспешить на выручку остальным; но дверь канцелярии, которую они, войдя, захлопнули за собой, была с секретом, и открыть ее можно было только ключом. Они оказались в ловушке и не смогли помочь архиепископу. Тем временем Чезаре Петруччи вбежал в залу, где заседали приоры, и, сам еще толком не зная, что происходит, поднял тревогу. Приоры тут же присоединились к нему; Чезаре старался подбодрить их. Они вооружились чем могли и приготовились к обороне. Отважный гонфалоньер взял на кухне вертел, провел приоров в башню и, став перед дверью, успешно отражал все атаки.
Благодаря своему облачению, архиепископ беспрепятственно прошел через залу, где подле трупов своих товарищей стоял схваченный охраной Браччолини, и знаком дал сообщнику понять, что скоро придет ему на помощь. И в самом деле, едва он показался на улице, как его обступили остававшиеся там заговорщики; но в ту минуту, когда они собирались войти во дворец, на улице, ведущей к собору, показалась группа сторонников Медичи, которые приближались, выкрикивая свой обычный клич: «Palle! Palle![54]» И Сальвиати понял, что теперь надо думать не о помощи Браччолини, а защищать собственную жизнь.
Фортуна изменила заговорщикам, и зло обернулось против тех, кто его разбудил. Обоих священников настигла и растерзала толпа. Бернардо Бандини, как мы уже сказали, увидев, что Лоренцо с помощью Полициано укрылся за бронзовыми дверьми ризницы, подхватил Франческо Пацци и вывел его из собора; однако, оказавшись у своего дома, Франческо ощутил такую слабость, что дальше идти не смог; и, в то время как Брандини обратился в бегство, он бросился на постель и с покорностью судьбе, равной выказанному им мужеству, стал ждать, что будет. Тогда Якопо, несмотря на свой почтенный возраст, решил занять место племянника: он сел на коня и в сопровождении сотни приверженцев стал разъезжать по улицам, выкрикивая: «Свобода! Свобода!» Но во Флоренции этого зова уже не понимали. Заслышав этот крик, те из граждан, кто еще не знал о случившемся, выходили из своих домов и в недоумении молча смотрели на Якопо; те же, до кого дошла весть о злодеянии, встречали старика глухим ропотом и угрозами, а то и хватались за оружие, чтобы подкрепить угрозы делом. И Якопо понял то, что заговорщики всегда понимают слишком поздно: поработители появляются лишь тогда, когда народы хотят быть порабощенными. Осознав это, он подумал о спасении своей жизни и, повернув коня, вместе с приспешниками поскакал к городским воротам, откуда направился по дороге в Романью.
Лоренцо затворился у себя в доме, говоря, что оплакивает брата, и предоставил действовать своим друзьям.
И правильно сделал: если бы он сам отомстил за себя так, как отомстили за него другие, то до конца своих дней вызывал бы одну лишь ненависть.
Юный кардинал Риарио, знавший о заговоре, но не о способе его осуществления, тут же отдался под покровительство священников, которые увели его в ризницу по соседству с той, где укрылся Лоренцо. Архиепископ Сальвиати, его брат и его кузен, а также Джакопо Браччолини, которых Чезаре Петруччи арестовал во дворце Синьории, были повешены – одни на Рингьере, другие – под окнами. Франческо Пацци, лежавшего в постели и истекавшего кровью, приволокли в Палаццо Веккьо. Чернь осыпала его ударами и проклятиями, он же с презрительной улыбкой на устах только пожимал плечами. Его повесили под тем же окном, что и Сальвиати, и он принял смерть не издав ни единого стона. Джованни Баттиста да Монтесекко, который, отказавшись убить Лоренцо в церкви, предоставил это двум священникам и тем самым, вероятно, спас ему жизнь, был обезглавлен. Ренато деи Пацци, не пожелавший участвовать в заговоре и из предосторожности удалившийся в свое поместье, не ушел от судьбы: он был схвачен и повешен, как и все его родственники. Старый Якопо деи Пацци, бежавший из Флоренции с отрядом приспешников, попал в руки горцев. Несмотря на крупную сумму, какую он предлагал им, – не за то, чтобы они отпустили его, а за то, чтобы они его убили, – горцы доставили его во Флоренцию, где он был повешен под тем же окном, что и Ренато. И наконец, по прошествии двух лет после этой драмы, однажды утром все увидели, что под окном Барджелло раскачивается тело повешенного: это был Бернардо Бандини, который бежал в Константинополь и которого султан Мухаммед II арестовал и выдал Лоренцо в знак своего желания сохранить мир с Флорентийской республикой.
Позднее клирос, где случилось это ужасное событие, по распоряжению Козимо I был переделан: его украсили скульптурной композицией из двадцати четырех фигур работы Баччо Бандинелли и его ученика Джованни делл'Опера. Главный алтарь создан тем же Бандинелли, за исключением резного деревянного распятия, созданного Бенедетто да Майано, а также скульптурной группы «Иосиф Аримафейский, поддерживающий тело Христа» – этого последнего куска мрамора, которого касался резец Микеланджело. Мастер предназначал его для собственного надгробия в церкви Санта Мария Маджоре; однако соборный капитул, проявив, если можно так выразиться, кощунственное благочестие, решил использовать почти необработанную глыбу для своего храма.
Над клиросом, на высоте 275 футов, парит знаменитый купол Брунеллески; купол оставался без всякого убранства, сияя лишь своей изначальной красотой и величием, до 1572 года, когда Вазари добился от Козимо I разрешения украсить его росписью. В день рождения великого герцога он взобрался на леса и собственноручно положил первые мазки. Таково было начало этой грандиозной, но посредственной работы, закончить которую художник не успел: после его смерти этим занялся Федерико Цуккари.
Портреты двух прославленных воинов – Джона Хоуквуда и Пьетро Фарнезе – смотрят со стены на надгробия двух прославленных художников, Брунеллески и Джотто. Эпитафию первому из них сочинил Марсуппини, второму – Полициано. Вторая эпитафия лучше, однако любая из них кажется весьма посредственной, если сравнить ее со статуей Брунеллески или картиной Джотто.
Выйдя из центральных дверей Санта Мария дель Фьоре, оказываешься перед другими дверьми. Это двери баптистерия Сан Джованни, знаменитые бронзовые двери Гиберти. Микеланджело всегда боялся, что Господь Бог отнимет у Флоренции этот шедевр, чтобы сделать из него врата Рая.
Самый ранний из храмов Флоренции, баптистерий Сан Джованни, о котором так часто и с такой любовью вспоминает Данте, был заложен в шестом веке и восходит ни много ни мало ко временам прекрасной королевы Теодолинды. Именно она властвовала тогда над всем этим обширным, цветущим краем, простиравшимся от подножия Альп до границ герцогства Римского. В ту эпоху разрозненные обломки рухнувшего мира представляли собой великолепный строительный материал для мира созидающегося. К услугам ломбардских архитекторов были уже готовые колонны, капители, барельефы. Они взяли все, что захотели, даже камень с латинской надписью в честь Аврелия Вера, и построили церковь, посвятив ее крещению Господню.
Этот суровый древний храм простоял без всяких изменений, в своей варварской наготе, вплоть до одиннадцатого века, когда пышно расцвело искусство мозаики. Мастера-мозаисты из Константинополя разъезжали по всему миру и повсюду запечатлевали на золотом фоне узкие, худые лица своих Иисусов, Богородиц и святых. Во Флоренцию был вызван Аполлоний, и ему поручили покрыть мозаикой свод баптистерия. Начатую им работу продолжил его ученик Андреа Тафи, а закончили Якопо да Туррита, Таддео Гадди, Алессо Бальдовинетти и Доменико Гирландайо. Когда храм стал таким прекрасным и великолепным внутри, флорентийцам захотелось украсить его и снаружи. И Арнольфо ди Лапо одел его стены мрамором. Работы по украшению баптистерия принесли благие плоды: пожертвования прихожан стали достойны храма. Для того, чтобы надежнее сохранить все эти богатства, решено было сделать в баптистерии двери из бронзы. В 1330 году Андреа Пизано получил заказ на изготовление южной двери – той, что выходит на Бигалло. Работа была закончена в 1339 году и вызвала такой восторженный интерес, что флорентийская Синьория торжественно вышла из своего дворца и в сопровождении послов Неаполя и Сицилии отправилась посмотреть на это чудо. Помимо прочих наград и почестей, скульптор – как свидетельствует его имя, он был родом из Пизы, – получил cittadinanza – флорентийское гражданство.
Оставалось сделать две другие двери; но чудесная работа первого мастера сделала затруднительным выбор второго. И решено было объявить конкурс. Каждый мастер, допущенный к конкурсу, должен был получить от Флорентийской республики сумму, достаточную для того, чтобы прожить год, а к концу этого года он должен был представить эскизы. Брунеллески, Донателло, Лоренцо ди Бартолуччо, Якопо делла Кверча из Сиены, его ученик Никколо д'Ареццо, Франческо да Вальдамбрино и Симоне да Колле, прозванный Бронзовым за умение работать с этим материалом, – все они пожелали участвовать в конкурсе и беспрепятственно получили это право.
Жил тогда в Римини один юноша, решивший пройти из конца в конец всю Италию, как у нас молодые люди решают проехать из конца в конец всю Францию. По дороге из Венеции в Рим его задержал у себя синьор Малатеста. Это был один из тех средневековых тиранов с артистической натурой, которые пеклись об интересах искусства. Малатеста, как я уже сказал, задержал у себя молодого художника, и тот написал для него замечательные фрески. В перерывах юноша (он был не только живописец, но также ювелир и скульптор) для собственного развлечения мастерил фигурки из глины и воска. Ими играли прелестные дети синьора Малатесты, которым однажды предстояло стать такими же тиранами, как отец.
Однажды утром Малатеста заметил, что его гость чем-то сильно озабочен. На его расспросы юноша отвечал, что получил письмо от отчима. Тот сообщал о только что объявленном конкурсе на главные двери флорентийского баптистерия и предлагал молодому человеку попробовать свои силы в этом состязании. Однако гость Малатесты колебался – в глубине души он полагал, что недостоин такой чести. Но Малатеста принялся всячески воодушевлять его; потом, уразумев, что у бедного художника попросту нет денег, чтобы добраться до Флоренции, дал ему кошелек, набитый золотом. Как мы видим, этот ужасный тиран Малатеста был превосходным человеком.
И молодой человек отправился во Флоренцию, полный надежд, но обуреваемый сомнениями. Сердце у него забилось сильнее, когда впереди показались башни и колокольни родного города; он собрал все свое мужество и, еще не повидавшись с женой и отчимом, явился в конкурсный совет, от которого теперь зависело все его будущее.
Члены совета спросили, как его зовут и чего он достиг в искусстве. Юноша ответил, что зовут его Лоренцо Гиберти; на второй вопрос ответить было труднее, ибо его достижения в искусстве пока что сводились к прелестным восковым и глиняным фигуркам, которыми играли очаровательные дети тирана Малатесты.
Бедняга пытался смягчить суровых судей, но все было напрасно; он уже решил вернуться в Римини, однако у него нашлись два заступника – друг его отчима, Брунеллески, и его собственный друг, Донателло. По их просьбе юноша был допущен к конкурсу, но скорее для поощрения – ничего серьезного от него никто не ждал. А для Лоренцо важно было только, что его допустили, остальное не имело значения. Он получил годовое содержание, наметил себе план и взялся за работу.
Весь год каждый из участников конкурса трудился изо всех сил, и в назначенный день каждый представил свой эскиз. Судей было тридцать четыре, все – художники, скульпторы либо золотых дел мастера, лучшие в своей области.
Вначале победителями были признаны трое: Брунеллески, Лоренцо ди Бартолуччо и Донателло. Эскиз Гиберти сочли весьма удачным; но художник был слишком молод, и судьи, то ли боясь обидеть мастеров, которые состязались с ним, то ли по какой-то другой причине, не решились объявить его победителем. И тут произошло неслыханное: Брунеллески, Бартолуччо и Донателло отошли в уголок, посовещались недолго, а потом заявили судьям, что принятое решение кажется им несправедливым: сердце и совесть подсказывают, что победу следует присудить не им, а Лоренцо Гиберти.
Нетрудно понять, что после такого шага судьи безоговорочно с ними согласились; и вот так, почти случайно, победа была присуждена тому, кто ее действительно заслужил. Правда, конкурс все-таки успел сделать свое дело, выполнив сначала первый долг любого конкурса – присудить победу незаслуженно.
Как говорит Вазари, работа над дверью длилась сорок лет, то есть на год меньше, чем прожил Мазаччо, и на год больше, чем предстояло прожить Рафаэлю. Когда Лоренцо приступал к работе, он был молод и полон сил, а закончил ее, уже будучи старым и согбенным. На центральной части одной из створок, когда она закрыта, виден портрет скульптора: это лысый старик. Вся его творческая жизнь была истрачена на дверь баптистерия, словно каплями пота вытекла на эту бронзу и застыла в ней!..
Вторую дверь, которую Гиберти заказали в награду за изготовление первой, он сделал играючи: ему надо было лишь выступить подражателем Андреа Пизано, мастера, считавшегося тогда неподражаемым.
Если выходишь из баптистерия через центральную дверь, на которой висят цепи, некогда преграждавшие вход в порт Пизы, – злосчастный трофей, достававшийся то генуэзцам, то флорентийцам, – перед тобой предстает колокольня Джотто во всем ее дерзновенном величии. Это архитектурное чудо, прочное, как башня, и ажурное, как кружево, настолько поражает своей блистательной легкостью, что Полициано воспел его в латинских стихах, а Карл V сказал, что его надо поместить под стекло и показывать только по большим праздникам. Еще и сейчас флорентийцы, желая описать несравненную красоту, говорят: «Это прекрасно, как колокольня собора».
Джотто устроил на ярусах колокольни ниши, которые заполнил Донателло. Он изваял шесть статуй. Одна из них, статуя брата Бардуччо Керикини, более известная под названием «Цукконе» – из-за его лысины, – по естественности и четкой вылепленности форм представляет собой истинный шедевр. Смотришь на нее – и кажется, что видишь античное совершенство в соединении с христианским чувством. Рассказывают, что Донателло, когда он провожал это свое любимое детище из мастерской на колокольню, веря в собственный гений и надеясь, что христианский Бог совершит для него такое же чудо, какое Юпитер совершил для Пигмалиона, все время пути вполголоса повторял: «Favella! Favella!» – «Говори! Говори же!»
Статуя осталась безгласной, но восторженное изумление людей всех стран и благодарность потомства говорили вместо нее.
ПАЛАЦЦО РИККАРДИ
Когда мы уже собрались покинуть Соборную площадь и направиться на площадь Великого Герцога, беглый взгляд, брошенный на Виа Мартелл и, открыл нам в конце этой улицы вид на такой прекрасный дворец, что мы решили ненадолго отклониться от нашего хронологического плана и зашагали прямо к этому зданию. По мере того как мы приближались к нему, он вырисовывался перед нами во всем своем изяществе и величии. Это был великолепный дворец Риккарди, стоящий на пересечении Виа Ларга и Виа деи Кальдераи.
Дворец Риккарди построил Козимо Старый – человек, которого отечество сначала дважды изгоняло, а кончило тем, что нарекло своим Отцом.
Козимо явился в одну из тех счастливых эпох, когда в едином порыве вся нация тянется к расцвету и у человека одаренного есть все возможности стать великим. В самом деле, одновременно с ним взошел блестящий век Флорентийской республики; повсеместно стала зарождаться новая художественная жизнь: Брунеллески возводил церкви, Донателло ваял статуи, Орканья высекал ажурные портики, Мазаччо покрывал фресками стены, а общественное благосостояние, которое сопутствовало подъему в искусстве, превратило Тоскану, расположенную между Ломбардией, Папской областью и Венецианской республикой, не только в самую могущественную, но и самую процветающую область Италии.
Родившись обладателем огромных богатств, Козимо за свою жизнь их чуть ли не удвоил и, будучи, в сущности, простым гражданином, приобрел необычайное влияние. Оставаясь в стороне от государственных дел, он никогда не подвергал правительство нападкам, но и не заискивал перед ним. Если правительство шло верной дорогой, оно могло рассчитывать на его похвалу, если же оно отклонялось от прямого пути, то не могло избежать его порицания; а похвала или порицание Козимо Старого имели значение первостепенной важности, ибо его степенность, его богатства и его клиентура придавали ему большой общественный вес. Этот человек не был еще главой правительства, но сумел стать, быть может, чем-то большим – его общепризнанным судьей.
Нетрудно представить, какая буря должна была понемногу собираться против подобного человека. Козимо видел зарницы надвигающейся грозы и слышал ее отдаленный гул; но, весь в своих грандиозных начинаниях, за которыми скрывались далеко идущие планы, не удостаивал даже оглянуться в ту сторону, откуда доносились первые раскаты грома, и достраивал капеллу Сан Лоренцо, возводил церковь доминиканского монастыря Сан Марко, строил монастырь в Сан Фредьяно и, наконец, закладывал фундаменты того прекрасного дворца на Виа Ларга, что называют ныне Палаццо Риккарди. И лишь когда враги начинали угрожать ему чересчур открыто, он, зная, что время битвы еще не пришло, покидал Флоренцию и удалялся в Муджелло, колыбель рода Медичи, где занимался строительством монастырей Боско и Сан Франческо, и изредка наезжал в город, будто бы для того, чтобы приглядеть за строящимися часовнями послушников у отцов Святого Креста и в камальдульском монастыре Ангелов, а затем снова отправлялся поторопить работы на своих виллах в Кареджи, Каффаджоло, Фьезоле и Треббио или основать в
Иерусалиме больницу для неимущих богомольцев. После этого он опять возвращался во Флоренцию – посмотреть, как идут дела у республики, и проведать свой дворец на Виа Ларга.
И все эти внушительные здания вырастали над землей одновременно, над ними трудилась целая армия рабочих, ремесленников, архитекторов, и общая сумма затрат составляла пятьсот тысяч скудо, то есть в пересчете на наши нынешние деньги – семь или восемь миллионов, а неутомимый строитель, казалось, нисколько не обеднел от этого непрерывного и поистине королевского расточительства.
Впрочем, Козимо и в самом деле был богаче многих королей своего времени. Его отец, Джованни Медичи, оставил ему около четырех миллионов в звонкой монете и еще восемь или девять в векселях, а он разными торговыми оборотами увеличил эту сумму более чем впятеро. В разных городах Европы ему принадлежали шестнадцать банкирских домов, которые полным ходом вели коммерческие операции как от имени Козимо, так и от имени его поверенных. Во Флоренции ему был должен каждый, поскольку его кошелек был открыт для всех, и, по мнению некоторых, эта щедрость была следствием прямого расчета; утверждали даже, что, когда республика колебалась между миром и войной, он неизменно советовал начать войну, чтобы заставить разорившихся граждан прибегнуть к его помощи. По словам Варки, Козимо затратил неимоверные усилия, добиваясь войны с Луккой, и в итоге, обладая видимыми достоинствами и скрытыми пороками, сумел стать главой и едва ли не государем республики, уже почти променявшей свободу на рабство.
Но борьба была долгой; Козимо выслали из Флоренции; он покинул ее как изгнанник, а вернулся триумфатором.
С этого времени Козимо стал проводить политику, которую впоследствии, как мы видели, продолжил его внук Лоренцо; он вернулся к коммерческим операциям, к векселям и строительству, предоставив заботы о мести своим приверженцам, пришедшим к власти. Преследования противников Козимо длились так долго, казни совершались так часто, что один из самых близких и верных его друзей счел необходимым прийти к нему и сказать, что он опустошает город. Козимо поднял взгляд от бумаг, над которыми он работал, положил вестнику милосердия руку на плечо, посмотрел ему в глаза и произнес: «Лучше я опустошу его, чем потеряю». И непреклонный счетовод вернулся к своим цифрам.
Так он дожил до старости, богатый, могущественный, почитаемый, – но десница Господня не миновала его, поразив его семью. Жена родила ему несколько детей, но лишь один пережил его. Дряхлый, немощный старец приказывал слугам носить его по громадным залам громадного дворца, чтобы он мог осмотреть статуи, позолоту и фрески на стенах; при этом он печально качал головой и приговаривал: «Увы, увы, какой большой дом для такой маленькой семьи!»
В самом деле, свое имя, богатство и могущество он оставил в наследство одному человеку – Пьеро деи Медичи, который, оказавшись между Козимо, Отцом отечества, и Лоренцо Великолепным, заслужил в народе лишь прозвище Пьеро Подагрик.
Прибежище греческих ученых, бежавших из Константинополя, колыбель возрождающихся искусств в XIV–XV веках, сегодняшнее место заседаний Академии делла Круска, Палаццо Риккарди служил резиденцией Пьеро Подагрику, а затем Лоренцо Великолепному, который затворился в нем после заговора Пацци, как некогда Козимо затворился там после своего изгнания. И этот дворец, вместе с обширнейшим собранием драгоценных камней, античных камей, великолепного оружия и редких рукописей, Лоренцо завещал своему сыну Пьеро, которого прозвали хотя и не Подагриком, зато Пьеро Безумцем.
Это он распахнул ворота Флоренции перед Карлом VIII, отдал ему ключи от Сарцаны, Пьетра-Санты, Пизы, Либ-ра-Фатты и Ливорно и взялся вытребовать для него у республики двести тысяч флоринов под видом ссуды.
Вдобавок он любезно пригласил французского короля остановиться в своем дворце на Виа Ларга – приглашение, которое король благосклонно принял, тем более что он в нем и не нуждался, чтобы так поступить.
Ибо, как всем известно, Карл VIII въехал во Флоренцию не как союзник, а как победитель, на боевом коне, с копьем в руке и с опущенным забралом: он пересек так весь город от ворот Сан Фриано до дворца Пьеро, только накануне решением Синьории изгнанного из Флоренции вместе со всей семьей.
Именно в Палаццо Риккарди Пьеро заключил с королем договор от имени Флорентийской республики – договор, который республика отказалась признавать. Разногласия были настолько острыми, что дело чуть не дошло до кровопролития. Представителей Синьории впустили в большой зал дворца, где Карл VIII принял их сидя и с покрытой головой. Стоявший возле трона королевский секретарь начал одну за другой зачитывать статьи договора,
но каждая статья вызывала споры, и тогда король в нетерпении воскликнул:
– И все же будет так, как здесь написано, а не то я велю затрубить в трубы!
– Ну что ж, – ответил Пьеро Каппони, секретарь республики, выхватывая бумагу из рук чтеца и разрывая ее в клочки, – велите затрубить в трубы, ваше величество, а мы ударим в колокола.
Этот ответ спас Флоренцию. Король подумал, будто сила республики не уступает ее гордыне; когда Пьеро Каппони бросился прочь из зала, Карл VIII приказал вернуть его и предложил другие условия, которые были приняты.
Через одиннадцать дней король покинул Флоренцию и отправился в поход на Неаполь, а сокровищницу, собрания произведений искусства и книгохранилища оставил на разграбление своим солдатам.
Дворец Риккарди пустовал восемнадцать лет, пока длилось изгнание Медичи; затем они вернулись с помощью испанцев – но, даже несмотря на такую мощную поддержку, по условиям капитуляции вернулись не как властители, а как простые граждане.
Однако в конечном счете могучий ствол, давший столько мощных ветвей, истощил жизненные соки и дерево начало хиреть. После того как Лоренцо II упокоился под надгробием работы Микеланджело, кровь Козимо Старого осталась лишь в жилах трех бастардов; это были: Ипполито, побочный сын Джулиано II, ставший кардиналом; Джулио, побочный сын Джулиано Старшего, убитого заговорщиками, ставший папой под именем Климента VII; и наконец, Алессандро, побочный сын Джулиано II (или Климента VII – это так и осталось неизвестно), ставший герцогом Тосканским. Когда однажды все трое оказались во Флоренции и поселились на одной и той же площади, злые языки прозвали ее площадью Трех Мулов.
Если когда-то старшая ветвь рода Медичи пользовалась у флорентийцев безмерным почетом, то теперь она докатилась до всеобщей ненависти и презрения. Люди ждали только подходящего момента, чтобы изгнать Алессандро и Ипполито из Флоренции; однако их дядя Климент VII, занимавший тогда папский престол, оказывал им столь мощную поддержку, что немногочисленные уцелевшие республиканцы не решались что-либо предпринять.
Когда солдаты коннетабля де Бурбона захватили и разграбили Рим, а папа оказался пленником в замке Святого Ангела, флорентийцы поняли, что момент, которого они так ждали, наконец настал. Они не упустили такого случая, и Медичи отправились в изгнание в третий раз. Однако Климент VII был человек изворотливый. Он продал семь кардинальских шапок и уплатил часть выкупа, а за остальную часть отдал в залог еще пять. Под такое обеспечение надзор за ним стал менее строгим, и он воспользовался этим: переоделся в платье лакея и бежал из Рима в Орвьето. Флорентийцы, видя, что Карл V одержал блестящую победу, а папа находится в бегах, возомнили, что могут смотреть в будущее без боязни.
На их несчастье, Карлу V, избранному императором в 1519 году, нужно было короноваться. Корыстные интересы разделили этих двоих, корыстные интересы их и сблизили. Карл V обещал папе захватить Флоренцию и дать ее в приданое своей побочной дочери Маргарите Австрийской, которую обручили с Алессандро.
Каждый из них честно выполнил обещанное: Карл V торжественно короновался в Болонье – при сложившихся теперь трогательных отношениях с папой он не желал видеть разорение, учиненное его солдатами в святом городе; а после осады и жестокого штурма, когда Микеланджело сражался в рядах защитников, а Малатеста повел себя как предатель, Флоренция пала, и 31 июля 1531 года Алессандро триумфально вступил в будущую столицу своего герцогства.
Алессандро обладал всеми пороками своей эпохи и очень немногими достоинствами своей семьи. Его мать была мавританка, и он унаследовал от нее неукротимые страсти. Он был постоянен в ненависти и непостоянен в любви, он попытался убить Пьеро Строцци и отравил своего кузена, кардинала Ипполито, «который, – как пишет Варки, – был красивый и обходительный молодой человеку ясного ума и тихого нрава, щедрый и великодушный, как папа Лев X: однажды он дал разом четыре тысячи дукатов ренты одному дворянину из Модены по имени Франческо Мария Мольца, обладавшему широкими познаниями в великой и достойной литературе, а также в трех важнейших языках, какими в ту пору считались греческий, латинский и тосканский».
Неудивительно, что за шесть лет правления Алессандро против него не раз устраивались заговоры.
Филиппо Строцци передал огромные деньги одному монаху-доминиканцу в Неаполе, который, как считалось, имел большое влияние на Карла V, чтобы тот уговорил императора вернуть его родине свободу. Джанбаттиста Чибо, архиепископ Марсельский, знал, что у его невестки, покинувшей мужа и поселившейся во дворце Пацци, любовная связь с Алессандро, и решил убить его, когда он придет на свидание. Поскольку было известно, что Алессандро всегда носит под одеждой искусно сработанную кольчугу, не поддававшуюся ни шпаге, ни кинжалу, Чибо наполнил порохом сундук, на который обычно садился герцог, когда приходил к маркизе, и собирался взорвать его. Но заговор Чибо был раскрыт, как и все те, что за ним последовали. Все, кроме одного. Правда, в этом заговоре состоял лишь один человек, которому предстояло стать и его исполнителем. Этим одиноким заговорщиком был Лоренцо Медичи, принадлежавший к младшей ветви славного рода – той, что происходила от Лоренцо, младшего брата Козимо Старого. Младшая ветвь, развиваясь одновременно со старшей, успела в свою очередь разделиться на две ветви.
Лоренцо родился во Флоренции 23 марта 1514 года; отец его был Пьерфранческо деи Медичи, приходившийся во втором колене внучатым племянником Лоренцо, брату Козимо, а мать – Мария Содерини, женщина большого ума и образцовой скромности.
Лоренцо рано лишился отца, ему тогда едва исполнилось девять лет, и потому начатки образования он получил под надзором матери. Но учение давалось мальчику очень легко, так что вскоре он смог выйти из-под материнской опеки и дальнейшим его образованием занимался Филиппо Строцци. Тут-то и сформировался этот странный характер – насмешливый и беспокойный, сотканный из страстных порывов и сомнений, неверия, самоуничижения и надменности. Близкие друзья, перед которыми ему не было нужды притворяться, никогда не видели его два раза подряд с одним и тем же выражением лица. Он льстил всем, не уважая никого, любил красоту, не различая пола, – это был один из тех гермафродитов, какие по прихоти природы появляются в эпохи упадка. Время от времени из этой смеси разнородных качеств возникала страстная жажда славы и бессмертия, тем более неожиданная, что тело, служившее ей вместилищем, было хрупким и женственным – за это юношу называли не иначе как Лоренцино. Ближайшие друзья никогда не видели его ни смеющимся, ни*плачущим – он лишь высмеивал и проклинал. В такие минуты лицо его, скорее миловидное, чем красивое, ибо он был смугл от природы и хмур, выражало поистине адскую злобу, и, хотя выражение это появлялось лишь на миг, словно молния, самым храбрым становилось не по себе. Когда Лоренцо было пятнадцать лет, папа Климент возымел к нему какую-то странную привязанность и вызвал его в Рим, а у юноши несколько раз возникало желание убить своего покровителя. Вернувшись затем во Флоренцию, он принялся всячески угождать герцогу Алессандро с такой ловкостью и таким раболепием, что вскоре стал не просто одним из его друзей, но, быть может, его единственным другом.








