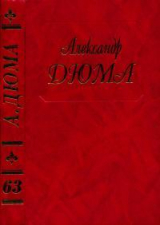
Текст книги "Путевые впечатления. Год во Флоренции"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 35 страниц)
Я в точности исполнил сказанное, прочтя рукопись от первой до последней строчки.
Вот что это был за дом.
МАРСЕЛЬ В 93-м ГОДУ
КОКЛЕН[5]
В марте 1793 года из Парижа в Марсель прибыл некий человек; он тут же отправился во дворец правосудия, надел шляпу, украшенную трехцветными перьями, и показал бумагу с подписями членов Комитета общественного спасения, согласно которой он назначался председателем революционного трибунала. Ему не стали возражать или каким-либо образом противодействовать его вступлению в должность, а лишь спросили, как его зовут: он ответил, что его имя – гражданин Брут. В то время имя это было в большой моде, и потому никто не удивился, что в Париже выбрали этого гражданина председателем революционного трибунала Марселя.
В течение всего 92-го и в начале 93-го года гильотина в Марселе нередко изнывала в бездействии, по этому случаю была подана жалоба в Комитет общественного спасения, и Комитет общественного спасения, как мы уже сказали, прислал гражданина Брута, чтобы тот несколько оживил деятельность патриотической машины. С первого взгляда было заметно, что в Париже сделали безошибочный выбор: гражданин Брут умело направил поток заключенных из переполненных тюрем на подмостки эшафота.
Каждое утро ему подавали списки подозрительных лиц. Чтобы не терять напрасно времени, Брут уносил эти списки с собой на заседания революционного трибунала, где он приговаривал людей к смерти, причем на его длинном сухощавом лице не было заметно в это время ни радости, ни сожаления. Пока секретарь оглашал решение трибунала, он отмечал в утренних списках фамилии тех, кто должен был занять в тюрьмах опустевшие к вечеру места.
Закончив эту работу, он возвращался в темную квартиру на четвертом этаже, который одним из своих коридоров, какие часто бывают в старых городах, соединял Большую улицу и улицу Кутеллери. Там он и пребывал, нелюдимый, неприступный даже для Сарона и Мурая, которые выполняли роль Каррье и Фукье-Тенвиля при этом новом Робеспьере.
Когда Брут порой выходил прогуляться, он надевал на голову картуз из лисьего меха и вешал на шею такую большую саблю, что она волочилась за ним по мостовой, высекая искры из булыжника. Его наряд дополняли карманьола и темные панталоны. Прохожие, попадавшиеся ему навстречу во время такой прогулки, спешили снять перед ним шляпу, опасаясь, что он может снять с них голову.
Благодаря ласковому солнцу, ярко выкрашенным приветливым фасадам домов и лазурному морю, смеющемуся у его ног, Марсель, хотя и глубоко пораженный революционной лихорадкой, вытягивавшей из него самую чистую его кровь, еще какое-то время сохранял свой веселый и благополучный вид, составляющий главную особенность его облика. Однако мало-помалу над городом сгустилась пелена скорби, затихли его шумные улицы, а его окна, раскрывающиеся, подобно подсолнечникам, чтобы уловить то первый солнечный луч, то первое дуновение вечерней прохлады, больше не отворялись; и, наконец – крайний признак скорби, особенно пугающий в таком торговом городе, как Марсель, – закрылись лавки: все, кроме одной.
Причина этого, по-видимому, была в безобидном промысле, каким занимался ее владелец, ибо над дверью этой лавки красовалась вывеска:
«Коклен, мастер картонных игрушек».
Кроме того, желая, очевидно, заручиться покровительством республиканских властей, хозяин заведения велел нарисовать в верхней части вывески красный колпак, а по бокам надписи на ней – топор и полумесяц.
Лавка Коклена выходила на площадь Пти-Мазо. Это было небольшое, темное помещение со сводчатым потолком. Кто заглядывал туда мимоходом, успевал заметить стол, находившийся почти у самой двери, а за столом – человека с угасшим взглядом, с отвислыми щеками, который разрезал ножницами лист картона, делая из него или коробочку, или тележку, или домик, или колодец, или дерево; а не то он катал по столу карету с запряженными в нее лощадьми, или дергал за веревочку паяца, заставляя его плясать, или одевал и переодевал куклу. Но, что бы он ни делал, движения его всегда были мягкими и размеренными; он медленно протягивал руку к циркулю или горшочку с клеем, ритмично покачивал головой, взявшись за кисть или перочинный ножик, а лицо его неизменно оставалось благодушно-сонливым, что вполне соответствовало его ребяческим занятиям.
Время от времени он вставал и уходил в комнату за лавкой, становясь невидимым для взглядов прохожих. И тогда было слышно, как скрипит колесо, порой пронзительно взвизгивая, – так бывает, если точильщик резко замедляет или ускоряет его вращение. Иногда в вечной тьме задней комнаты словно вспыхивала молния, а вспыхнув, она сразу гасла в потревоженном мраке. Можно было подумать, что какой-то школьник взял увеличительное стекло и пустил солнечный зайчик в лицо учителю. Затем лавочник, лицо которого излучало добродушие, открывал и закрывал за собой дверь задней комнаты, снова усаживался за стол и продолжал трудиться над картонной лошадкой.
Этот человек и был Коклен.
Несколько недель подряд перед лавкой Коклена каждый день подолгу задерживалась одна молодая женщина: не потому, что ей так уж нравилось разглядывать его поделки, но уступая прихоти дочки, прелестной шестилетней девочки с личиком херувима, которая всякий раз, проходя мимо лавки, тянула мать за руку, требуя остановиться, и неотрывно смотрела своими большими голубыми глазами на шедевры лавочника. Что касается матери, которую с ее белой кожей и с длинными белокурыми волосами можно было принять за северный цветок, попавший в жаркий воздух Прованса, то счастье ребенка, любующегося игрушками Коклена, немного смягчало неутешное горе, по-видимому терзавшее ее, и потому она позволяла дочке подолгу, иногда около получаса, разглядывать изделия мастера детских игрушек.
Коклен не отличался ни наблюдательностью, ни пытливостью, однако в конце концов он обратил внимание на эту женщину и этого ребенка и, несмотря на полное отсутствие воспитания, стал достаточно дружелюбно кивать им в знак приветствия, что успокаивало мать и придавало храбрости дочери.
Однажды молодая женщина спросила у Коклена, сколько стоит хорошенький картонный домик с очень похоже расписанной под черепицу крышей и зелеными ставнями. Девочка прыгала от радости и хлопала в ладоши, поняв, что мама сейчас купит ей этот красивый домик. Коклен прикинул стоимость затраченного труда и, мгновение поразмыслив, произнес:
– Три франка.
Это были первые слова, которые за все это время услышала от него молодая женщина. Она положила указанную сумму на стол, ибо Коклен не протянул руку за деньгами, и девочка, сияя от счастья и гордости, унесла с собой чудесную игрушку.
Либо ребенок удовлетворился этой покупкой и потерял интерес к другим соблазнам, таившимся в лавке Коклена, либо дело, столь удручавшее молодую женщину, не позволило ей заглянуть на улицу Пти-Мазо, – но на следующий день мать с дочерью не пришли туда.
До того часа, когда они обычно приходили и останавливались перед лавкой, Коклен пребывал в полном спокойствии и прилежно выполнял свою обычную работу. Но вот этот час настал, и Коклен стал оборачиваться к двери как бы в некотором нетерпении, будто кто-то, кого он ждал, не явился на свидание; однако, когда время прошло, нетерпение Коклена сменилось беспокойством: он то и дело вставал и высовывался наружу, глядя в оба конца улицы, и всякий раз, убедившись, что его ожидания обмануты, с огорченным видом усаживался за стол. В тот день все у него шло вкривь и вкось, он не смог доделать коробочку: кусочки картона не подходили друг к другу, клей был переварен, ножницы не слушались; и вдобавок – удивительное дело! – в тот день в комнате за лавкой ни разу не вспыхнула молния, не раздался пронзительный скрежет.
Но на следующий день отвислые морщинистые щеки Коклена порозовели, когда молодая женщина с дочерью подошли к его лавке. Однако он скупо выразил свою радость, лишь глуповатая улыбка тронула его толстые губы и потом притаилась где-то в глубине тусклых глаз; девочка, ободренная этой улыбкой, смело вошла в лавку и положила маленькую ручку на плечо Коклена, а другой стала вертеть флюгер на башне картонного замка; Коклен повернулся к очаровательной малютке и состроил дружелюбную гримасу; девочка уже не чувствовала робости при виде одутловатого, немытого лица игрушечного мастера, вскоре она совсем освоилась и, пока взор матери был прикован к дворцу правосудия, где проходили заседания трибунала, стала хозяйничать в лавке: окунала пальчики в горшочек с клеем, дергала за ниточки паяцев, заставляя их плясать, катала по столу кареты, открывала окна картонных домиков и все перемешала на столе у Коклена, который нисколько не рассердился и взгляд которого останавливался то на матери, то на ребенке.
В какую-то минуту, когда он смотрел на мать, девочка проскользнула в комнату за лавкой и почти сразу же, вскрикнув, снова показалась на пороге, разделяющем две комнаты: пальчик у нее был залит кровью.
Услышав этот крик, мать живо обернулась и бросилась в лавку.
– О Боже! Боже мой! – воскликнула она. – Что с тобой, бедная деточка? Ты порезалась?
– Мама, мамочка, не ругай меня, – ответила девочка, встряхивая ручкой и всеми силами стараясь сдержать слезы, – это гадкий большой нож меня укусил.
– Большой нож! – воскликнула мать.
Лицо Коклена стало мертвенно-бледным. Он тщательно запер дверь задней комнаты и положил ключ в карман.
– Ничего страшного, ничего страшного, – произнес он дрожащим голосом. – Вот пластырь; вы лучше сами перевяжите ей пальчик, у меня чересчур тяжелая рука.
Коклен проявил необычайную заботливость, принес чашку с водой и стоял на коленях перед девочкой, пока мать промывала ей пальчик и перевязывала ранку кусочком пластыря.
– Должно быть, она неосторожно взялась за какой-нибудь кухонный ножик, – немного успокоившись, произнесла мать. – Этой несносной детворе непременно нужно все потрогать.
– Ах, гражданка, – отвечал Коклен, – я очень расстроен: это моя вина, мой недосмотр. Но мадемуазель Луиза проворна, как козочка.
– И неугомонна, как волчок, – с нежной и грустной улыбкой сказала молодая женщина.
Эта улыбка, пусть и мимолетная, придала Коклену большую общительность. Он пожалел, что у него нет второго стула или хотя бы табурета, чтобы усадить гражданку и ее дочку. В беседе он производил впечатление человека недалекого, но обладающего известной твердостью характера – эти два качества почти всегда соединяются. Речь его была краткой, отрывистой, меткой, а выговор – как у горца. А молодая женщина, со своей стороны, перестала робеть перед этим человеком, вначале внушавшим ей какое-то безотчетное отвращение. И она, в свою очередь, тоже разговорилась с ним.
– Вам хватает на жизнь того, что вы здесь зарабатываете? – спросила она его.
– О! У меня бывает еще работа в городе, – отвечал Коклен.
– И там у вас хороший заработок?
– Да, да! Мне хорошо платят.
– И этой работы всегда достаточно?
– Ну, как вам сказать, – отвечал мастер, снова усевшись за стол, откинувшись на спинку стула и засучив рукава, – как вам сказать: день на день не приходится.
– Но сейчас, похоже, дела идут неплохо? – спросила молодая женщина. – Вы как будто довольны жизнью.
– О да! О да! Вот уже два месяца я обеспечен заказами, и с каждым днем их все больше и больше, благодаря гражданину Бруту.
– Вы знакомы с гражданином Брутом? – вскричала молодая женщина, оставив без внимания странную связь между гражданином Брутом и доходами игрушечных дел мастера.
– Знаком ли я с гражданином Брутом? – отозвался Коклен. – Еще бы, черт возьми! Этот молодец шутить не любит.
– Вы с ним знакомы! О Господи! Быть может, само Провидение привело меня сюда. А часто ли вы с ним видитесь?
– Ну как сказать, время от времени вижусь. Как управлюсь с работой за день, так иду к нему получить распоряжения на завтра. И мы с ним выпиваем по стаканчику за здоровье республики, единой и неделимой. Он ведь негордый, гражданин Брут.
– Гражданин Коклен, вы кажетесь мне славным человеком.
– Я – славным человеком?.. О гражданка!
– Ведь вы охотно окажете мне услугу, не правда ли?
– Если б я только мог, гражданка. Лучшего мне и не надо бы.
– Тогда я вам все расскажу, гражданин Коклен. Мой муж в тюрьме, вот почему я провожу целые дни на этой улице; он невиновен, клянусь вам, но у него есть враги, потому что он богат. Не могли бы вы обратиться к гражданину Бруту с просьбой рассмотреть это дело по всей справедливости?.. Фамилия моего мужа – Робер; запомните ее, пожалуйста, и, поскольку вы знакомы с гражданином Брутом, поскольку вы часто заходите к нему после работы, скажите ему, сразу как увидитесь с ним, скажите ему, что одна бедная, несчастная молодая женщина во имя всего святого умоляет его не отнимать у нее мужа… Скажите ему, что мой бедный Шарль, отец моей Луизы, не сделал ничего плохого; скажите ему, что Шарль вовсе не участвовал в заговоре, что он настоящий патриот и предан республике. Если бы вы только знали, как он меня любит!.. Если бы вы знали, как он любит свою дочь!.. Надо вам сказать, я вижусь с ним каждый день: ровно в пять часов он подходит к маленькому зарешеченному окну и машет мне рукой, и каждый день мы приходим сюда к пяти часам и ждем перед этим окном. Я сделала все возможное, чтобы увидеться с гражданином Брутом, но меня не допустили к нему. Я бы так просила, так умоляла его, что он, конечно же, помиловал бы моего мужа. Но теперь сам Господь Бог привел меня сюда, и раз вы знакомы с гражданином Брутом, то моего мужа не убьют. Луиза, дитя мое! – воскликнула бедная мать, совсем теряя голову. – Твоего отца хотят убить, давай вместе попросим гражданина Коклена, чтобы его не убивали!
Луиза расплакалась и стала кричать:
– Я не хочу, чтобы папа умер, господин Коклен; не убивайте папу!
Коклен смертельно побледнел.
– Не слушайте ее! – воскликнула мать. – Милый господин Коклен, этот ребенок сам не знает, что говорит.
Она хотела дотронуться до загрубевших рук игрушечного мастера, но тот мгновенно отдернул их.
– Гражданка, не прикасайтесь к моим рукам, – сказал он, и в его голосе слышалось нечто похожее на ужас.
Бедная женщина отшатнулась, не понимая, что могло так взволновать Коклена. На миг наступило молчание.
– Так вы говорите, – начал Коклен, – что жизнь вашего мужа зависит от гражданина Брута?
– Единственно от него! – воскликнула молодая женщина.
– Очень уж он суров, гражданин Брут! – продолжал Коклен, покачивая головой. – Очень, очень суров! – вздохнул он.
– Вы отказываете мне в покровительстве? – робко спросила молодая женщина, умоляюще складывая руки.
– Отказываю? – сказал Коклен. – Да неужели я откажу вам хоть в чем-нибудь, что для меня возможно? Ах, гражданка, вы меня не знаете. И потом, разве вы не купили у меня картонный домик? Разве вы не приходите каждый день в мою лавку, где бывает так мало народу? Разве вы не разговариваете вашим нежным голоском с беднягой, которому никто и слова не скажет? Хотя, отдайте мне должное, разве у меня не лучшая лавка в Марселе? Разве кто-нибудь умеет вырезать игрушки так, как я? Ведь у меня и руки ловкие, и вкус хороший. Вот, поглядите на этого паяца, до чего же забавная штука: стоит мне дернуть за ниточку, и всё у него оживет, задвигается – и руки, и ноги, и голова; глядите, глядите!
Желая угодить Коклену, молодая женщина сквозь пелену слез, застилавшую ей глаза, посмотрела на забавного картонного паяца, который дергался в руках мастера, исполненного гордости и самодовольства.
А маленькая Луиза, легко, как все дети, переходившая от печали к радости, прыгала от радости и заливалась смехом.
Это была трогательная, почти семейная сцена. Коклен, откинувшись на стуле, одной рукой держал на уровне своего носа картонного человечка, а другой дергал за ниточку, отчего паяц быстро двигал руками и ногами. И чем быстрее прыгал картонный человечек, тем радостнее звучал смех Луизы. Коклен сиял, наслаждаясь успехом своего изобретения. Он дергал за ниточку и в такт движениям паяца говорил:
– Так вы сказали, гражданка, что против вашего мужа выдвинуто обвинение? Хорошо, скоро я увижусь с гражданином Брутом и поговорю с ним… Очень уж он суров, гражданин Брут! Но кто знает… Как бы там ни было, я сделаю для вашего мужа все, что в моих силах, не волнуйтесь, гражданка… К несчастью, я мало что могу… но все, что я смогу, будет сделано… все, что смогу!
– О! Милый господин Коклен!
– Ну, гражданка, я же не беспамятный. Я знаю… и никогда не забуду, что вот уже две недели вы каждый день приходите сюда и полчаса смотрите, как я работаю, и что в эти полчаса, не знаю уж, почему, я чувствую себя счастливым. Видите ли, в Марселе художники не в чести… и раньше мне приходилось одному любоваться своей работой… Поглядите, маленькая гражданка, как пляшет мой паяц. Не правда ли, она очень любит папу?
– Всем сердцем, – ответила девочка.
– Ну хорошо. Она не разломала домик?
– Нет, господин Коклен, что вы, я поставила его на ломберный стол в гостиной.
– Вы, должно быть, счастливы, гражданка, что у вас такая красивая дочка?
– Да, – сказала молодая женщина, – не только красивая, но и послушная, и за это я куплю ей еще и паяца.
Луиза издала ликующий вопль. Коклен гордо выпрямился во весь рост и вручил паяца бедной матери, а та заплатила четыре франка, еще раз препоручила своего мужа заботам Коклена и вышла из лавки.
– Постойте, гражданка, какой у вас адрес? – спросил он.
– Улица Тьонвиллуа, четвертый квартал, дом шесть.
– Благодарю вас, – сказал Коклен.
Он уселся за стол, записал на клочке бумаги адрес молодой женщины, сунул записку в засаленный карман своего пестрого жилета, глубоко вздохнул и прошел в комнату за лавкой.
Мгновение спустя там засверкали молнии и раздался пронзительный скрежет.
На следующий день, около одиннадцати часов утра, молодая женщина узнала, что ее муж предстал перед трибуналом Брута и что Брут приговорил его к смерти.
Вначале это известие сразило ее. Но затем, увидев, как ее ребенок играет с красивым картонным домиком, она вспомнила о Коклене, велела Луизе быть умницей и забавляться с игрушками, заперла дверь на ключ и со всех ног бросилась на улицу Пти-Мазо.
Лавка мастера детских игрушек была закрыта.
Это лишало ее последней надежды; словно обезумев, она принялась стучать кулаками в дверь, время от времени откидывая голову назад и разражаясь рыданиями.
На стук никто не отозвался, но в соседнем доме открылось окно, оттуда выглянула какая-то старуха и, увидев, как молодая женщина не переставая стучит в дверь, спросила, чего ей надо.
– Мне надо поговорить с гражданином Кокленом! – воскликнула молодая женщина.
– Гражданин Коклен ушел со своей тележкой, – ответила старуха, – сейчас он, должно быть, на Канебьер.
И она закрыла окно.
Молодая женщина побежала к улице Канебьер; но по мере того, как она туда приближалась, толпа становилась все плотнее, и в конце концов ей пришлось остановиться на одной из соседних улиц. Люди с физиономиями висельников сокрушались:
– Какая жалость, что нельзя туда пройти! Сегодня ведь их будет двенадцать! Кому достались передние места, не зря деньги заплатили!
Бедная женщина упала без чувств.
Ее перенесли в ближайший дом, порылись у нее в карманах, нашли письмо с адресом и отнесли ее на улицу Тьонвиллуа.
Когда она пришла в себя, маленькая Луиза стояла перед ней на коленях, а старая служанка, приехавшая с ней из Парижа, брызгала ей в лицо водой.
Она захотела встать, но не смогла держаться на ногах и снова опустилась в кресло.
Так она просидела два часа, вцепившись в подлокотники кресла, глядя в одну точку, не произнося ни слова.
Спустя два часа раздался громкий звонок в дверь.
– Посмотрите, что там, – сказала она старой служанке.
Служанка спустилась вниз. Через минуту она вернулась, дрожа всем телом и сжимая в руках записку.
Какой-то человек в красном колпаке бросил эту записку на лестницу, крикнув:
– Для гражданки вдовы Робер!
Молодая женщина взяла бумагу. Там было написано следующее:
«Гражданка, их было двенадцать, ваш муж должен был идти двенадцатым, я пропустил его первым; как видите,
я сдержал свое обещание: я сделал все что мог.
КОКЛЕН,
исполнитель смертных приговоров».
В эту минуту Луиза сказала матери:
– Мама, погляди, как прыгает мой паяц!
Бедная женщина встала, разорвала на куски картонного паяца и картонный домик, обняла дочь и вновь упала без чувств, успев сказать:
– Чудовища! Они убили твоего отца!
ТУЛОН
Как гласит поговорка, даже самую приятную компанию когда-нибудь придется покинуть, а потому, проведя три дня в празднествах и удовольствиях, я вынужден был покинуть компанию милейших и остроумнейших марсельцев, среди которых неделя пролетела, как один час.
Провожая меня к карете, Мери попросил Жадена не забыть по дороге сделать для него зарисовку Кюжского озера; затем мы обнялись на прощание, я отправился в Тулон, а Мери остался в Марселе.
Дорога, которой выезжают из столицы Прованса, столь же пыльна и выжжена солнцем, как и та, по которой туда прибывают; нет ничего однообразнее и тоскливее, чем эти оливковые рощи вперемежку с виноградниками, между которыми, как выразился президент де Бросс, из любознательности выращивают пшеницу.
Спустя час или два дорога пошла среди безлесных, оголенных гор, которым солнце и дожди оставили лишь один гранитный скелет. Мы въехали в долину столь же иссохшую, как и остальной наш путь; наконец, уже к ночи, обогнув громадную скалу, вокруг которой дорога описывала дугу, мы оказались перед обширной водной поверхностью: это и было Кюжское озеро.
Повинуясь нашей воле, кучер остановился. Жаден сделал обещанную зарисовку для Мери. На первом плане было озеро, на втором – деревня Кюж и деревенская церковь; горизонт замыкали горы. Пока он рисовал, я взял ружье и прошелся по берегу озера, чтобы посмотреть, не попадется ли где утка; к несчастью, берег не успел еще обрасти тростником и утки держались на середине озера.
Я вернулся к Жадену, уже закончившему эскиз, и мы стали готовиться к переправе.
Дело это оказалось нелегким, ибо жители Кюжа еще не успели построить мост через озеро; возможно, перед тем как строить его, они хотели удостовериться, что это озеро останется в их собственности. А между тем проезжая дорога оказалась под водой: было видно, как она исчезает у одного берега и вновь появляется у противоположного, но примерно четверть льё надо было ехать между вехами, торчащими из воды справа и слева от нее. Дорога была насыпная, и стоило бы нам хоть слегка отклониться от нее в ту или иную сторону, мы свалились бы на дно озера, о глубине которого можно было судить по верхушкам деревьев, выступавшим из воды и казавшимся кустами. Мне стало приходить в голову, что Провидение проявило чрезмерную щедрость по отношению к деревне Кюж, даровав ей такое озеро: ее жителям вполне хватило бы родника.
И все же надо было как-то переправляться, раз в нашем распоряжении не было ни моста, ни парома; мы взобрались на империал, чтобы быть готовыми в случае необходимости спастись вплавь, а наша карета храбро въехала в озеро и благополучно добралась до противоложного его берега.
Деревню Кюж мы застали в состоянии сильного волнения: правительство узнало об озере и заявило на него свои права. Озёра, как правило, должны принадлежать правительству, но это озеро являло собой спорный случай. Оно только что образовалось и, в отличие от других, не вело свое происхождение от сотворения мира или, по крайней мере, от всемирного потопа. Ибо, как известно, у настоящего озера родословная должна восходить к потопу. Потоп – своего рода 1399-й год для озер. А вот Кюжское озеро бесцеремонно раскинулось на землях, принадлежавших жителям окрестных деревень. Соседи-собственники соглашались уступить озеро правительству, но хотели, чтобы им возместили стоимость земель, которые они теряли из-за этой уступки. Ведомство вод и лесов подняло их на смех, тогда они показали зубы ведомству вод и лесов; короче говоря, стороны успели обменяться посланиями на гербовой бумаге, и жители Кюжа, как разбогатевший сапожник из басни, готовы были уже отказаться от своего озера, лишь бы им вернули спокойную жизнь.
Мы переночевали в Кюже, а на следующий день, в шесть часов утра, снова отправились в путь.
Единственной достопримечательностью, встретившейся нам по дороге в Тулон, было Оллиульское ущелье; Оллиульское ущелье – это Фермопилы Прованса. Представьте себе отвесные скалы высотой от двух до трех тысяч футов, с вершины которых вас провожают любопытным взглядом затерянные деревушки, куда непонятно как добираются. Иные из этих гор к тому же еще притязают на звание потухших вулканов, на что у меня нет возражений.
При выезде из Оллиульского ущелья вас поражает необычайно резкий контраст: после теснины с гладкими гранитными стенами, такой узкой, что возникает ощущение удушья, вы вдруг оказываетесь на восхитительной равнине, слева ограниченной полукружьем гор, а справа – морем. Эта долина – оранжерея Прованса; здесь под открытым небом наперегонки растут сирийская пальма, майоркский померанец, японская мушмула, антильская гуава, американская юкка, критское мастиковое дерево и константинопольская акация; здесь находят себе временное пристанище растения, вывезенные с Востока и с Юга, чтобы затем отправиться умирать в наши северные ботанические сады. Те же, которым посчастливилось здесь остаться, должны чувствовать себя, словно на родине.
Тут, у обочины дороги, ведущей из Оллиульского ущелья в Тулон, 18 июня 1815 года, в день сражения при Ватерлоо, состоялась встреча маршала Брюна с Мюратом. Мюрат был одет как нищий: на нем были очки в золотой оправе, серый редингот, испанская сетка для волос и большая каталанская войлочная шляпа. Царственный нищий просил позволения поступить простым солдатом в армию того, кого он погубил дважды: первый раз – приняв сторону его противников, второй раз – приняв его сторону. Все знают, каков был итог этой встречи. Отвергнутый Францией, Мюрат отправился на Корсику, а оттуда отплыл в Калабрию. Его тело покоится в церкви города Пиццо.
Въезжая в Тулон, мы миновали знаменитый балкон Пюже, по поводу которого кавалер Бернини, прибыв во Францию, заметил, что незачем выписывать художников из Италии, если местные жители способны создать такое.
Три головы, поддерживающие этот балкон, представляют собой карикатуры на трех тулонских консулов, вызвавших недовольство Пюже; поэтому город бережно хранит их, словно семейные портреты.
У меня с собой были письма для г-на Ловерня, блестящего молодого врача, который сопровождал герцога де Жуанвиля в его путешествии по Корсике, Италии и Сицилии, и брата художника-мариниста Ловерня, два или три раза объехавшего вокруг света. Узнав, что мы намерены остановиться в Тулоне, он предложил нам вместо унылой городской квартиры свой маленький загородный дом у форта Ла-мальг, полный солнца и воздуха. Это предложение было сделано с такой подкупающей искренностью, что нам ничего не оставалось, как немедленно на него согласиться. Мы вселились туда в тот же вечер и утром, проснувшись и распахнув окна, обнаружили перед собой бескрайний морской простор, по которому всегда будет тосковать тот, кто видел его однажды, и на который можно смотреть без устали.
С Тулоном связано не так уж много исторических воспоминаний. Если не считать осады города Евгением Савойским и измены роялистов, сдавших его англичанам и испанцам в 1793 году, название «Тулон» редко встречается у историков; однако это второе событие оставило в истории неизгладимый след: именно в Тулоне по-настоящему началась военная карьера Бонапарта.
Из достопримечательностей в Тулоне имеются лишь каторжная тюрьма и порт. Хотя первое из этих учреждений не слишком привлекало меня, все же я посетил его на второй день моего пребывания в этом городе. К сожалению, в то время на тулонской каторге не было ни одной знаменитости: за два или три месяца до этого самые выдающиеся ее обитатели были отправлены кто в Брест, а кто в Рошфор.
Первое, что поражает вас при входе на тулонскую каторгу, – это статуя Купидона, опирающегося на якорь, затем – распятие и, наконец, – две заряженные картечью пушки.
Первый каторжник, которого мы встретили, сам подошел ко мне и, назвав меня по имени, предложил купить что-нибудь в его лавочке. Как ни хотел я ответить ему столь же любезно, мне никак не удавалось вспомнить, где я видел это лицо; он заметил мое смущение и рассмеялся.
– Вы, сударь, пытаетесь вспомнить меня? – спросил он.
– Признаюсь, да, но пока безуспешно.
– Однако я имел честь видеть вас, сударь, довольно часто.
Слушать его становилось все более лестно; однако я не мог припомнить, когда это мне довелось бывать в столь приятном обществе; наконец, видя мое замешательство, он сжалился надо мной:
– Наверно, мне надо сказать вам, сударь, где я вас видел, раз вы не можете вспомнить. Я видел вас у мадемуазель Марс.
– А как вы попали к мадемуазель Марс?
– Я служил у нее, сударь, я был камердинером, и это я украл ее бриллианты.
– А! Так вы Мюлон!
Он протянул мне карточку:
– Мюлон, каторжник-художник, к вашим услугам.
– Знаете, мне кажется, что вы устроились тут как нельзя лучше.
– Да, сударь, благодарение Богу! Мне здесь неплохо: всегда стоит иметь дело с приличными людьми. Когда здесь узнали, что я обокрал мадемуазель Марс, ко мне стали относиться с некоторым уважением. Поскольку мое поведение не вызывало нареканий, меня избавили от тяжелых работ; к тому же здесь поняли, что я не имею ничего общего с обычными ворами. Я уступил искушению, только и всего. Есть такая пословица: «Вора делает случай».
– Сколько вам еще осталось здесь быть?
– Два года, сударь.
– Чем вы собираетесь заняться, когда выйдете отсюда?
– Собираюсь заняться коммерцией, сударь; я прошел здесь очень хорошую школу; выйду же я отсюда, слава Богу, с превосходным аттестатом и известной суммой, которую мне удалось скопить, и куплю небольшое торговое заведение. А покамест не угодно ли вам заглянуть в мою лавочку?
– С удовольствием.
Мюлон провел меня в каменный сарайчик, целиком заполненный всевозможными поделками из скорлупы кокосового ореха, из кораллов, из слоновой кости и янтаря – это была в самом деле довольно занятная выставка различных работ умельцев-каторжников.
– Однако, – сказал я ему, – не могли же вы смастерить все это своими руками?
– Конечно, нет, сударь, – отвечал Мюлон, – я раздаю работу. Эти бедняги знают, что я скупаю товар партиями, и потому приносят мне все свои поделки; если что-то мне не нравится, я высказываю им свое мнение, даю советы, направляю их усилия; ну а потом я перепродаю все иностранцам.








