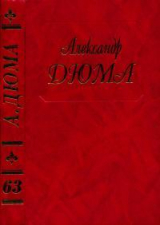
Текст книги "Путевые впечатления. Год во Флоренции"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 35 страниц)
Бывают такие периоды, когда идеи, еще смутные, ищут человека, в котором они могли бы воплотиться, и витают над людскими сообществами, словно клубящийся над землей туман. Пока по прихоти ветра туман расстилается над зеркальной поверхностью озер или многоцветным ковром лугов, он не более чем пар, не имеющий ни формы, ни цвета и почти неощутимый. Но если в полете он встретит высокую гору, то зацепится за ее вершину, и тогда туман превратится в облако, облако – в грозовую тучу, и, в то время как самый верх горы будет опоясан блистающим ореолом молний, в ее глубоких, потаенных пещерах будет скапливаться вода, которая потом изольется от ее подножия, став истоком великой реки, и река эта потечет, становясь все шире, через целый край или целое людское сообщество, и называться она будет Нил или «Илиада», Дунай или «Божественная Комедия».
Данте, как и Гомер, имел счастье появиться в одну из тех эпох, когда едва пробудившееся общество ищет гения, способного облечь в слова его первые помыслы. Он появился на пороге мира в тот момент, когда святой Людовик стучался в небесные врата. Позади него были одни развалины; впереди брезжило будущее. Но настоящее пока не могло предложить ничего, кроме надежд.
В Англии, за два века до этого завоеванной норманнами, совершались политические преобразования. Настоящие сражения между победителями и побежденными давно уже прекратились; однако продолжалась подспудная борьба интересов покоренного народа с интересами народа-покорителя. В эти два столетия все великие люди Англии рождались с мечом в руке, а если какой-нибудь старый бард еще носил на плече арфу, то звучала она лишь под кровом саксонских замков, где на языке, неведомом победителям и почти забытом побежденными, он осмеливался воспевать славные дела короля Альфреда и подвиги Гарольда, сына Годвина. Но местным жителям и пришельцам приходилось общаться друг с другом, и вследствие этого начал возникать новый язык, который не был ни саксонским, ни норманнским, но бесформенным и уродливым смешением их, и лишь четыреста двадцать лет спустя Томас Мор, Стил и Спенсер сумели упорядочить его для Шекспира.
Испания, дочь Финикии, сестра Карфагена, рабыня Рима, завоеванная готами, из-за предательства графа Хулиана доставшаяся арабам и присоединенная Тариком к Дамасскому халифату, потом отторгнутая от него Абд-эр-Рахманом из династии Омейядов, Испания, от Гибралтарского проливало Пиренеев обращенная в ислам, стала наследницей цивилизации, которую император Константин перенес из Рима в Византию. Маяк, погасший на востоке Средиземноморья, зажегся на западе; и когда там рушились Парфенон и Колизей, здесь строилась Кордова с ее шестью тысячами мечетей, девятью сотнями общественных бань, двумя тысячами домов и дворцом Захра, где стены и лестницы, инкрустированные сталью и золотом, покоились на тысячах колонн, выложенных лучшими сортами мрамора из Греции, Африки и Италии.
Однако, несмотря на столь мощный приток чужеродной крови в ее жилы, Испания все же чувствовала, как в Астурии бьется сердце ее национальной самобытности и исконной христианской веры. Пелайо, владения которого вначале ограничивались одной горой и у которого вместо дворца была пещера, а вместо скипетра – меч, тем не менее заложил посреди халифата Абд-эр-Рахмана основы империи Карла V. Борьба, начавшаяся в 717 году, не утихала пять столетий. И когда в начале XIII века Фердинанд принял две короны – Леона и Кастилии, – уже маврам пришлось довольствоваться на Пиренейском полуострове лишь Гранадским халифатом, частью Андалусии и провинциями Валенсия и Мурсия.
А в 1236 году Фердинанд вошел в Кордову и, после того как бывшая главная мечеть была очищена от скверны, король Кастилии и Леона отправился отдыхать от бранных трудов в великолепный дворец, который Абд-эр-Рахман III некогда выстроил для своей возлюбленной. Среди множества чудес он обнаружил в столице халифата библиотеку в шестьсот тысяч томов. Что сталось с этим сокровищем человеческого духа – неизвестно. Все разделяло победителей и побежденных: происхождение, религия, обычаи; и с людьми, и с Богом говорили они на разных языках. Ключ, открывавший двери волшебных дворцов, мусульмане унесли с собой; и дерево арабской поэзии, вырванное из андалусской почвы, расцветало теперь лишь в садах Хенералифе и Альгамбры.
Что же касается национальной поэзии, первым творением которой должна была стать песнь о Сиде, то она к этому времени еще не возникла.
Франция, германизированная первыми двумя династиями своих правителей, приобрела национальные черты при третьей. Централизованное государство Карла Великого сменила феодальная государственная система Гуго Капета. Язык, на котором впоследствии писал Корнель и говорил Боссюэ, в то время представлял собой смесь кельтского, немецкого, латинского и арабского; затем он разделился на два наречия, закрепившиеся соответственно на правом и на левом берегах Луары. Но, подобно тому, как это бывает с плодами земными, одно из наречий испытало на себе благодатное воздействие южного солнца. Так что язык трубадуров вскоре достиг совершенства, а язык труверов, этот северный плод, сильно запаздывал: чтобы вызреть, ему понадобилось еще пять столетий. К югу от Луары поэзия играла важную роль. Вражда и любовь, мир и война, повиновение и бунт – все воспевалось в стихах. На этом сладкозвучном языке говорил или писал каждый, будь он горожанин или солдат, виллан или барон, вельможа или король. Одним из тех, кому этот язык обязан самыми нежными и самыми воинственными звуками, был Бертран де Борн, дурной советчик, которого Данте встречает в Злых Щелях Ада: он несет свою голову в руке, и эта голова заговаривает с флорентийским изгнанником.[50]
Итак, провансальская поэзия достигла наивысшего расцвета, когда Карл Анжуйский, вернувшись из Египта, куда он сопровождал своего брата Людовика IX, с помощью Альфонса, графа Тулузы и Пуатье, захватил Авиньон, Арль и Марсель. Таким образом он присоединил к Французскому королевству все провинции древней Галлии, находившиеся на правом и на левом берегах Роны. Старая римская цивилизация, в которую завоеватели-арабы в IX веке вдохнули новую жизнь, была поражена в самое сердце: теперь, когда ее соединили с северным варварством, она неминуемо должна была задохнуться в его железных объятиях. Тот, кого в своей гордыне провансальцы привыкли называть королем Парижским, в свою очередь выразил им презрение, назвав их подданными, говорящими на языке «ок», дабы отличить от давнишних подданных, живущих по эту сторону Луары и говорящих на языке «ойль». С этих пор начался закат поэзии в южном краю – в Лангедоке, Пуату, Лимузене, Оверни и Провансе, и последней попыткой оживить ее стали Цветочные Игры, учрежденные в Тулузе в 1323 году.
Но они просуществовали недолго, а вместе с ними погибли и все поэтические произведения, созданные с X по XIII век, и поле, с которого собирали жатву Арнаут и Бертран де Борн, оставалось под залежью до тех пор, пока Клеман Маро и Ронсар не разбросали по нему щедрой рукой семена современной поэзии.
Германия, чье политическое влияние простиралось на всю Европу, почти как религиозное влияние Рима, была всецело поглощена своими неурядицами, предоставив своей литературе без особых забот развиваться по образцу литератур соседних народов. Там, в Германии, творческое вдохновение нашло себе прибежище в чудесных соборах, возведенных в XI–XII веках. Монастырь в Бонне, церковь в Андернахе и собор в Кёльне были созданы одновременно с собором в Сиене, пизанским Кампосанто и собором Санта Мария дель Фьоре во Флоренции. Правда, в начале XIII века появилась «Песнь о Нибелунгах» и завершилась жизнь Альберта Великого. Но самые модные рыцарские романы были подражанием провансальским или французским поэмам, а миннезингеры были не столько соперниками труверов и трубадуров, сколько их учениками. Сам Фридрих II, поэт на императорском троне, предпочел излагать свои мысли не на родном немецком языке, а на более гибком и выразительном итальянском, и вместе со своим секретарем Пьетро делла Винья вошел в число самых утонченных поэтов XIII столетия.
Что касается Италии, то выше мы уже описали происходившие в ней политические сдвиги; мы видели, как города один за другим становились независимыми от Империи; мы знаем, из-за чего две флорентийские партии, гвельфы и гибеллины, обратили оружие друг против друга. Наконец, мы рассказывали, как Данте, гвельфа по рождению, изгнание превратило в гибеллина, а жажда мщения сделала поэтом.
И когда замысел, рожденный ненавистью, созрел в его душе, он стал искать язык, в котором этот замысел мог бы воплотиться и обрести бессмертие. Он понял, что латынь – язык такой же мертвый, как создавшее его общество, что провансальский язык недолговечен – он умрет вместе с южной цивилизацией. А лишь зарождающемуся и пока еще только лепечущему французскому языку понадобятся долгие столетия, чтобы достигнуть зрелости. Но итальянский язык, этот незаконный отпрыск, полный жизни, близкий народу, рожденный цивилизацией и вскормленный варварством, только и ждал признания со стороны какого-нибудь короля, чтобы по праву носить корону. Сделав свой выбор и отказавшись идти по стопам учителя, Брунетто Латини, написавшего свое «Сокровище» на латыни, Дантеу несравненный зодчий, сам стал обтесывать камни, из которых он собирался построить гигантское здание, причем небо и земля должны были стать ему помощниками.[51]
Ибо в действительности «Божественная Комедия» поистине объемлет все: в ней сведены воедино данные всех существующих наук и мечта о неведомом. Когда земля уходит из-под ног человека, крылья поэта возносят его к небу; и, читая эту изумительную поэму, не знаешь, чем больше восхищаться – познаниями ума поэта или прозорливостью его воображения.
Данте – истинный поэт средневековья, как Григорий VII – истинно средневековый папа, а Людовик Святой истинно средневековый король. У него есть все: суеверия, богословская поэзия, феодальный республиканизм. Без Данте нельзя понять итальянскую литературу XIII века, как Францию XIX века нельзя понять без Наполеона. Подобно Вандомской колонне, «Божественная Комедия» – неотъемлемая часть своей эпохи.
Данте умер в Равенне, 14 сентября 1321 года, в возрасте 56 лет. Гвидо да Полента, последний его покровитель, распорядился похоронить его в церкви миноритов, с большой пышностью, в одеянии поэта. Его прах оставался там до 1481 года, когда Бернардо Бембо, равеннский подеста, назначенный Венецианской республикой, построил для него усыпальницу по плану Пьетро Ломбардо. Под куполом установлены четыре медальона, изображающие Вергилия – проводника Данте, Брунетто Латини – его учителя, Кангранде – его покровителя и Гвидо Кавальканти – его друга.
Данте был среднего роста и правильного сложения; у него было продолговатое лицо, большие, с пронизывающим взглядом глаза, орлиный нос, развитые челюсти, нижняя губа была толще верхней и слегка выдавалась вперед, кожа смуглая, борода и волосы курчавые; обычно он выглядел серьезным и кротким, одевался просто, говорил мало и почти всегда ждал, когда к нему обратятся, чтобы ответить. И ответ Данте бывал точным и кратким, ибо поэт давал себе время продумать и взвесить то, что он собирался сказать. Красноречие давалось ему с трудом, однако при важных обстоятельствах речь его лилась легко и свободно. По мере того как близилась его старость, Данте все больше радовало, что он одинок и удален от мирской суеты. Привычка к созерцанию придала его облику суровость, хотя сердце у него было золотое и он всегда готов был помочь людям. Тому есть свидетельства: так, однажды, чтобы спасти ребенка, которого при крещении уронили в купель, он разбил украшения баптистерия Сан Джованни, не побоявшись обвинений в кощунстве.
В девять лет Данте полюбил той любовью, очарование которой длится у человека всю жизнь. Однажды вечером этот ребенок с сердцем поэта увидел Беатриче Фолько Портинари, и при каждой новой встрече она казалась ему еще прекраснее[52]. Ее образ запечатлелся у него в душе, и, возмужав, он обессмертил ее. В возрасте 26 лет этот ангел, ненадолго слетевший на землю, возвратился на Небеса. Данте снова встретился с ней у ворот Рая, куда его не мог сопровождать Вергилий.
Флоренция, несправедливая к Данте при его жизни, проявила к нему большое почтение после его смерти и попыталась вернуть останки изгнанника к себе. В 1396 году принимается решение воздвигнуть ему памятник. В 1429 году Флоренция снова просит власти Равенны вернуть ей прах поэта; наконец, в 1519 году она направляет прошение папе Льву X, и в конце этого прошения, среди прочих подписей, мы читаем следующее:
«Я, Микеланьоло, ваятель, молю Ваше Святейшество не отказать нам в этой просьбе и берусь создать божественному поэту достойный его памятник в одном из лучших мест нашего города».
Лев X отказал в этой просьбе; а как бы это было прекрасно – надгробие автора «Божественной Комедии», изваянное создателем «Страшного суда».
Постановление 1396 года было выполнено только в наши дни: в церкви Санта Кроче был воздвигнут на средства некоего общества памятник работы скульптора Сте-фано Риччи. А до этих пор единственным памятником
Данте во Флоренции оставался портрет, перед которым мы только что размышляли о жизненном пути великого поэта и который, как сказано в рукописи Бартоломео Чеффони, «был написан аль фреско неизвестным художником по заказу брата Антонио, монаха-францисканца, выступавшего в этой церкви с толкованием “Божественной Комедии”, – дабы образ великого изгнанника постоянно напоминал его согражданам, что прах автора “Божественной Комедии”лежит в чужой земле».
Потомки Данте все еще живут во Флоренции. Меня им представили через несколько дней после того, как я стоял перед портретом их великого предка: на мой взгляд, род Алигьери несколько измельчал.
Помимо памяти о великом поэте, собор хранит память о страшном политическом убийстве. Прямо на клиросе, на месте, которое позднее окружили мраморной балюстрадой, заговорщики из рода Пацци убили Джулиано деи Медичи.
Бросим взгляд в прошлое, чтобы читателям стали понятны причины ненависти, которую Пацци питали к Медичи; а когда мы опишем тогдашнее политическое устройство Флоренции, читатели смогут судить о том, были ли намерения заговорщиков эгоистичными либо, напротив, бескорыстными.
В 1291 году, устав от бесконечных распрей знати, от ее неизменного отказа подчиниться демократическим судебным учреждениям и от ее ежедневных буйных выходок, мешавших работе народной власти, флорентийский народ издал указ, называвшийся «Ordinamenti della Giustizia»[53]. Согласно этому указу, представители тридцати семи наиболее знатных и влиятельных семей не допускались к должности приора, притом что они не могли вернуть себе права гражданства, даже если бы записались в какой-нибудь цех ремесленников или на самом деле занялись бы каким-нибудь ремеслом. Мало того, согласно данному указу, Синьория получила разрешение добавлять к этому списку новые фамилии, когда она сочтет, что та или иная семья, последовавшая примеру знати, заслужила такое же наказание. Членов тридцати семи объявленных вне закона семей стали называть магнатами: прежде это было почетное наименование, теперь же оно сделалось позорным.
Этот запрет действовал 143 года, но в 1434 году Козимо Старый, чью историю мы вскоре прочтем на стенах Палаццо Риккарди, из преследуемого превратился в преследователя и, в свою очередь, изгнал из Флоренции Ринальдо дельи Альбицци и всю демократическую верхушку, правившую вместе с ним. Затем он решил усилить свою партию, приняв в нее несколько семей, которые были отлучены от управления городом. Он вернул им права гражданства и позволил многим из них, по примеру предков, принять деятельное участие в общественных делах. Многие семьи с радостью откликнулись на его призыв и вернулись на родину, не задумываясь о том, какие личные интересы стоят за этим решением. В числе вернувшихся была семья Пацци. Более того, хотя эта семья принадлежала к дворянству шпаги, ее члены с готовностью приняли свое новое положение и в прекрасном палаццо, до сих пор носящем их имя, открыли банкирский дом, который вскоре стал одним из самых влиятельных и уважаемых в Италии; так что Пацци, будучи как дворяне выше Медичи по происхождению, теперь стали еще их соперниками в торговле. В итоге их положение упрочилось настолько, что через пять лет глава дома Андреа деи Пацци стал заседать в Синьории, куда его предков не допускали в течение полутора столетий.
У Андреа было три сына: один из них женился на внучке Козимо Старого, став зятем Лоренцо и Джулиано. Мудрый старец до конца своей жизни поддерживал равенство между своими детьми и относился к зятю как к сыну, ибо, видя, с какой быстротой Пацци достигли могущества и богатства, он хотел сделать их не просто союзниками, а друзьями. В самом деле, дом Пацци прирастал не только богатством, но и мужским потомством; у одного из братьев родилось пятеро сыновей, у другого – трое. Эта семья становилась все влиятельнее. И вот Лоренцо Медичи, вразрез с политикой, которую проводил его предшественник, решил не допустить дальнейшего усиления Пацци. Вскоре для этого представился подходящий случай. Джованни Пацци женился на одной из самых богатых флорентийских наследниц, дочери Джованни Борромео. Когда тот скончался, по настоянию Лоренцо был принят закон, согласно которому при наследовании предпочтение оказывалось родственникам мужского пола, пусть и по боковой линии, а не дочерям. Этот закон, не только в нарушение традиций, но и вопреки справедливости, был применен задним числом к супруге Джованни деи Пацци: она потеряла права на отцовское наследство, которое отошло к ее дальним родственникам.
Так Лоренцо деи Медичи, недавно ставший первым лицом в государстве, показал свою власть. Но этим его действия против семьи Пацци не ограничились. В этой семье было девять мужчин, чей возраст и достоинства позволяли им занять должность магистратов; и тем не менее, за исключением Якопо, единственного из сыновей Андреа, так и не вступившего в брак и назначенного гонфалоньером в 1469 году, то есть еще при Пьеро Подагрике, и Джованни, зятя Лоренцо и Джулиано, в 1472 году ставшего одним из приоров, других Пацци не подпускали к Синьории. Подобные злоупотребления со стороны людей, которых республика официально не признала своими властителями, так оскорбили Франческо деи Пацци, что он добровольно покинул родину и отправился в Рим, где самолично возглавил одну из своих важнейших финансовых контор. Он стал банкиром папы Сикста IV и Джироламо Риарио, которого одни называли племянником папы, а другие – его сыном. Сикст IV и Джироламо Риарио были самыми злыми во всей Италии врагами Медичи. Эта троекратно усиленная ненависть породила заговор, похожий на тот, жертвой которого двумя годами ранее, то есть в 1476 году, стал герцог Миланский Галеаццо Сфорца, убитый в Миланском соборе.
Решившись разрубить запутанный узел ударом клинка, Франческо Пацци и Джироламо Риарио стали подбирать сообщников. Одним из первых к ним примкнул Франческо Сальвиати, архиепископ Пизанский, которому Медичи, недружественно относившиеся к его семье, не дали вступить в должность. Затем к заговору присоединились: Карло да Монтоне, сын знаменитого кондотьера Браччо, – незадолго перед тем Медичи не дали ему захватить Сиену; Джованни Баттиста да Монтесекко, начальник сбиров на службе у папы; старый Якопо деи Пацци, бывший прежде гонфалоньером; еще двое Сальвиати – кузен и брат архиепископа; Наполеоне Франчези и Бернардо Бандини, друзья молодых Пацци, делившие с ними их удовольствия; и наконец – Стефано Баньони, священник и учитель латинского языка, дававший уроки побочной дочери Якопо деи Пацци; а еще – Антонио Маффеи, священник из Вольтерры и апостолический скриптор. И только один из Пацци, Ренато, племянник Якопо и сын Пьеро, наотрез отказался примкнуть к заговору и удалился в свою загородную усадьбу, чтобы его не заподозрили в соучастии в нем.
Итак, заговор созрел, и теперь для его успеха оставалось решить лишь одну задачу: устроить так, чтобы Лоренцо и Джулиано оказались вдвоем в каком-нибудь оживленном месте и чтобы с ними рядом не было их друзей. Папа придумал подходящий повод для этого: он произвел в кардиналы племянника графа Джироламо, Раффаэлле Риарио, которому едва сравнялось 18 лет и который учился в Пизе.
И действительно, по такому случаю во Флоренции должны были состояться пышные празднества: хотя в душе Медичи были заклятыми врагами Сикста IV, внешне они всячески изъявляли ему дружбу и почтение. Якопо деи Пацци пригласил юного кардинала отужинать у него во Флоренции и составил список гостей, в котором значились также оба Медичи – Лоренцо и Джулиано. В конце ужина по знаку Якопо на них должны были напасть убийцы. Но Лоренцо явился один. Джулиано не смог прийти из-за любовного свидания и попросил брата извиниться за него. Таким образом, исполнение задуманного пришлось перенести на другой день. И день этот, как показалось заговорщикам, скоро настал: не желая уступать Якопо в гостеприимстве, Лоренцо пригласил кардинала к себе во Фьезоле, а с ним – и всех тех, кто присутствовал на ужине у Якопо. Но и на этот раз Джулиано не оказалось за столом: у него разболелась нога. И снова заговорщики вынуждены были отложить исполнение своего замысла.
Наконец, как сообщает нам Макиавелли, день был выбран: им стало 26 апреля 1478 года. Утром этого воскресного дня кардинал Риарио должен был присутствовать на мессе в соборе Санта Мария дель Фьоре, и поскольку он предупредил об этом торжестве Лоренцо и Джулиано, то можно было рассчитывать, что оба брата тоже явятся туда. Всех заговорщиков оповестили о новом плане и каждому отвели роль, которую ему предстояло сыграть в этой кровавой трагедии.
Франческо Пацци и Бернардо Бандини ожесточеннее других ненавидели род Медичи, и поскольку они к тому же были самыми сильными и ловкими, то захотели взять на себя Джулиано: поговаривали, что он, робкий сердцем и слабый телом, всегда носил под одеждой кирасу, поэтому пытаться убить его было труднее, а значит, и опаснее, чем любого другого. Со своей стороны, начальник папских сбиров Джованни Баттиста да Монтесекко давно уже получил приказ и изъявлял готовность убить Лоренцо во время двух прошедших ужинов, когда того спасло отсутствие брата. Монтесекко был человек решительный, и никто не сомневался, что он и на этот раз выкажет волю к действию. Однако, узнав о том, что убийство должно произойти в церкви, он ко всеобщему удивлению, отказался. Он заявил, что готов убивать, но не кощунствовать и ни за какие блага в мире не согласится совершить святотатство, если заранее ему не покажут отпущение грехов, подписанное папой. К несчастью, заговорщикам не пришло в голову заручиться столь важным документом, который Сикст IV скорее всего охотно подписал бы. Посылать за отпущением в Рим было уже некогда, а уговорить Монтесекко так и не удалось. Тогда убить Лоренцо поручили Антонио да Вольтерра и Стефано Баньони, которые, как выразился Антонио Галли, один из десяти или двенадцати историков, рассказавших об этом событии, «будучи священникамиI, не испытывали столь сильного благоговения перед святым местом». Они должны были нанести удар в тот миг, когда священник поднимет Святые Дары.
Но убить братьев Медичи – это было еще не все, следовало также захватить Синьорию и заставить магистратов одобрить убийство, как только оно будет совершено. Эту миссию вверили архиепископу Сальвиати: он явился во дворец с Джакопо Браччолини и тремя десятками других, не столь видных заговорщиков. Двадцать человек остались снаружи, у главного входа: они должны были смешаться с толпой, не выдавая себя вплоть до той минуты, когда по сигналу им предстояло перекрыть вход. Сальвиати, хорошо знавший все закоулки дворца, провел в канцелярию еще десять человек и приказал им запереть за собой двери и не выходить, пока они не услышат лязг оружия или условленный крик. Затем он присоединился к первой группе; на себя он возложил обязанность арестовать, когда придет момент, гонфалоньера Чезаре Петруччи.
Тем временем в соборе началась божественная служба. И снова, как случалось уже дважды, планы заговорщиков оказались под угрозой срыва: на мессу пришел только Лоренцо. Тогда Франческо деи Пацци и Бернардо Бандини решили сами отправиться за Джулиано и привести его в собор.
Придя к нему в дом, они застали его с любовницей. Он отказался идти, сославшись на боль в ноге, но посланцы настаивали, уверяя, что ему совершенно необходимо быть там и что его отсутствие кардинал сочтет за оскорбление. И Джулиано, несмотря на умоляющие взгляды возлюбленной, решился последовать за Франческо и Бернардо; однако, захваченный врасплох, он, то ли из доверия к ним, то ли не желая заставлять их ждать, не надел кирасу и взял с собой лишь охотничий нож, который имел обыкновение носить за поясом. Но из-за того, что при ходьбе ножны ударяли его по больной ноге, он через какое-то время отдал нож одному из слуг, чтобы тот отнес его домой. Увидев это, Франческо деи Пацци со смехом, непринужденно, как это бывает между друзьями, обнял его за талию и убедился, что на нем нет кирасы. Так бедный молодой человек сам отдался в руки убийц, не имея ни оружия, ни средств защиты.
Трое молодых людей вошли в собор через дверь, выходящую на Виа деи Серви, в ту минуту, когда священник читал текст из Евангелия. Джулиано преклонил колена рядом с братом. Антонио да Вольтерра и Стефано Баньони уже были там, где согласно плану им следовало находиться; Франческо и Бернардо также заняли отведенные им места. Убийцы обменялись быстрым взглядом, давая понять друг другу, что они готовы.
Месса шла своим чередом; огромная толпа, заполнившая собор, была для убийц удобным предлогом, чтобы еще плотнее обступить Лоренцо и Джулиано. Впрочем, эти двое не чувствовали ни малейших подозрений, полагая, что под сенью алтаря они находятся в такой же безопасности, как на своей вилле в Кареджи.
Священник поднял причастие.
И в то же мгновение раздался ужасный крик: Джулиано, которого Бернардо Бандини ударил кинжалом в грудь, от боли метнулся на несколько шагов в сторону и, обливаясь кровью, упал среди оцепеневшей толпы; убийцы последовали за ним, и Франческо Пацци набросился на него с таким бешенством и осыпал столь жестокими ударами, что поранился сам, задев кинжалом собственное бедро. Эта рана, в первую минуту показавшаяся ему незначительной, лишь усугубила его ярость, и он продолжал наносить удары, хотя перед ним давно уже было бездыханное тело.
Лоренцо посчастливилось больше, чем брату: в тот миг, когда священник поднял Святые Дары, он почувствовал, как кто-то положил руку ему на плечо и, обернувшись, увидел кинжал, блеснувший в руке Антонио да Вольтерра. Безотчетным движением он отшатнулся в сторону, и клинок, который должен был вонзиться ему в горло, лишь оцарапал шею. Он тотчас встал, в одно мгновение правой рукой выхватил шпагу, а левую обмотал плащом и, призвав на помощь двух своих конюших, приготовился к обороне. Услышав голос хозяина, Андреа и Лоренцо Кавальканти обнажили шпаги и поспешили на помощь, а оба священника, видя, что дело принимает серьезный оборот и теперь надо будет не наносить удары исподтишка, а сражаться в открытую, бросили оружие и обратились в бегство.
Услышав шум, который поднял Лоренцо, Бернардо Бандини, все еще занятый Джулиано, поднял голову и увидел, что одна из его жертв готова ускользнуть; тогда он бросил мертвого ради живого и устремился к алтарю. Но путь ему преградил Франческо Нори. Завязалась недолгая борьба, и смертельно раненный Нори рухнул наземь. Но сколь краткой ни была эта задержка, для Лоренцо, как мы видели, ее оказалось достаточно, чтобы избавиться от двух заговорщиков. Таким образом, Бернардо оказался один против троих. Он позвал на помощь Франческо, и тот бросился к нему, но, сделав несколько шагов, почувствовал слабость и понял, что ранен серьезнее, чем ему показалось вначале; оказавшись возле клироса, он вынужден был опереться о балюстраду, чтобы не упасть. Полициано, сопровождавший Лоренцо, воспользовался этой заминкой, чтобы вместе с несколькими тесно обступившими их друзьями вывести его в ризницу, и, пока оба Кавальканти вместе с диаконами (те орудовали своими посохами с серебряным навершием, словно дубинами) сдерживали Бернардо и еще трех-четырех заговорщиков, сбежавшихся на его зов, толкнул бронзовые двери и захлопнул их за Лоренцо и собой. Тут Антонио Ридольфи, один из наиболее преданных друзей Лоренцо, стал высасывать кровь из раны у него на шее, боясь, что клинок священника был отравлен, а затем наскоро перевязал эту рану. Какое-то мгновение Бернардо Бандини еще пытался высадить двери ризницы; но, видя тщетность своих усилий, он понял, что все пропало. Тогда он подхватил под руку раненого Франческо и увел его так быстро, как только тот мог передвигаться.
В соборе царило величайшее смятение; священник, совершавший богослужение, спасся бегством, прикрывая рукавом причастие, которое стало свидетелем и чуть ли не пособником свершившихся злодеяний. Толпа бросилась к дверям и выплеснулась на Соборную площадь. Все бежали, однако в храме осталось человек десять сторонников Лоренцо, которые собрались вместе и с оружием в руках подошли к дверям ризницы: они громко звали Лоренцо, уверяли его, что головой ручаются за его безопасность и, если он пожелает сейчас же покинуть ризницу, они доставят его домой целым и невредимым.
Но Лоренцо не спешил откликнуться на это предложение, подозревая, что враги готовят ему новую западню. Тогда Сисмонди делла Стуфа поднялся по лестнице, ведущей к органу, и оттуда через окно увидел всю внутренность собора. Храм был пуст, если не считать друзей Лоренцо, собравшихся в ожидании у дверей ризницы, да еще тела Джулиано, к которому прильнула какая-то женщина, такая бледная и неподвижная, что, если бы не ее рыдания, можно было бы принять ее за еще один труп.
Сисмонди делла Стуфа спустился вниз и сообщил Лоренцо о том, что увидел; и тогда Лоренцо, собрав все свое мужество, вышел из ризницы. Друзья сразу же окружили его и, как было обещано, целым и невредимым доставили в его дворец на Виа Ларга.
Однако в то мгновение, когда священник, совершавший богослужение, поднял причастие, по обычаю зазвонили колокола: это был условленный сигнал для тех, кому предстояло захватить дворец Синьории. При первом же звуке колокольного звона архиепископ Сальвиати без промедления вошел в залу, где находился гонфалоньер, и заявил, что ему нужно передать какое-то послание от папы.








