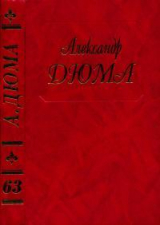
Текст книги "Путевые впечатления. Год во Флоренции"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 35 страниц)
Annotation
Путевые впечатления
ОЗЕРО В КЮЖЕ И ФОНТАН В РУЖЬЕ
ИМПРОВИЗАЦИЯ
МАРСЕЛЬ
МАРСЕЛЬ В 93-м ГОДУ
ТУЛОН
БРАТ ЖАН БАТИСТ
ЗАЛИВ ЖУАН
ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ
КАПИТАН ЛАНГЛЕ
КНЯЖЕСТВО МОНАКО
ГЕНУЭЗСКАЯ РИВЬЕРА
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ГЕНУЯ
ЛИВОРНО
ИТАЛЬЯНСКИЕ РЕСПУБЛИКИ
ДОРОГА ИЗ ЛИВОРНО ВО ФЛОРЕНЦИЮ
ФЛОРЕНЦИЯ
ПЕРГОЛА
САНТА МАРИЯ ДЕЛЬ ФЬОРЕ
ПАЛАЦЦО РИККАРДИ
ПАЛАЦЦО ВЕККЬО
ПЛОЩАДЬ ВЕЛИКОГО ГЕРЦОГА
КОММЕНТАРИИ
Озеро в Кюже и фонтан в Ружье
Импровизация
Марсель в 93-м году
ТУлон
Брат Жан Батист
Залив Жуан
Человек в железной маске
Капитан Лангле
Княжество Монако
Генуэзская Ривьера
Великолепная Генуя
Ливорно
Итальянские республики
Дорога из Ливорно во Флоренцию
Флоренция
Пергола
Санта Мария дель Фьоре
Палаццо Риккарди
Палаццо Веккьо
Площадь Великого Герцога
Примечания
notes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Путевые впечатления
Год во Флоренции
ОЗЕРО В КЮЖЕ И ФОНТАН В РУЖЬЕ
Я провел в Марселе неделю и нисколько не торопился покинуть его, тем более что пристанищем моим была гостиница «Восток», а экскурсоводом – Мери.
Однажды утром Мери явился ко мне раньше, чем обычно.
– Поздравьте нас, дорогой мой, – сказал он, – теперь у нас есть озеро.
– Как, – спросил я, протирая глаза, – у вас есть озеро?
– У Прованса были горы, у Прованса были реки, у Прованса были морские порты, древние и современные триумфальные арки, буйабес, кловис и айоли; но что поделаешь, у Прованса не было озера; Господь пожелал довести Прованс до совершенства и ниспослал ему озеро.
– Как же это случилось?
– Оно упало с неба.
– И давно?
– С последними дождями; я получил известие об этом сегодня утром.
– Но достоверное ли это известие?
– Самое что ни на есть достоверное.
– Где же это озеро?
– В Кюже, вы увидите его, когда поедете в Тулон: это у вас по дороге.
– Местные жители довольны?
– Ну еще бы, черт возьми! Иначе они^были бы чересчур привередливы.
– Значит, жители Кюжа мечтали об озере?
– Жители Кюжа? Да они пошли бы на любую подлость, чтобы обзавестись хотя бы небольшим водоемом; Кюж был как Ружье: все бешеные собаки у нас из Кюжа и Ружье. Вы слышали когда-нибудь о Ружье?
– Признаться, нет!
– А, так вы не слышали о Ружье. Ружье, дорогой мой, это деревня, которая со дня сотворения мира ищет воду. В последний раз она утолила жажду во время всемирного потопа. За шестьдесят лет она трижды перебиралась с места на место в поисках источника. Когда в Ружье выбирают мэра, он должен принести клятву, что найдет воду. Я знал трех мэров Ружье, которые довели себя до смерти, пытаясь выполнить свое обещание, и еще двоих, которые подали в отставку.
– А почему бы жителям Ружье не вырыть артезианский колодец?
– Ружье стоит на граните первой формации; когда в Ружье врубаются в скалу, чтобы добыть воду, то высекают оттуда огонь. А! По-вашему, это пустяки. Посмотрел бы я, как бы вы сами с этим смирились. В тысяча восемьсот десятом году, да, в тысяча восемьсот десятом, жители Ружье приняли твердое решение построить у себя фонтан. Тогдашний мэр только что занял свою должность, его клятва была еще совсем свежа, и он желал исполнить ее во что бы то ни стало. Он собрал на совет самых именитых жителей Ружье, и именитые жители выписали архитектора.
«Господин архитектор, – заявили они, – нам требуется фонтан».
«Фонтан? – переспросил архитектор. – Нет ничего проще».
«Правда?» – удивился мэр.
«Через полчаса он у вас будет».
Архитектор взял циркуль, линейку, карандаш и бумагу, а затем попросил воды, чтобы развести тушь в маленькой фарфоровой баночке.
«Воды?» – спросил мэр.
«Ну да, воды!»
«Воды у нас нет, – сказал мэр, – если бы у нас была вода, мы не просили бы вас соорудить нам фонтан».
«Верно», – согласился архитектор.
Он плюнул в баночку и развел тушь собственной слюной.
Затем он принялся изображать на бумаге великолепный фонтан, увенчанный чашей с четырьмя декоративными масками, из уст которых извергались изумительные струи воды.
«Ах-ах, – размечтались именитые жители и мэр, – ах, это как раз то, что нам нужно!»
«И вы это получите», – сказал архитектор.
«А во сколько нам это обойдется?»
Архитектор взял карандаш, записал в столбец множество цифр и подсчитал их сумму.
«Это обойдется вам в двадцать пять тысяч франков», – ответил он.
«И у нас будет вот такой фонтан?»
«Еще красивее».
«С четырьмя такими же струями воды?»
«Еще толще».
«Вы за это ручаетесь?»
«Черт возьми, ну конечно!» (Вы ведь знаете, дорогой мой, – заметил Мери, – архитекторы всегда ручаются за все.)
«Что ж, – сказали именитые жители, – тогда беритесь за работу».
А пока чертеж архитектора вывесили на обозрение в мэрии; вся деревня явилась посмотреть на него, и жажда ее от этого только усилилась.
Начали обтесывать камни для бассейна, и десять лет спустя, то есть первого мая тысяча восемьсот двадцатого года, жители Ружье имели удовольствие увидеть окончание этой работы: она обошлась в пятнадцать тысяч франков. Чаша фонтана была изготовлена быстрее: потребовалось от силы пять лет, чтобы изваять и установить ее. Шел тысяча восемьсот двадцать пятый год. Архитектору пообещали премию в тысячу экю, если фонтан забьет до конца года. У архитектора потекли слюнки, и он дал приказ начать копать, поскольку ему пришла в голову та же мысль, что и вам – вырыть артезианский колодец. На глубине пяти футов он наткнулся на гранит. Так как ошибаться архитекторам не свойственно, он заявил, что это какой-то беглый каторжник бросил в трубу свое ядро и теперь придется изыскать другое средство добыть воду.
А между тем, чтобы заставить именитых жителей Ружье набраться терпения, архитектор насадил у бассейна превосходную аллею платановых деревьев, очень любящих влагу и с наслаждением впитывающих ее своими корнями. Платаны принялись, но дали понять, что на них не распустится ни один листик, пока они не получат воды; чтобы приободрить их, мэр, его жена и три дочери каждый вечер прогуливались в тени этих тоненьких стволов.
Но при всем при том жители Ружье, позавтракав, пообедав, пополдничав и поужинав, вынуждены были, чтобы попить воды, отправляться к обильному источнику, находившемуся в трех льё к югу от их дома, а это обидно, если ты заплатил двадцать пять тысяч франков за то, чтобы она была у тебя в деревне.
Архитектор попросил еще пять тысяч франков, но кошелек мэрии был пуст, как бассейн его фонтана.
Грянула Июльская революция; обитатели Ружье снова обрели надежду получить воду, однако ничего такого не произошло. Тогда мэр, человек образованный, вспомнил, как поступали в подобных случаях древние римляне: они отыскивали воду там, где она была, и проводили ее туда, куда им было нужно, – тому свидетельством Гарский мост. Итак, надо было всего-навсего найти источник, чуть менее отдаленный, чем тот, которым пользовались жители Ружье; начались поиски.
Не прошло и года, как удалось найти источник всего в полутора льё от Ружье – это наполовину укорачивало путь к воде.
Жители Ружье стали совещаться: не лучше ли перенести деревню, фонтан и платаны к источнику, чем вести к деревне воду из источника. К несчастью, из окон мэра открывался прекрасный вид, и мэру не хотелось этого лишаться, а потому он решил, что источник должен прийти к нему.
Пришлось снова прибегнуть к помощи архитектора, отношения с которым стали прохладными. Он потребовал двадцать тысяч франков, чтобы выкопать канал.
Жители Ружье не располагали и двадцатой долей этой суммы. И тогда, доведенные до крайности, они вспомнили о существовании Палаты депутатов. Мэр, побывавший однажды в Париже, уверял, будто всякий раз, когда на трибуну поднимается оратор, ему подают стакан подслащенной воды. Он рассудил, что люди, живущие среди такого изобилия, не дадут своим соотечественникам умереть от жажды. Именитые жители Ружье направили прошение в Палату депутатов. На их несчастье, прошение пришло туда в разгар июньских беспорядков; пришлось выждать, пока спокойствие будет восстановлено.
И все же жить в деревне стало немного легче. Как мы уже говорили, вода приблизилась к ней на полтора льё, это было уже кое-что; и в Ружье терпеливо сносили бы свою жажду, если бы не насмешки жителей Нанса.
Однако, – прервал себя Мери, пользуясь тем же приемом, что и Ариосто, – все это уводит нас далеко от Кюжа.
– Друг мой, – ответил я Мери, – я путешествую, чтобы пополнить свои познания, а стало быть, экскурсии – это по моей части. Мы вернемся в Кюж через Нанс. Но что такое Нанс?
– Нанс, дорогой мой, это селение, которое гордится своими водоемами и своими деревьями. В Нансе фонтаны струят воду источников, а платаны растут сами по себе. Жажду Нанса утоляют водопады Жиньес, брызжущие под сенью осин, сикомор, белых и каменных дубов. Нанс пребывает в братском союзе с длинным горным хребтом, который, словно естественный акведук, несет воды Сен-Ка-сьена в узкие и глубокие долины Жеменос. Господь щедро оделил Нанс водой и тенистой прохладой, а всю пыль вытряхнул на Ружье. Будем чтить тайны Провидения.
Ну так вот, всякий раз, когда какой-нибудь возчик из Нанса оказывался в Ружье, он разнуздывал своего мула и подводил его к каменному бассейну фонтана, предлагая животному напиться несуществующей воды, ожидаемой с тысяча восемьсот десятого года. Мул вытягивал шею, раздувал ноздри, нюхая раскаленный камень – в Ружье солнце палит, как в Африке, – и бросал на хозяина косой взгляд, словно укоряя его за жестокую шутку. От этого взгляда человек из Нанса хохотал до слез, а жители Ружье скрежетали зубами. И потому, для того чтобы напиться воды, было решено добыть деньги во что бы то ни стало, даже если придется продать виноградники Ружье, тем более, как заметили местные жители, ничто ведь не вызывает такой жажды, как вино.
Мэр Ружье, получавший сто экю ренты, показал пример самоотвержения; так же поступили и три его зятя (за это время он успел выдать замуж трех дочерей); что касается его жены, то бедная женщина скончалась, так и не увидев живительных струй фонтана. Все чиновники мэрии, охваченные патриотическим порывом, пожертвовали свои деньги кто сколько мог; в итоге набралась сумма достаточно крупная для того, чтобы решиться сказать архитектору: «Начинайте строительство канала».
И вот наконец, дорогой мой, – продолжал Мери, – на прошлой неделе, после двадцати шести лет надежд и разочарований, работы были завершены; архитектор ручался за успех. Торжественное открытие фонтана было назначено на ближайшее воскресенье, и мэр, расклеив афишки и разослав письма, пригласил жителей соседних деревень присутствовать на великом празднике воды, готовящемся на площади в Ружье.
Программа торжеств была короткой и стала бы от этого только лучше, будь она выполнена.
Вот она:
«Статья 1-я и единственная. Господин мэр откроет бал на Фонтанной площади, и при первых звуках тамбурина заработает фонтан ».
Как вы понимаете, дорогой друг, такое объявление привлекло множество любопытных. Заключались колоссальные пари: одни ставили на то, что фонтан заработает, другие – на то, что он работать не будет.
На праздник явились жители всех окрестных деревень: из Тре, который кичится своими римскими укреплениями; из План-д’Опса, прославленного аббатом Гарнье; из Пелена, гордого своими угольными копями; из Сен-Максиме-на, хранящего голову святой Марии Магдалины, благодаря которой в деревне всегда бывает вдоволь дождей; из Турва, ставшего свидетелем любви Вальбеля и мадемуазель Клерон; из Бесса, где родился знаменитый Гаспар, самый галантный из разбойников[1], и наконец, из долины Лигмора, простирающейся до границ древнего Гаргариаса; вы сами, дорогой друг, прибудь вы двумя днями раньше, могли бы побывать там.
Ну а жители Нанса прибыли на праздник со всеми своими разнузданными мулами, заявляя, что поверят в эту воду, только когда их мулы напьются.
Бал должен был начаться в пять часов пополудни. Решено было дождаться, пока спадет жара, так как опасались, что танцующие осушат фонтан. И вот пробило пять.
Наступила торжественная тишина.
Мэр пригласил свою партнершу по танцу и встал с нею на место, повернув голову к фонтану. Другие участники кадрили последовали его примеру. Мулы из Нанса тотчас же приблизились к бассейну. Скрипки дали первое «ля». Флажолеты издали пробные звуки, ясные и звонкие, как песня жаворонка.
Сигнал дан, ритурнель начинается. Господин мэр стоит слева от своей дамы, выставив правую ногу вперед; все взоры устремлены на почтенного чиновника, который, сознавая важность этой минуты, преисполняется еще большего достоинства. Архитектор с палочкой в руке, словно Моисей с жезлом, стоит наготове.
«Первая пара, вперед! – кричит дирижер оркестра. – Начинаем первую фигуру кадрили!»
Мэр и его дама устремляются к фонтану, чтобы приветствовать появление воды; все уста раскрываются навстречу первым каплям, которых ждали с тысяча восемьсот десятого года; мулы ревут в предвкушении удовольствия, архитектор взмахивает палочкой: Нанс посрамлен, Ружье ликует.
Вдруг скрипки умолкают, флажолеты издают пискливый звук, барабанные палочки замирают в воздухе.
Архитектор ударил жезлом по фонтану, но вода оттуда не потекла. Мэр бледнеет, устремляет на архитектора испепеляющий взгляд. Архитектор снова ударяет по фонтану. Вода не появляется.
Нанс потешается, Тре негодует, Пепен злится, Бесс божится, Сен-Максимен вне себя; все деревни, приглашенные на праздник, грозят Ружье бунтом. Мэр вынимает из кармана трехцветную перевязь, обертывает ею живот и заявляет, что сила остается на стороне закона.
«Верьте в это и пейте воду», – злорадствует Нанс.
«Господин архитектор! – воскликнул мэр. – Господин архитектор, вы ведь поручились мне за этот фонтан; почему же он не действует?»
Архитектор взял карандаш, начертил какие-то линии, написал какие-то цифры, четверть часа занимался вычислениями, а затем заявил, что по всем расчетам, поскольку квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов, фонтан обязан действовать.
«А все-таки он не действует!» – заметил Нанс, издеваясь над Ружье; это звучало совсем как «Eppur, si muove!»[2]Галилея, только смысл был прямо противоположный.
Тут вмешался Сен-Закари, призывая умерить страсти. Сен-Закари легко говорить. В Сен-Закари берет начало Ювон, прекрасная река, перекатывающая в своем русле столько пыли.
В это время из толпы вышла какая-то старуха с книгой центурий Нострадамуса, потребовала тишины и прочла следующую центурию:
Под древом грешницы, страдалицы святой,
Ружье, от жажды злой в мученьях иссыхая,
В сороковом году от влаги ключевой Воспрянет, в феврале вкушая радость рая.[3]
«Смысл этого пророчества прозрачен, словно ключевая вода», – сказал мэр.
«И оно исполнится, – откликнулся архитектор, – это я допустил ошибку».
«А! – торжествующе воскликнул Ружье. – Значит, фонтан не виноват?»
«Нет, это моя вина, – ответил архитектор, – канал следовало прорыть в виде выпуклой линии, а он был прорыт в виде вогнутой. Еще четыре-пять лет, еще самое большее двенадцать тысяч франков – и фонтан будет действовать».
Именно так и предсказывал Нострадамус.
Тут же, в порыве воодушевления, Ружье обязался собрать требуемую сумму.
Затем все деревни, со скрипачами впереди и с мулами позади, отправились к источникам Сен-Женьес, где бал начался снова и где во славу воды танцоры предались безумствам, достойным золотого века.
Так что пока Ружье, успокоенный пророчеством Нострадамуса, возлагает надежды на сороковой год. Теперь, дорогой мой, вы понимаете, как должны злиться в Ружье из-за счастья, которое привалило Кюжу.
– Еще бы, черт подери! Но правда ли, что в Кюже появилось озеро?
– Без всякого сомнения!
– Самое настоящее озеро?
– Самое настоящее! Конечно, оно не столь велико, как Онтарио или Леман, но не меньше Ангенского.
– Откуда же оно взялось?
– Сейчас объясню. Кюж расположен в глубокой впадине, напоминающей воронку. В прошлом году зима была снежной, а лето – дождливым. Из растаявшего снега вместе с дождевой водой образовалось озеро. Затем в это озеро влилась вода родников, которые, по-видимому, будут питать его и в дальнейшем. Пролетавшие дикие утки приняли озеро всерьез и опустились на него. А поскольку на озере завелась дичь, местные жители тут же построили лодки, чтобы охотиться на нее. Так что на Кюжском озере уже охотятся, друг мой. Рыбу там, правда, еще не ловят, однако на будущий год оно уже арендовано для рыболовов. Когда будете проезжать мимо, приглядитесь к нему: вечером и утром над ним расстилается дымка. Это самое настоящее озеро.
– Вы слышите, – сказал я вошедшему Жадену, – нам нужна зарисовка Кюжа и Кюжского озера.
– Зарисовка у вас будет, – ответил Жаден, – а обед?
– А в самом деле, – обратился я к Мери, – как с обедом?
– Ах да, – спохватился Мери, – из-за этого проклятого Кюжского озера я совсем потерял голову. Обед ждет вас в замке Иф.
– Но как мы попадем в замок Иф?
– Разве я вам не говорил?
– Нет.
– Черт бы побрал это Кюжское озеро! Все из-за него: это ведь и в самом деле озеро, дорогой мой, клянусь честью, самое настоящее озеро. Ну так вот, вы отправитесь в замок Иф на превосходной лодке, которую один мой друг предоставляет в ваше распоряжение; это палубное судно, на нем можно плыть хоть в Индию.
– Где же эта лодка?
– Ждет вас в порту.
– Ну что ж, идемте!
– Да нет, идите сами.
– Как, вы не поплывете с нами?
– Морские прогулки не для меня, – изрек Мери, – я не сел бы в лодку даже на Кюжском озере.
– Но, Мери, по законам гостеприимства вы должны сопровождать нас.
– Я прекрасно сознаю, что виноват перед вами, но скажите, что я могу сделать для вас?
– Возместить мне ущерб.
– Каким образом?
– Пока мы будем осматривать замок Иф, напишите о Марселе стихотворение в сто строк.
– Да хоть в двести.
– Пусть будет двести.
– Договорились.
– Подумайте хорошенько: ведь мы вернемся через два часа.
– Через два часа эти двести строк будут готовы.
Заключив это условие, мы отправились в порт. У каждого встречного Мери спрашивал:
– Вы знаете, что в Кюже образовалось озеро?
– Черт возьми, конечно! – отвечали ему. – Великолепное озеро, у него даже глубину измерить не удается.
– Скажите на милость! – подхватывал Мери.
На Орлеанской набережной нас и в самом деле ожидала превосходная лодка.
– Вот ваше судно, – сказал нам Мери.
– А стихи я получу?
– Они будут готовы.
Мы сели в лодку, гребцы оттолкнулись веслами от набережной, и лодка отчалила.
– Счастливого пути! – крикнул Мери.
И он удалился, приговаривая:
– В этом чертовом Кюже теперь есть озеро!..
ИМПРОВИЗАЦИЯ
Когда отплываешь в море от Орлеанской набережной, первое здание, которое видишь справа, – это Изолятор.
Изолятор представляет собой недавно построенное, нынешней архитектуры здание со множеством окон, забранных тройными решетками и выходящих на портовый бассейн.
Под окнами толпятся люди, переговаривающиеся с обитателями этого милого дома.
Можно подумать, будто вы в Мадриде, и легко принять всех этих людей за влюбленных, пытающихся обмануть бдительных опекунов.
Отнюдь нет; все это чьи-то кузены, братья и сестры, боящиеся чумы.
Изолятор – это место, куда приходят поговорить с теми, кто находится в карантине.
Немного подальше, напротив форта Святого Николая, построенного Людовиком XIV, возвышается башня Святого Иоанна, построенная королем Рене; оттуда, через квадратное окно в третьем этаже, в 93-м году пытался совершить побег несчастный герцог де Монпансье, оставивший столь увлекательные записки о своем заключении там вместе с принцем де Конти.
Как известно, веревка, по которой надеялся спуститься на землю узник, оказалась слишком короткой, и, спрыгнув вниз, он сломал ногу; на рассвете его, бесчувственного, подобрали рыбаки и отнесли в дом к парикмахеру, где ему пришось оставаться вплоть до полного выздоровления.
У парикмахера была дочь, одна из тех прелестных марсельских гризеток, что носят желтые чулки и красотой ножек не уступают андалускам.
Я не буду более нескромным, чем герцог, хотя это мне и нелегко. Об этой юной девушке и бедном беглеце можно было бы рассказать замечательную историю.
Справа от нас осталась скала Эстеу: теперь мы проплывали над Марселем времен Цезаря, укрытым морскими волнами. Говорят, в ясную погоду, при спокойном море, на дне еще можно разглядеть какие-то развалины. Боюсь, однако, что к Марселю времен Цезаря они не имеют ни малейшего отношения.
У подножия утеса, возле Шато-Вер, мы заметили Мери: он показал нам, что в руках у него были листы бумаги и карандаш. Я начал понимать, что Мери правильно сделал, отказавшись отправиться с нами, ибо дул встречный ветер, безжалостный мистраль, который никак не давал нам выйти из порта и обещал изрядно потрепать нас, как только бы мы оттуда вышли.
Напротив входа в порт горизонт словно замыкают два острова – Ратонно и Помег. Эти острова, соединенные молом, образуют собой Фриульский порт, Fretum Julii – «пролив Юлия». Прошу простить за эту этимологию, она придумана не мной: мол был сооружен в наше время; что касается Фриульского порта, то его правильнее было бы назвать тифозным портом, портом холеры, чумы и желтой лихорадки, заставой для эпидемий, а проще говоря, лазаретом.
Вот почему во Фриульском порту всегда много кораблей, чей вид навевает невыносимую тоску.
К несчастью, или, вернее, к счастью, Марсель еще не забыл о страшной чуме 1720 года, которую принес с собой капитан Шато.
Третий остров поблизости от Марселя, самый знаменитый из них, – это остров Иф, хотя, в сущности, остров Иф всего лишь утес среди моря; но на этом утесе возвышается крепость, а в этой крепости есть камера Мирабо.
Из этого следует, что остров Иф превратился в своего рода место политического паломничества, как Сент-Бом стал местом паломничества религиозного.
Замок Иф был тюрьмой, куда в стародавние времена заточали провинившихся сыновей знатных семей; это было нечто вроде наследственного права – сын мог потребовать себе отцовскую камеру.
Мирабо попал туда именно в этом качестве.
Отец его был безумен, а главное, смешон; юный Мирабо, обуреваемый страстями, довел отца до бешенства своим неслыханным распутством; вся его жизнь к тому времени была цепью скандалов, настроивших против него общественное мнение. Если бы Мирабо остался на свободе, его репутация была бы навеки загублена. Но, оказавшись в тюрьме, он вызвал к себе сочувствие и был спасен.
А еще, быть может, это суровое наказание стало одним из орудий, которыми воспользовалось Провидение, чтобы заставить молодого человека на собственном опыте изведать все ужасы тирании; так что в итоге, когда надвинулась революция, Мирабо смог поставить на службу этому великому общественному бедствию свои неутоленные страсти и гнев, накопившийся за время долгого тюремного заключения.
Общество старого режима приговорило его к смерти: он отплатил ему приговором, который был приведен в исполнение 21 января 1793 года.
Камера Мирабо – первая, а нередко и единственная здешняя камера, которую просят показать посетители, настолько республиканский гигант заполнил звучанием своего имени эту старую крепость, – последняя справа во дворе, в юго-западной части замка; это узилище почти ничем не отличается от остальных, разве только, пожалуй, оно темнее прочих. В скале вырублено нечто вроде алькова: здесь было его ложе; на двух крюках некогда держалась доска, на которую он ставил свои книги; и наконец, остатки стенной росписи с синими и желтыми продольными полосами свидетельствуют об удобствах, какими человеколюбие «Друга людей» позволило узнику располагать в этой темнице.
Я не придерживаюсь мнения тех, кто утверждает, будто Мирабо, находясь в тюрьме, предчувствовал свое будущее: для этого ему надо было предвидеть революцию. Разве матрос, находясь под синим небом и на спокойном море, предчувствует бурю, которая выбросит его на какой-нибудь дикий остров, где благодаря своему превосходству он станет королем?
Когда посетитель выходит из камеры Мирабо, инвалид, сопровождающий его в качестве экскурсовода, показывает ему какие-то старые доски, гниющие под навесом:
– Это гроб, в котором прибыло во Францию тело Клебера.
Вернувшись в Марсель, мы сразу увидели Мери: куря сигару, он поджидал нас на Орлеанской набережной.
– А что с моими стихами? – окликнул я его еще издали, как только заметил.
– С вашими стихами?
– Ну да, с моими стихами!
– Ваши стихи уже час как готовы.
Я подпрыгнул от изумления.
– И где же они? – спросил я, хватая Мери за воротник.
– Да вот они, черт возьми, я успел переписать их начисто; вы удовлетворены?
– Дорогой друг! Это невероятно!
В самом деле, меньше чем за час Мери написал стихотворение в сто двадцать восемь строк – то есть он сочинял больше чем по две строки в минуту.
Я привожу их здесь не потому, что они посвящены мне, а в подтверждение самого этого поэтического подвига.
Вот они.
МАРСЕЛЬ
Посвящается Александру Дюма
Недавно я сидел на берегу, без дела,
И море пенное у ног моих шумело.
Его ласкали всласть декабрьские ветра,
И дымка влажная плыла над ним с утра.
Как знамя бурь зима по небу расстилала Холодных облаков сплошное покрывало.
Птиц раскричавшихся укрыть мог только порт;
Затихнул пестрый зюйд, дул всюду серый норд.
Как будто вырвавшись из Дантовского Ада,
Металась вод морских ревущая громада.
Где, море, запах твой? Где сладостный покой?
Где солнца летний дар – блеск влажно-золотой?!
Что ж, море мудрое, простертое доселе От агригентских стен до самого Марселя,
Свой тирский пурпур сняв, теперь в шотландский плед Надолго облеклось, чтоб здесь тебя, поэт,
Как сына Севера, как демиурга сцены,
Как странника, встречать, кропя холодной пеной,
Когда под парусом, в кругу своих друзей,
Покинув крепость, порт и башню, ты скорей Стремился к островам, чтоб созерцать там жадно Все, что увидит глаз средь дали неоглядной.
А я, в стихию волн мучительно влюбленный,
Боюсь возлюбленной, во гневе исступленной.
Вот почему тебя лишь взгляд мой провожал,
С мольбой, чтоб вас щадил и риф, и дикий вал.
О милости стихий мои стихи молили,
Как песнь Горация, когда отплыл Вергилий.
Затем, когда вдали сокрылся парус твой, Воспоминаниям предался я с тоской.
Я видел с детских лет, по берегу гуляя,
Латинских парусов белеющую стаю,
И остров Мирабо, скалистую тюрьму,
И горы Синие, дар детству моему,
И бухты тайные, где сладострастно волны Поют под соснами, любви к Провансу полны.
Дитя, без всяких дум я созерцал, как сон,
Мой край. О, как тогда был безмятежен он!
О золотой пейзаж! Как усыпляло море Меня, беспечного, не ведавшего горя!
Сегодня же, когда даль разлучила нас И выполняет ветр веселый твой приказ,
Виденья детских лет померкли почему-то,
И, радость вытеснив, легла на сердце смута.
Я думал о годах, когда всех мучил страх И трупы вздутые качались на волнах;
Когда не раз чума, являясь к нам с Востока,
В Марселе смолкнувшем всем смерть несла жестоко; Когда на берегах за храмом падал храм,
Покорный римским ли, арабским ли мечам.
Исчезли все и всё, что было в каждом храме,
Как пар из уст моих, рассеянный ветрами.
Здесь все уже не то – красот старинных нет,
Их не увидишь ты, паломник и поэт.
Где остров? Башня где? Где зданья рядом с нею?
Ведь тот, что пред тобой, увы, не сын Фокеи:
Он мертв. Растенья дна – вот саван мертвеца.
Труп виден лишь очам Небесного Отца.
Быть может, в целости на дне морском он спит, Залив стал кладбищем, где морем он сокрыт.
Три долгих тысяч лет – кто превзойдет их в силе?! Скалу фокейскую века не пощадили,
И эспланады высь, и белый перистилий, Возведенный ценой невиданных усилий.
Недолго он стоял, оставив лишь руины,
Как светлый Парфенон, на чьих стенах Афина Автограф славный свой успела начертать,
Свой храм разрушенный оплакав, словно мать.
Ни от античности, ни от средневековья В моем родном краю не нахожу следов я.
Лишь башню древнюю всегда щадил народ,
И ты бы мог воспеть ее высокий взлет!
О башня гордая! В младенческие дни Я много раз играл в ее большой тени.
Когда шел враг на штурм, у стен ее геройски Все, даже женщины, сражались в нашем войске.
Едва сигнал «Огонь!» пропела окарина,
Испанского кюре сразила кулеврина,
От ядер гибельных валились пришлецы,
А предки прятались за толстые зубцы,
Где знамя галльское в бою вилось над ними.
Святая Павла, ты дала сей башне имя!
Внушал владыкам страх наш серебристый щит,
Где на лазури крест, который нас хранит.
Но башни нет: ее обрушила усталость.
Увидишь лишь скалу, что от нее осталась.
Скала – ей памятник, что всех морей сильней.
Что греческий огонь и что железо ей?!
Нам не даны дворцы, театры, арки, храмы;
Гряда окрестных гор – вся наша панорама.
Ни рощ нет, ни долин, и греческого града Уж больше нет. И все ж печалиться не надо!
Ведь город чудный наш, здесь царствует Марсель!
Он стаи парусов влечет к себе досель.
Он сказочно богат, и вместо всех руин Он может сто дворцов построить средь равнин. Марсель сегодня чтят на всех широтах мира,
Давно известней он Сидона или Тира.
Везут его сынов морские корабли
Во льды и в тропики – во все концы земли.
Сейчас, когда пишу, мой город прославляя,
Его приветствует торговля мировая.
Его сокровища принять базары рады Голконды, Токио, Алеппо и Багдада,
Калькутты, Лондона, Лахора, Исфахана,
И средь песков пустынь, и в далях океана.
От Ближней Азии, соседки и сестры,
Наш вкус к поэзии и пышные пиры.
На набережных здесь всегда полно народу,
Людей из разных стран – всех любящих свободу. Здесь, странник, ты поймешь средь шумной пестроты, Что об экзотике сбылись твои мечты,
Покажется, что ты попал под власть Дидоны И в Карфаген вступил, где видишь пальм колонны. Базар поэзией проникнулся у нас.
Что ж, сядь у моря, друг, дай созерцанью час.
Фокею, Гарский мост, дворцы и храмы Нима
Не встретит жадный взор – они невозвратимы.
Блеск жизни созерцай, коль сердце не мертво.
Ведь радостней, чем он, нет в мире ничего.
Богатый светлый дом, где все поэту мило,
Куда прельстительней, чем темная могила.[4]
– А знаете, это еще не все, – сказал Мери, когда я прочел его стихотворение. – За то время, которое я потерял, ожидая вас, я нашел вам одну хронику: ее как раз недостает, чтобы дополнить ваше описание Марселя.
– Какую хронику?
– Марсель в девяносто третьем году.
– Немедленно давайте ее сюда!
– Сначала пойдем на площадь Пти-Мазо: мой брат ждет нас там с рукописями.
Мы отправились по указанному адресу; Луи Мери показал мне небольшой домик, низкий и ветхий на вид, однако подкрашенный и подновленный так тщательно, как только это было возможно.
– Посмотрите внимательно на этот дом, – сказал Луи Мери.
– Посмотрел. Ну, и что это за дом?
– Возвращайтесь в гостиницу, прочтите эту рукопись, и вы все узнаете.








