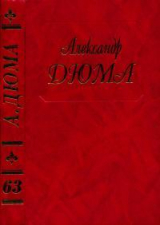
Текст книги "Путевые впечатления. Год во Флоренции"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 35 страниц)
Фарината дельи Уберти был человек той же породы, что барон дез'Адре, коннетабль де Бурбон и Ледигьер: они рождаются с железной дланью и бронзовым сердцем, они открывают глаза в осажденном городе и закрывают их на поле битвы; это растения, политые кровью и дающие кровавые цветы и плоды!
Император умер, и гибеллинам не к кому стало обращаться за помощью. Фарината отправил послов к Манфреду, королю Сицилии. Послы просили дать им войско. Манфред дал им сто человек. Они восприняли это как насмешку и хотели было отказаться, но Фарината написал им:
«И все же соглашайтесь: нам важно, чтобы среди наших знамен было знамя Манфреда, а когда мы его получим, я водружу его в таком месте, что он будет вынужден отправить нам подкрепление, чтобы забрать его назад».
Тем временем гвельфское войско, преследовавшее гибеллинов, стало лагерем у ворот Камольи, пыль которой была так дорога Альфьери[31]. После нескольких мелких стычек Фарината, получивший от Манфреда сто тяжеловооруженных конников, дал им лучшего тосканского вина и приказал готовиться к вылазке. Затем, когда между гвельфами и гибеллинами завязался бой, он заявил, что пойдет на выручку своим, стал во главе вспомогательного отряда немцев и так далеко повел его в атаку, что вскоре вместе со своей сотней тяжеловооруженных конников оказался в плотном кольце врагов. Солдаты Манфреда сражались с отчаянной отвагой, но силы были слишком неравны. Все они погибли. Один только Фарината каким-то чудом сумел прорваться к своим – залитый вражеской кровью, утомленный сечей, но невредимый.
Его цель была достигнута: раны на телах солдат Манфреда взывали к отмщению; захваченное в бою королевское знамя доставили во Флоренцию, чернь раздирала его в клочья и втаптывала в грязь. Это было оскорбление Швабского дома, пятно на имперском гербе, и отомстить за одно и смыть другое могла только победа. Фарината де-льи Уберти написал королю Сицилии письмо и сообщил в нем о том, как закончилась битва: в ответ Манфред послал ему две тысячи солдат.
Тогда лев превратился в лисицу, чтобы завлечь флорентийцев в ловушку. Фарината притворился, будто он обижен на гибеллинов. Он написал народным старейшинам письмо, в котором назначил им встречу на расстоянии четверти льё от города. Старейшины явились на встречу;
Фарината прибыл один. Он сказал, что готов оказать им услугу: если флорентийцы пойдут большим войском на Сиену, его люди откроют им ворота Санто Вито, которые они охраняют. Вожди гвельфов ничего не могли решить без одобрения народа: они поехали обратно и собрали совет. Фарината вернулся в город.
Заседание совета проходило весьма бурно; большинство предлагало принять предложение Фаринаты, но некоторые проницательные люди боялись предательства. Старейшины, которые вели переговоры с Фаринатой и хотели поставить их себе в заслугу, поддержали его предложение всей своей властью, а народ поддержал старейшин. Напрасно граф Гвидо Гверра и Теггьяйо Альдобранди пытались оспорить мнение большинства – народ не пожелал их слушать. Лука деи Герардини, человек, известный своей мудростью и любовью к родине, встал, пытаясь что-то сказать; но старейшины велели ему замолчать. Он все же продолжал говорить, и его присудили к штрафу в сто флоринов. Герардини согласился уплатить штраф, если ему дадут слово. Штраф был удвоен, но Герардини не отступился, говоря, что возможность дать республике добрый совет – это счастье, за которое стоит заплатить любые деньги. В конце концов старейшины довели сумму штрафа до четырехсот флоринов, но не заставили Герардини замолчать. Его твердость, которую приняли за упрямство, вызвала всеобщее раздражение, и немедленно было предложено принять закон о предании смертной казни всякого, кто осмелится выступить против воли народа. Принятый закон тотчас же был применен к Герардини. Спокойно выслушав приговор, Герардини вновь поднялся с места. «Сооружайте эшафот, – сказал он, – а пока позвольте мне говорить». Вместо того чтобы броситься к ногам этого человека, флорентийцы арестовали его и отвели в тюрьму. Поскольку, кроме Герардини, против предложения старейшин почти никто не возражал, да и следовать его примеру желающих не нашлось, то, едва его увели с собрания, предложение было принято. Флоренция тут же обратилсь к своим союзникам с просьбой о поддержке. На ее призыв откликнулись Лукка, Болонья, Пистойя, Прато, Сан Миньято и Вольтерра. За два месяца гвельфы собрали три тысячи конников и тридцать тысяч пехотинцев.
В ночь на понедельник 3 сентября 1260 года это войско вышло из ворот Флоренции и двинулось в сторону Сиены. Посреди войска, под охраной солдат, которые более других прославились отвагой, тяжело катилась Карроччо. Это была золоченая колесница, запряженная восемью быками в красных попонах; на колеснице был установлен шест с золоченым шаром на верхушке; под шаром развевалось знамя Флоренции, которое во время битвы вверяли храбрейшему из храбрых. Под знаменем было укреплено распятие: протянутые руки Христа словно благословляли войско. Рядом с распятием висел колокол, чтобы созывать всех, кого далеко забросил вихрь сражения. Из-за неповоротливости быков колесница не могла передвигаться быстро, так что флорентийцам оставалось либо с позором бросить ее на поле боя, либо ожесточенно сражаться за нее. Это было изобретение Ариберта, архиепископа Миланского; желая придать больше значения пехоте, набиравшейся из простолюдинов, в противовес коннице, состоявшей из знати, он впервые использовал его в войне против Конрада Салического. А потому тяжелая колесница была окружена пехотинцами, вынужденными двигаться с такой же скоростью, как она. Правил колесницей семидесятилетний старик по имени Джованни Торнаквинчи, а на ее площадке, почетном месте для храбрейших, стояли семеро сыновей Торнаквинчи; по приказу отца все они поклялись умереть, но не дать врагу коснуться Карроччо, этого ковчега средневековой воинской чести. Что касается колокола, то, как говорили, его благословил папа Мартин, и в честь крестного он получил имя Мартинелла.
На рассвете 4 сентября войско флорентийцев достигло холма Монте Аперти, расположенного в пяти милях к востоку от Сиены: оттуда открывался вид на город, который они надеялись захватить врасплох. Полуслепой епископ поднялся на площадку Карроччо и отслужил мессу: все войско благоговейно внимало ему, на коленях и с непокрытой головой. Закончив мессу, он отвязал знамя и вручил его Якопо дель Вакка из семьи Пацци, а сам надел доспехи и занял место среди всадников; ворота Санто Вито, как было обещано, открылись. Первой из них выехала имперская конница, затем появились флорентийские изгнанники под командованием Фаринаты; после них вышла пехота – граждане Сиены со своими ленниками, всего тринадцать тысяч человек. Флорентийцы поняли, что их заманили в ловушку; однако они сравнили выступившее против них войско со своим собственным, решили, что их втрое больше, и с громкими криками ринулись на врага, оскорбляя его и вызывая в нем злость.
В эту минуту епископ, который, как все увечные люди, заставлял других приходить ему на помощь, услышал сзади шум, обернулся и своими подслеповатыми глазами увидел между собой и горизонтом какую-то линию, за минуту до этого им не замеченную. Тронув за плечо стоявшего рядом с ним солдата, он спросил, что это такое: стена или полоса тумана? «Ни то, ни другое, – ответил солдат, – это вражеские щиты». В самом деле, большой отряд имперской конницы обогнул Монте Аперти, перешел вброд Арбию и ударил флорентийцев в тыл, в то время как остальные силы сиенцев сшиблись с ними лицом к лицу.
Тогда Якопо дель Вакка, решив, что настал час битвы, поднял над всеми флорентийское знамя со львом и крикнул: «Вперед!» Но в ту же минуту Бокка дельи Абатти, гибеллин в душе, выхватил меч из ножен и одним ударом отсек руку, державшую знамя. Затем с криком «Ко мне, гибеллины!» он вместе с тремястами единомышленников отделился от войска гвельфов и влился в ряды имперской конницы.
Среди флорентийцев началось смятение: Якопо дель Вакка поднял свое окровавленное запястье и закричал: «Измена!» Но никто и не подумал подобрать знамя, упавшее под конские копыта: при виде того, как на них нападают те, кого они еще минуту назад считали своими братьями, воины, вместо того чтобы сплотиться, стали шарахаться друг от друга, боясь предательского меча больше, чем вражеского. Слово «измена», произнесенное Якопо дель Вакка, передавалось из уст в уста, и каждый всадник, забыв о спасении родины и думая только о себе, выбирался из схватки, доверив жизнь резвости своего коня и губя свою честь. В итоге из трех тысяч знатных флорентийцев на поле брани осталось лишь тридцать пять храбрецов, которые не захотели бежать и погибли.
Пехота, состоявшая из флорентийских простолюдинов и из жителей союзных городов, проявила большую стойкость и сомкнулась вокруг Карроччо; там-то и началась кровопролитная битва, от которой, по словам Данте, воды Арбии стали красными[32].
Однако гвельфы, лишившись конницы, не могли отразить натиск врага, поскольку, как уже было сказано, на поле битвы остались только простолюдины, у которых были лишь вилы да алебарды, а деревянные щиты, кирасы из буйволовой кожи и стеганые полукафтанья не спасали их от длинных копий и двуручных мечей конников; люди и лошади в железных доспехах с легкостью врубались в толпу пехотинцев и пробивали в ней глубокие бреши. И все же эта толпа, вдохновленная непрерывным звоном Мартинеллы, трижды смыкалась, отбрасывая неприятелькую конницу, которая трижды откатывалась, окровавленная и ущербленная, словно вынутый из раны клинок.
Наконец, благодаря отвлекающему маневру, проделанному Фаринатой, который стоял во главе флорентийских изгнанников и горожан Сиены, конники добрались до Карроччо. И тогда обеим сражающимся сторонам довелось увидеть нечто беспримерное: подвиг старика, которому было доверено охранять Карроччо и семеро сыновей которого поклялись отцу не покидать поле битвы живыми.
Во все время сражения семеро молодых людей оставались на площадке Карроччо, откуда они могли следить за происходящим; трижды они в нетерпении обращали взгляды к отцу, но старик знаком удерживал их; наконец, настал час, когда надо было отдать жизнь, и старик крикнул сыновьям: «Вперед!»
И они спрыгнули с площадки Карроччо – все, кроме одного, которого отец удержал за плечо: это был самый младший и потому самый любимый из его сыновей; ему едва исполнилось семнадцать лет, и его звали Арнольфо.
У шестерых братьев были железные нагрудники, как у рыцарей, поэтому они смогли выстоять под ударами гибеллинов. А в это время их отец, одной рукой держа Арнольфо, другой звонил в колокол, собирая бойцов. Гвельфы воспрянули духом, и конники императора были отброшены в четвертый раз. К старику вернулись четверо сыновей; двое остались лежать на земле, и им не суждено было подняться.
В ту же минуту послышались громкие крики и толпа расступилась – это появился Фарината дельи Уберти во главе флорентийских изгнанников; все это время он преследовал конницу гвельфов, пока не убедился, что ей уже не вернуться в бой: так волк загрызает собак перед тем как наброситься на овец.
Старик, которому с колесницы было видно все, узнал Фаринату по султану на его шлеме, по доспехам, а главное – по наносимым им ударам. Казалось, всадник и конь слились в одно существо, одно чешуйчатое чудовище. Кто падал под ударами всадника, того тут же растаптывали копыта коня; все разбегались перед ними. Но старик дал знак своим четверым сыновьям – и Фарината натолкнулся на железную стену! Гвельфы опомнились, вокруг этих храбрецов тут же возникло живое кольцо, и бой возобновился.
Фарината один возвышался на своем коне среди пеших гвельфов: другие всадники, гибеллины и имперцы, остались далеко позади. Старик видел его сверкающий меч, который поднимался и опускался равномерно, как кузнечный молот, он слышал предсмертный вопль после каждого удара; дважды ему показалось, что он узнаёт голоса сыновей, но он не перестал звонить в колокол, а только еще сильнее сжал плечо Арнольфо.
Наконец, Фарината отступил, но так, как отступает лев, рыча и сокрушая все кругом; он прокладывал себе путь к гибеллинским всадникам, которые пошли в атаку, чтобы вызволить его. Пока он пробирался к своим, возникло нечто вроде затишья, и старик увидел, как к нему возвращаются два его сына. Ни одной слезинки не выкатилось из его глаз, ни один вздох не вырвался из его груди; он только прижал к сердцу Арнольфо.
Но Фарината уже соединился с флорентийскими изгнанниками и всадниками императора, и, в то время как сиенская пехота атаковала гвельфов со своей стороны, конница готовилась к нападению с тыла.
Последняя атака была ужасна: три тысячи закованных в железо всадников врезались в гущу десяти или двенадцати тысяч пехотинцев, все еще окружавших Карроччо; они походили на громадную змею, жалом которой был меч Фаринаты. Старик видел, как змея приближалась, извиваясь гигантскими кольцами; он подал знак своим двум сыновьям. И они бесстрашно бросились навстречу врагу. Арнольфо плакал от стыда, что не может последовать за братьями.
Старик видел, как они пали один за другим; тогда он передал веревку от колокола в руки Арнольфо и спрыгнул с колесницы. Бедному отцу недостало мужества смотреть, как погибнет его младший сын.
Фарината проехал по телу поверженного отца, так же как до этого растоптал сыновей. Карроччо захватили, и, поскольку Арнольфо, несмотря на все угрозы, не переставал звонить в Мартинеллу, делла Пресса поднялся на площадку и ударом палицы раскроил ему голову.
С того мгновения, когда умолкла Мартинелла, флорентийцы уже не пытались больше сплотиться и разбежались в разные стороны. Несколько человек укрылись в замке Монте Аперти, где были схвачены на следующий день. Рассказывают, что в тот день было убито десять тысяч человек.
Разгром при Монте Аперти стал для Флоренции одним из тех величайших несчастий, память о которых не гаснет с течением веков. Еще и теперь, спустя пять с половиной столетий, флорентиец мрачнеет, показывая путешественнику поле битвы, и пытается разглядеть в водах Арбии красноватый оттенок – след крови, пролитой его предками. А сиенцы, со своей стороны, до сих пор гордятся одержанной победой. Шесты Карроччо, вокруг которой в роковой день пало столько храбрецов, бережно хранятся в базилике, подобно тому, как Генуя хранит у своих ворот цепи, заграждавшие вход в порт Пизы, а Перуджа в окне городской ратуши – флорентийского льва. Бедные города! От их былой свободы остались одни лишь трофеи, отнятые ими друг у друга. Бедные рабы, которым их хозяева, как видно в насмешку, пригвоздили ко лбу королевские короны!
Двадцать седьмого сентября гибеллинское войско подошло к Флоренции, где, как рассказывает Виллани, все до единой женщины оделись в траур, ибо каждая потеряла сына, брата или мужа. Ворота города были открыты, никто не оказал сопротивления. На следующий день все гвельфские законы были отменены, и народ, лишившись права заседать в совете, снова подпал под владычество знати.
Представители гибеллинских городов Тосканы собрались в Эмполи; послы Пизы и Сиены заявили, что они не видят иного средства прекратить гражданскую войну, кроме как полностью разрушить Флоренцию, город гвельфов, где эта партия постоянно будет пользоваться поддержкой. Графы Гвиди и Альберти, Сантафьоре и Убальдини согласились с этим предложением. У каждого из них были на это свои причины: у кого честолюбие, у кого ненависть, у кого страх. Решение уже почти приняли, когда слова попросил Фарината дельи Уберти.
Это была возвышенная речь: флорентиец просил за Флоренцию, сын вступался за мать, победитель просил пощады для побежденных и готов был умереть ради того, чтобы жила его родина, – вначале он был Кориоланом, потом стал Камиллом.
Слово Фаринаты победило в совете, как его меч – в битве. Флоренция была спасена: гибеллины сделали ее своим политическим центром, а граф Гвидо Новелло, командир тяжелой конницы Манфреда, стал правителем города.
Шел пятый год имперской реакции, когда во Флоренции родился мальчик, получивший от родителей прозвание Алигьери, а от Небес – имя Данте.
Так продолжалось с 1260 по 1266 год.
Но вот однажды утром во Флоренции стало известно, что Манфред, могущественный покровитель гибеллинской партии, погиб в битве при Гранделле; тот, перед кем дрожала вся Италия, не удостоился иной гробницы, кроме камней, наброшенных на его труп проходившими мимо французскими солдатами; вскоре, однако, разнесся слух, что архиепископ Козенцы посчитал и такое, воздвигнутое милосердием врага надгробие слишком почетным для
Манфреда, – он приказал вывезти тело к границам королевства и бросить на берегу реки Верде.
Можно представить, какое изменение внесла эта новость в поведение гвельфской партии. Народ выражал радость криками и праздничной иллюминацией; изгнанники подошли к городским стенам в ожидании, когда им откроют ворота, а Гвидо Новелло со своими тысячью пятьюстами тяжеловооруженными конниками (всё, что у него осталось после битвы при Монте Аперти) был словно потерпевший кораблекрушение, который сидит на скале и видит, как с каждой минутой поднимаются волны прилива.
Вместо того чтобы бросить вызов опасности и удержать Флоренцию жестокостью – это было еще возможно с его тысячью пятьюстами солдатами, – Гвидо решил, что сумеет умиротворить жителей города, пойдя на уступки, которые вернули бы им веру в свои силы. Поскольку, как известно, должности подеста всегда занимали выходцы из других городов, он призвал из Болоньи, чтобы они совместно исполняли эту должность, двух рыцарей нового, недавно учрежденного ордена, чей устав не требовал обетов целомудрия и бедности, а лишь предписывал защищать вдов и сирот. Один из этих рыцарей был гибеллином, другой – гвельфом. Был избран совет из тридцати шести почтенных граждан, также принадлежавших к обеим враждующим партиям; город разделился на двенадцать ремесленно-торговых цехов[33], и семь старших цехов получили знамя, под которое в случае тревоги должны были становиться и младшие: правители надеялись, что в будущем такое сближение цехов приведет к согласию.
Но вышло наоборот. Это сближение породило бунт, так что Гвидо и его солдатам пришлось бежать из Флоренции и укрыться в Прато.
Их бегство послужило гвельфам сигналом к наступлению. Гибеллины пали духом, отказались от дальнейшей борьбы и покинули город, а образ правления во Флоренции из аристократического в один день стал демократическим.
А где во время столь важных событий был Фарината де-льи Уберти? О нем во время этого великого бедствия не упоминается. Этот великан исчезает, словно привидение, и мы находим его лишь сорок лет спустя в Дантовом Аду, где он, по пояс в огненной могиле, жалуется не на боль, а на ожесточение, с каким флорентийцы преследуют его имя и его потомство[34].
В самом деле, жители Флоренции, не забывшие поражение при Монте Аперти, издали закон, согласно которому дворец Фаринаты надлежало снести, землю под ним вспахать и впредь не строить ни одно общественное или частное здание на том месте, где в день гнева Небес был зачат новоявленный Кориолан.
Тот же закон предписывал, что ни одна амнистия, какую в будущем могут даровать гибеллинам, не будет распространяться на членов семьи Уберти.
Мы рассказали о Флоренции больше, чем о других городах потому, что Флоренцию нам предстоит посетить в первую очередь, и остановились на 1266 годе потому, что наиболее древние достопримечательности, которые мы с читателями будем осматривать, были созданы именно в эту эпоху. Дальнейшую же историю Флоренции мы увидим запечатленной в ее дворцах, статуях и надгробиях и будем наталкиваться на нее на каждом шагу, прогуливаясь по улицам и площадям этого города.
ДОРОГА ИЗ ЛИВОРНО ВО ФЛОРЕНЦИЮ
Чтобы добраться из Ливорно во Флоренцию, мы наняли веттурино: это, можно сказать, единственное средство сообщения между двумя городами. Есть, конечно, дилижанс, который утверждает, будто в положенное время он находится в движении, однако, менее удачливый, чем греческий философ, не может это доказать.
Бездействие дилижанса объясняется пережитками простонародного духа, ведущего начало со времен гвельфов и столь распространенного в Тоскане, что различным правительствам, которые сменялись здесь одно за другим, так и не удалось искоренить его. И по сей день не только люди, но даже дворцы и стены имеют здесь политические убеждения: прямоугольные зубцы – это гвельфы, зубцы с выемкой – гибеллины.
И поскольку веттурино – это проявление народной предприимчивости, а дилижансы – это выдумка аристократии, первые вполне естественно одержали верх над вторыми, ибо правительство, неизменно проникнутое духом демократии, который стремится к благоденствию большинства, ставит компанию дилижансов в такие условия, что через некоторое время она волей-неволей закрывается.
К тому же дилижансы отправляются по расписанию и стоят на месте в ожидании пассажиров, тогда как веттурино готовы ехать в любое время и повсюду ищут себе седоков. Они вроде наших извозчиков в Со и в Сен-Дени. Вы еще не высадились из лодки, доставляющей в порт пассажиров с парохода, а вас уже осаждают, обступают, хватают, оглушают своими криками десятка два возниц, которые смотрят на вас как на товар и обращаются с вами соответственно: будь их воля, они унесли бы вас на плечах. Несколько семей были разъединены таким образом в ливорнском порту и воссоединились только во Флоренции.
Вы уже сели в наемную карету, а они продолжают наскакивать на вас со всех сторон; перед дверью гостиницы, как и в порту, вы оказываетесь в окружении десятка нахалов, только здесь они кричат еще громче, потому что ждать им пришлось дольше.
Тут разумнее всего будет сказать, что вы прибыли в Ливорно по торговым делам и рассчитываете пробыть здесь неделю. А затем, в присутствии почтенных возниц, от которых вы хотите избавиться, спросить у привратника гостиницы, есть ли в ней свободная комната сроком на неделю; бывает, что они принимают это на веру, выпускают добычу, рассчитывая настичь ее позже, стремглав кидаются в порт, на охоту за другими приезжими, – и вы спасены.
Однако, выйдя через час из гостиницы, вы обнаруживаете у дверей двух караульных. Это возницы, у которых здесь прочные связи. За небольшую мзду коридорный им сообщил, что вы уезжаете не через неделю, а сегодня или завтра утром.
Нужно тут же вернуться вместе с ними в гостиницу. Если вы по неосторожности вздумаете выйти на улицу, на их крики сбегутся полсотни их собратьев, и сцена в порту повторится.
Они спросят с вас десять пиастров: шестьдесят франков за шестнадцать льё! Надо предложить им пять, но только с условием, что они трижды сменят лошадей, но не будут менять карету. Они поднимут крик; вы их выставите за дверь. Через десять минут один из них влезет в окно, и вы с ним сговоритесь за тридцать франков.
После этого ваша особа обретает неприкосновенность; за пять минут разносится весть, что вы условились. Теперь вы можете гулять где вам угодно, каждый будет вам кланяться и желать счастливого пути; вам покажется, что вас окружают самые бескорыстные в мире люди.
В назначенный час у порога вас ожидает leg по[35]. Словом «legno» в Италии обозначается всякое средство передвижения, будь это лодка или карета шестеркой, кабриолет или пароход; legno вместе с парным ему словом женского рода roba[36] составляет основу этого языка. При ближайшем рассмотрении legno оказывается дрянной колымагой: не стоит обращать на это внимание, все равно ничего другого в каретном сарае padrone[37] здесь нет. Впрочем, вы в ней устроитесь не хуже, чем в дилижансе. Теперь осталось только решить вопрос buona mano, то есть чаевых.
Дело это весьма важное, и браться за него нужно с умом. От чаевых зависит, сколько времени вы проведете в пути: кучер может довезти вас за шесть часов, а может и за двенадцать. Один мой знакомый, русский князь, забыл справиться на этот счет, и в итоге дорога заняла у него целые сутки; ночь он провел прескверно.
Вот его история; рассказав ее, мы вернемся к buona mano.
Князь К. прибыл в Ливорно вместе с матерью и слугой-немцем. Как всякий путешественник, прибывший в Ливорно, он сразу же стал искать возможность побыстрее уехать оттуда. А поскольку, как мы говорили, эти возможности бегут вам навстречу, надо только суметь ими воспользоваться.
От носильщиков веттурино узнали, что имеют дело с князем. А потому они спросили с него двенадцать пиастров вместо десяти, князь же, вместо того чтобы предложить им пять пиастров, сказал: «Согласен, даю двенадцать пиастров; но из этих денег вы заплатите buona mano кучерам: я не хочу, чтобы они докучали мне на каждой станции». «Vabene[38]», – ответил веттурино. Князь дал ему двенадцать пиастров, и карета галопом помчалась вперед, увозя его вместе со всей поклажей. Было девять часов утра; по расчетам князя, он должен был приехать во Флоренцию в три или четыре часа пополудни.
Отъехав от Ливорно четверть льё, карета стала ехать тише: вместо галопа лошади почему-то пошли шагом. Кучер же, сидя на козлах, принялся петь, прерывая это занятие лишь для того, чтобы перекинуться словечком с приятелями; но нелегко поддерживать беседу, находясь в движении, а потому он начал останавливаться всякий раз, как ему представлялся случай поболтать.
Князь терпел эту уловку примерно час; затем, сообразив, что они не проехали и мили, он высунулся в окно кареты и крикнул на чистейшем тосканском диалекте:
– Avanti! Avanti! Tirate via![39]
– А сколько вы дадите на чай? – спросил кучер на том же языке.
– О чем вы говорите? – удивился князь. – Я дал вашему хозяину двенадцать пиастров с условием, что он возьмет это на себя.
– К хозяину чаевые отношения не имеют, – отвечал кучер. – Сколько вы дадите на чай?
– Ни гроша не дам, я уже заплатил.
– Тогда, если угодно вашему сиятельству, поедем шагом.
– То есть как это шагом? Ваш хозяин обязался доставить меня во Флоренцию за шесть часов.
– Где документ? – осведомился кучер.
– Документ? Разве на это нужен документ?
– Вот видите, документа у вас нет, так что принудить меня ехать быстрее вы не можете.
– А! Я не могу тебя принудить?
– Нет, ваше сиятельство.
– Что ж, посмотрим!
– Посмотрим, – невозмутимо ответил кучер и пустил лошадей шагом.
– Франц, – сказал князь по-немецки своему слуге, – задайте этому негодяю хорошую трепку.
Франц беспрекословно вышел, стащил кучера с козел, отколотил его с истинно немецкой основательностью и посадил обратно; затем, показав на дорогу, произнес: «Vorwaerts[40]» и сел рядом.
И кучер поехал, однако чуть медленнее, чем раньше.
Все на свете надоедает, даже телесное наказание кучера. Князь рассудил, что так или иначе приедет во Флоренцию, предложил матери подремать и, подавая ей пример, уткнулся в угол кареты и заснул.
Кучеру потребовалось шесть часов, то есть на четыре часа больше, чем обычно, чтобы добраться от Ливорно до Понте деры; там он предложил князю выйти, чтобы сменить карету.
– Но я дал вашему хозяину двенадцать пиастров именно за то, чтобы не менять карету! – воскликнул князь.
– Где документ? – спросил кучер.
– Я уже сказал вам, негодяй: нет у меня документа!
– Что ж, раз у вас нет документа, сменим карету.
Князю очень хотелось снова отколотить кучера, на сей раз уже собственноручно; однако, взглянув на физиономии людей вокруг, он решил, что это было бы неосторожно. Поэтому он вышел из кареты; его поклажу побросали на мостовую, и после часа ожидания появилась карета – полуразвалившийся рыдван, запряженный двумя едва дышащими клячами.
При других обстоятельствах князь, щедрый как русский вельможа и французский художник одновременно, дал бы кучеру луидор, но здесь правота его была столь очевидна, что уступить было бы малодушием, и он решил проявить твердость. Он сел в рыдван, и, поскольку новый кучер был предупрежден, что чаевых не будет, они тронулись шагом, под хохот и почти что улюлюканье присутствующих.
Впрочем, было бы просто бессовестно требовать, чтобы эти жалкие клячи двигались не шагом, а как-либо еще. Из Понтедеры в Эмполи князь добрался за шесть часов.
При въезде в город кучер остановил карету и подошел к окну.
– Ваше сиятельство переночует здесь, – сказал он князю.
– То есть как? Разве мы уже во Флоренции?
– Нет, ваше сиятельство, мы в Эмполи, это чудесный маленький городок.
– Я не для того заплатил твоему хозяину двенадцать пиастров, чтобы ночевать в Эмполи. Я буду ночевать во Флоренции.
– Где документ, ваше сиятельство?
– Проваливай к черту со своим документом!
– У вашего сиятельства нет документа?
– Нет.
– Хорошо, – сказал кучер, вновь усаживаясь на козлы.
– Что ты сказал? – крикнул князь.
– Я сказал «очень хорошо», – отозвался кучер, нахлестывая своих кляч.
И впервые после Ливорно князь почувствовал, что едет рысью.
Он подумал, что это добрый знак, и выглянул в окно. На улицах было многолюдно, все окна были освещены: в городе праздновали день мадонны Эмполи, совершившей, как говорят, много чудес. Проезжая по главной площади, князь увидел танцующих.
Захваченный этим зрелищем, князь вдруг заметил, что въезжает под какой-то свод; в ту же минуту карета остановилась.
– Где мы? – спросил князь.
– В каретном сарае гостиницы, ваше сиятельство.
– Почему мы в каретном сарае?
– Потому что здесь будет удобнее менять лошадей.
– Живо! Живо! Поторапливайся! – приказал князь.
– Subito[41], – ответил кучер.
Князь уже знал, что некоторым словам в Италии доверять не следует, поскольку они означают противоположное тому, что обещают. Однако, увидев, как распрягают лошадей, он закрыл окно кареты и стал ждать.
Через полчаса он опустил стекло и высунулся из кареты:
– Ну, что там?
Никто не отозвался.
– Франц! – крикнул князь. – Франц!
– Сударь? – вдруг проснувшись, ответил Франц.
– Где мы, черт возьми?
– Не знаю, сударь.
– Как это не знаешь?
– Не знаю. Я заснул и только сейчас проснулся.
– Боже мой! – воскликнула княгиня. – Мы в каком-то разбойничьем притоне.
– Нет, – ответил Франц, – мы в каретном сарае.
– Так открой ворота и позови кого-нибудь, – сказал князь.
– Ворота заперты, – ответил Франц.
– Заперты? – воскликнул князь, выпрыгивая из кареты.
– Взгляните сами, сударь.
Князь принялся что есть силы трясти ворота, но они были надежно заперты. Князь закричал во все горло; никто ему не ответил. Князь стал искать булыжник, чтобы взломать ворота, но булыжника не было.
Убедившись, что его не могут или не хотят услышать, князь, будучи прежде всего человеком редкого ума, решил извлечь из случившегося единственно возможную пользу; он сел в карету, закрыл окна, проверил, под рукой ли у него пистолеты, пожелал матери спокойной ночи, положил ноги на переднее сиденье и уснул. Франц сделал то же самое на козлах; одна лишь княгиня не могла сомкнуть глаз, уверенная, что она попала в какую-то западню.








