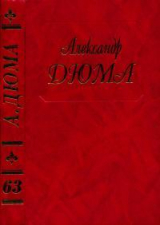
Текст книги "Путевые впечатления. Год во Флоренции"
Автор книги: Александр Дюма
Жанр:
Зарубежная классика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 35 страниц)
– Вдвое дороже, надо полагать?
– Что поделаешь, сударь, раз есть спрос, надо этим пользоваться: как говорится, жизнь заставляет. Ах! Если бы я мог остаться тут хотя бы еще на десять лет, мне больше не пришлось бы думать о будущем, я был бы обеспечен до конца моих дней. К несчастью, сударь, мне дали всего десять лет, и через два года придется выйти отсюда. Ах! Если бы я знал…
Я купил несколько безделушек у этого довольного жизнью каторжника и направился далее, пораженный тем, что есть люди, способные сожалеть о расставании с каторгой.
Тем временем Жаден торговался с другим умельцем, продававшим плетеную алжирскую тесьму: то был араб, рассказавший нам свою историю. Он попал сюда всего лишь за убийство двух евреев. Но потом, по его словам, на него снизошла благодать Божия и он обратился в христианство.
– Черт возьми! – сказал Жаден. – Какую блестящую победу одержала наша религия!
Вначале нам попались два исключения среди каторжников, но вскоре мы смогли наблюдать общую картину.
Каторжники разделяются на четыре разряда: неисправимые; рецидивисты; находящиеся на пути к исправлению и исправившиеся.
Неисправимые, как явствует из их названия, – это те, с которыми ничего не удается поделать; они носят зеленый колпак и красную куртку с коричневыми рукавами.
За ними идут рецидивисты: у них тоже зеленый колпак, один рукав красный, другой коричневый.
Следующий разряд – те, кто находится на пути к исправлению: у них красный колпак и красная куртка.
И наконец – исправившиеся: у них красные куртки и лиловые колпаки.
Представители трех первых разрядов скованы попарно; те, кто составляет последний разряд, носят только кольцо на щиколотке, без цепи; более того, в воскресенье и в праздничные дни им выдают полфунта мяса, прочим же полагается лишь суп и хлеб.
Осмотрев верфи и порт, мы направились в спальные помещения: спят каторжники на широких деревянных ложах, напоминающих походную кровать, с каменным изголовьем и изножьем. В нижней части кровати имеется выступ, куда вделаны два кольца; в эти кольца каждый вечер продевается и запирается на замок цепь, которую каторжники носят на ноге; ее не снимают даже во время болезни, и приговоренный к пожизненной каторге живет, спит и умирает в этих оковах.
Возле каждого выхода с каторги день и ночь стоят наготове две пушки, заряженные картечью.
У меня было рекомендательные письма к военно-морскому комиссару, и он, узнав, что я живу в полульё от города, любезно предложил предоставить мне в личное распоряжение, на все время моего пребывания в Тулоне, шлюпку и двенадцать так называемых исправившихся. Поскольку в наши планы входило побывать в разных местах залива, которые привлекают приезжих своей живописностью или историческими памятниками, мы с благодарностью приняли это предложение; в итоге шлюпку предоставили нам немедленно, и мы воспользовались ею, чтобы вернуться к себе домой.
Прощаясь с нами, охранник гребцов, словно вышколенный кучер из аристократического дома, спросил, какие у нас будут приказания на следующий день. Мы велели ему быть завтра к девяти часам утра у наших дверей. Выполнить этот приказ буквально было очень легко: море плескалось прямо под стенами нашего дома.
Надо заметить, впрочем, что трудно было бы требовать от несчастных каторжников более глубокого чувства собственной приниженности, чем то, какое они проявляют в своем поведении. Если вы сидите в шлюпке, они отодвигаются от вас как можно дальше; если вы встали, они заранее убирают в сторону ноги, чтобы вы не задели их на ходу. Наконец, когда вы высаживаетесь на берег, шлюпка качается на волнах и вам нужна опора, они подставляют вам локоть – настолько они сознают, что их рука недостойна коснуться вашей. В самом деле, эти несчастные чувствуют, что оскверняют тех, к кому они прикасаются, и их смирение почти обезоруживает вашу брезгливость.
На следующий день, в назначенный час, шлюпка была под нашими окнами: нет слуг более исполнительных, чем каторжники; их пунктуальность обеспечивается палкой, и, будь у них ливрея, я ни за что не желал бы для себя лучшей прислуги. Пока мы одевались, они распили две бутылки вина, которые мы передали им через их охранника. Этот славный человек разделил вино поровну с необычайной ловкостью, свидетельствовавшей о его большом опыте в области частного права. Беспристрастность его была такова, что последний стакан, который нельзя было разделить на двенадцать частей, он предпочел выпить сам, не желая выделять кого-нибудь за счет остальных.
Сначала мы направились в Сен-Мандрие. Сен-Манд-рие – это лазарет, не только построенный каторжниками, но и, можно сказать, целиком созданный ими. В самом деле, они сами добывали камень в карьере, отесывали бревна, выделывали кирпич, выковывали замки и ключи, обжигали черепицу и плющили свинцовую оправу окон; только оконные стекла были доставлены им готовыми.
Выше Сен-Мандрие, над вторым холмом, видна сигнальная башня, служащая одновременно гробницей адмирала де Латуш-Тревиля.
Покинув Сен-Мандрие, мы пересекли весь рейд и высадились у Малого Гибралтара. Это тот самый форт, в штурме которого лично участвовал Бонапарт и захват которого привел к почти немедленной сдаче Тулона. При штурме победитель получил серьезную штыковую рану бедра.
Возвращаясь из Малого Гибралтара, мы миновали эскадру контр-адмирала Масьё де Клерваля; ее составляли шесть великолепных судов: «Сюффрен», «Дидона», «Нестор», «Дюкен», «Беллона» и «Тритон». К последнему из них мы пришвартовались: мне надо было нанести визит одному моему другу, человеку уже знаменитому тогда, но чья слава с той поры стала еще больше благодаря одному из самых блестящих сражений, которыми гордится наш военно-морской флот, – этим моим другом был вице-адмирал Боден. Что же касается сражения, то оно уже упоминалось: взятие Сан-Хуан-де-Ульоа.
В то время вице-адмирал был еще просто капитаном и командовал «Тритоном». Это была одна из карьер, оборванных реставрацией 1815 года и возобновившихся лишь недавно, после Июльской революции. Эти пятнадцать лет капитану Бодену пришлось провести на торговом флоте; и если в те годы он не совершил никаких воинских подвигов, я мог бы при желании немало рассказать о его добрых делах.
Капитан Боден принял нас у себя на корабле с таким радушием и такой любезностью, какие встречаются лишь у морских офицеров; согласившись отобедать на следующий день в нашем маленьком доме, он решительно отверг все надуманные доводы, выдвинутые нами против того, чтобы остаться у него ужинать, и в итоге мы покинули борт «Тритона» в восемь часов вечера.
Хотел бы я знать, что помешало двенадцати каторжникам отнять у нас те двадцать пять луидоров, что были в наших карманах, бросить Жадена, меня и своего охранника в море и уплыть на казенной шлюпке куда им заблагорассудится.
Когда мы вернулись в наш домик и легли спать в одной комнате, тщательно заперев двери, я поделился этими мыслями с Жаденом.
Жаден признался, что всю дорогу думал только об этом.
На следующий день, в назначенный для обеда час, капитан прибыл к нам в изящном яле, двенадцать весел которого рассекали воду таким быстрым и таким согласным движением, что казалось, будто их приводит в действие какой-то бесстрастный механизм. Капитан оставил его у небольшого причала и поднялся к нам. Обед наш был куда скромнее, чем ужин на «Тритоне»: все блюда доставили из ближайшего кабачка. К счастью, одним из достоинств морского воздуха является то, что он вызывает постоянный и ненасытный аппетит.
Капитан простился с нами в два часа; я проводил его до причала. Ял был пуст и покачивался на волнах. Решив, по-видимому, что наш обед плавно перейдет в ужин, матросы отправились причаститься в таверну у форта Ла-мальг.
Очевидно, это было вопиющее нарушение дисциплины, поскольку капитан, когда я хотел было позвать матросов, попросил меня не делать этого и сказал, что вернется без них, чтобы они смогли почувствовать всю тяжесть своего проступка. Капитан был один, у него не было правой руки – как известно, ее оторвало пушечным ядром, – а потому я вызвался послужить ему матросом, и он согласился на условии, что я останусь у него ужинать. Подобное условие никоим образом не могло помешать моему зачислению в экипаж «Тритона». А потому я ответил капитану, что пойду за ним хоть на край света и на тех условиях, какие ему будет угодно мне предложить. Заключив это соглашение, мы сложили весла на дне лодки, поставили невысокую мачту, развернули парус и пустились в путь.
Хотя от «Тритона» нас отделяло самое большее две мили, плавание было не совсем безопасным; дул мистраль, и этого было достаточно, чтобы море разыгралось; а что бывает, когда море разыграется, знают все.
Конечно, будь у капитана его экипаж или хотя бы обе руки, наше плавание стало бы приятной прогулкой; но у него была только левая рука, сопровождал его только я, и он оказался в нелегком положении. Капитан постоянно забывал, насколько я несведущ в морском деле, и отдавал команды так, словно на моем месте был опытный старшина, а я в ответ вместо левого борта кидался на правый и выбирал снасти вместо того, чтобы отпускать их; эта неразбериха при волнах высотой в двенадцать – пятнадцать футов и при таком капризном ветре, как мистраль, временами становилась небезопасной. Два или три раза мне показалось, что наше суденышко вот-вот перевернется, и я сбрасывал свой сюртук под предлогом, что так удобнее выполнять маневр, но на самом деле – чтобы быть менее стесненным, если пришлось бы продолжать путь вплавь.
Пребывая в этих тревожных раздумьях, я время от времени бросал взгляд на «Тритон» и видел, что весь экипаж собрался на палубе и следит за нашими маневрами, ни на мгновение не упуская нас из виду. Я не мог понять такого бездействия в сочетании с острым любопытством; было очевидно, что на «Тритоне» прекрасно знают, кто находится в лодке. Почему же, видя нас в таком положении, никто не думает прийти к нам на помощь? Я вполне отдавал себе отчет в том, насколько своеобразно утонуть в обществе лучшего, быть может, из капитанов французского флота, однако должен признаться, что в ту минуту я неспособен был оценить такую высокую честь.
Нам понадобилось около полутора часов, чтобы добраться до судна; мы плыли против ветра, и только с помощью весьма сложных и хитроумных маневров, вызвавших восхищение экипажа, нам удалось приблизиться к величественному «Тритону», который, словно его не касались все эти капризы ветра и моря, лишь едва покачивался, удерживаемый якорями. Как только мы оказались у борта, в ял спрыгнули пять или шесть матросов: тогда капитан с достоинством и хладнокровием, не покидавшими его все это время, первым поднялся по трапу; так велит этикет, ведь капитан – король на борту. В двух словах он объяснил, почему мы оказались в лодке вдвоем, и отдал несколько распоряжений насчет того приема, какой надлежало оказать матросам по их возвращении. Я поднялся по трапу следом за ним так быстро, как только мог, и получил множество похвал за прекрасное выполнение команд капитана. Я скромно поклонился и ответил, что в подобных успехах при таком наставнике нет ничего удивительного.
За ужином все были очень веселы и остроумны, разговор отчасти шел о нашем путешествии. И тогда я спросил лейтенанта, почему он, благодаря подзорной трубе не терявший нас из виду ни на минуту, не послал шлюпку нам навстречу. Он ответил, что без сигнала бедствия, полученного от капитана, никогда не решился бы на такую непристойную выходку.
– Ну хорошо, – сказал я, – а если бы мы перевернулись?
– О, тогда другое дело, – ответил он, – шлюпка была у нас наготове.
– И эта шлюпка приплыла бы после того, как мы утонули? Благодарю покорно.
В ответ лейтенант только скривил губы и пожал плечами, что должно было означать:
«Что поделаешь, таков устав».
Должен признаться, что мне этот устав показался чересчур суровым, особенно когда один из тех, к кому его применяют, не имеет чести принадлежать к королевскому военно-морскому флоту.
Перед тем как вернуться домой, я получил некоторое удовлетворение, видя, как наши двенадцать гребцов проветриваются на вантах; им предстояло до утренней вахты считать звезды и определять, откуда дует ветер.
БРАТ ЖАН БАТИСТ
Мы были так близко от города Йер, что никак не могли не посетить этот прованский рай; оставалось только решить, как мы отправимся туда: по суше или морем. Наши сомнения разрешил военно-морской комиссар, заявивший нам, что он не сможет предоставить каторжников в наше распоряжение на столь длительный срок, поскольку на ночь они должны возвращаться в тюрьму.
Так что мы просто-напросто заказали себе места в йерском дилижансе, который ежедневно около пяти часов пополудни проезжал в каких-нибудь ста шагах от нашего домика.
Нет ничего более восхитительного, чем дорога из Тулона в Йер. Вы не преодолеваете равнины, долины и горы – вы осматриваете один огромный сад. По обеим сторонам дороги стоят ряды гранатовых деревьев, а над ними порой колышется, словно перья на шлеме воина, верхушка пальмы или устремляется к небу похожий на копье цветок алоэ; за этим морем зелени сверкает лазурное море, где у берега теснятся лодки с треугольными парусами, а на горизонте важно проплывает трехмачтовый корабль с целой пирамидой парусов или проносится пароход, оставляя за собой длинную струйку дыма, медленно тающую в воздухе.
Прибыв в гостиницу, мы не смогли удержаться и прежде всего спросили хозяина, есть ли у него сад и растут ли в этом саду апельсины. Получив утвердительный ответ, мы сразу бросились туда; но если правда, будто чревоугодие – смертный грех, то мы были наказаны немедленно.
Упаси Господь всякого христианина, если у него нет вставных челюстей от Дезирабода, жадно впиваться зубами в йерские апельсины.
Когда по возвращении в Тулон мы направлялись к нашему домику, то еще издали заметили стоящего у дверей величавого монаха-кармелита, с суровым лицом, длинной седеющей бородой, закутанного в левантинский плащ и опоясанного арабским кушаком. Я ускорил шаг, любопытствуя узнать, чем вызвано это необычное посещение. Монах пошел мне навстречу и, произнеся приветствие на безукоризненной латыни, показал мне книгу, куда были вписаны имена Шатобриана и Ламартина. Это был памятный альбом монастыря на горе Кармель.
Вот история этого монаха: на свете найдется не много столь же простых и столь же поучительных историй.
В 1819 году брат Жан Батист[6], живший тогда в Риме, был послан папой Пием VII в Святую Землю: в качестве архитектора он должен был определить средства и возможности восстановления Кармел ьс ко го монастыря.
Как известно, Кармель – гора священная; подобно Хориву или Синаю, ее посетил Господь. Находится она между Тиром и Кесарией, вблизи бухты, на противоположном берегу которой стоит Сен-Жан-д'Акр, в пяти часах езды от Назарета и в двух днях пути от Иерусалима; со времен разделения народа израилева на двенадцать колен северная часть этой местности досталась Асиру, восток – Завулону, а на юге раскинул шатры Иссахар. На западе горный кряж острым мысом вдается в море, омывающее его подножие своими волнами, и этот мыс прежде всего видит издалека приплывающий из Европы паломник: это первое место на Святой Земле, где он может преклонить колена.
Туда, на вершину Кармеля, пророк Илия призвал для испытания восемьсот пятьдесят лжепророков, посланных Ахавом, дабы свершившееся на глазах у всех чудо решило спор, кто есть истинный Господь: Ваал или Иегова. Два жертвенника были возведены на вершине горы, и на каждый возложили жертвы. Лжепророки вопили, заклиная своих идолов, но те остались глухи. Илия же воззвал к Господу, и едва он преклонил колена, как с неба спустился огонь и поглотил разом все – не только жертву и дрова под ней, но и самый камень жертвенника. Посрамленные лжепророки были истреблены народом, а имя истинного Бога было прославлено: случилось это за 900 лет до Рождества Христова.
С того дня Кармель пребывал во владении правоверных. Илия завещал Елисею не только свой плащ, но и пещеру, в которой он жил. Елисею наследовали сыны пророческие, предшественники Иоанна Крестителя. После смерти Христа обитавшие там отшельники стали жить не по писаным законам, а повинуясь озарению свыше. Триста лет спустя святой Василий и его последователи создали для этих благочестивых иноков особый устав. Во времена крестовых походов монахи отказались от греческого обряда и перешли в католичество. И с тех пор, от Людовика Святого до Бонапарта, монастырь, построенный на том самом месте, где пророк воздвиг свой жертвенник, был открыт для путников всех вероисповеданий и из всех стран, причем бесплатно, во славу Господа и пророка Илии, равно почитаемого и раввинами, которые верят, что он ведет летопись событий всех времен, персидскими магами, которые утверждают, что их учитель Зороастр был учеником этого великого пророка, и, наконец, мусульманами, которые верят, что он обитает в восхитительном оазисе, где растет древо жизни и бьет источник живой воды, дарующие ему бессмертие.
Итак, на священной горе уже две тысячи шестьсот лет поклонялись Господу, когда Бонапарт осадил Сен-Жан-д’Акр; и Кармель, как всегда, гостеприимно распахнул свои двери, но на этот раз не перед паломниками, не перед путниками, а перед ранеными и умирающими. С промежутками в восемь веков Кармель посетили император Тит, Людовик IX и Наполеон.
Эти три вторжения Запада на Восток были для Кармеля роковыми. После того как Тит взял Иерусалим, Кармель был разорен римскими солдатами; после того как христиане ушли со Святой Земли, сарацины перебили его обитателей; и наконец, после поражения Наполеона у Сен-Жан-д'Акра монастырь захватили турки, вырезали раненых французских солдат, разогнали монахов, выбили окна и двери и оставили святую обитель непригодной для жизни.
От монастыря оставались одни расшатанные стены, а от братии – единственный монах, бежавший в Хайфу, когда брат Жан Батист, посланный своим генералом к папе, получил от его святейшества приказ отправиться в Кармель и посмотреть, что сотворили со святым приютом неверные и что следует предпринять для его восстановления.
Время было выбрано неудачно. Абдаллах-паша, командовавший там от имени Порты, смертельно ненавидел христиан, а восстание греков усугубило эту ненависть. Абдаллах сообщил великому султану, что его враги могут сделать Кармельский монастырь своей крепостью, и попросил дозволения разрушить его; это было ему с легкостью разрешено. Абдаллах заминировал монастырь, и посланец папы увидел, как взлетают на воздух руины здания, которое он призван был восстановить. Это случилось в 1821 году. В Кармеле уже ничего нельзя было сделать, и брат Жан Батист вернулся в Рим.
Однако он не отказался от своего замысла. В 1826 году он отправился в Константинополь, где, благодаря авторитету Франции и вмешательству посла, получил от султана Махмуда фирман с позволением восстановить монастырь. С этим он вернулся в Хайфу, но последнего кармел ьс ко го монаха уже не было в живых.
И тогда Жан Батист в одиночестве взобрался на священную гору, сел на обломок византийской колонны и там, избранный Провидением зодчим дома Божьего, взял карандаш и набросал план нового монастыря, больше и великолепнее всех существовавших прежде, а затем составил смету. Сумма предполагаемых расходов доходила до 250 тысяч франков; подведя итог, чудесный строитель, воздвигавший здание лишь силою мысли, пошел к ближайшему дому и попросил дать ему ломоть хлеба на ужин.
На следующий день он стал размышлять над тем, как раздобыть 250 тысяч франков, необходимых для осуществления святого дела.
Первой его заботой было обеспечить средства к существованию для братии будущего монастыря. В пяти часах езды от Кармеля и в трех часах от Назарета он заметил две заброшенные водяные мельницы: возможно, их хозяев разорила война или там иссякла вода, вертевшая колеса. На расстоянии льё ему удалось найти источник, откуда можно было провести воду к мельницам. Сделав это открытие и приобретя уверенность, что мельницы можно привести в движение, брат Жан Батист занялся их приобретением. Они были собственностью некоей семьи друзов: это были потомки израильского племени, поклонявшегося Золотому Тельцу. Еще и поныне их женщины носят в качестве головного убора коровий рог. У бедных женщин этот рог без всяких украшений, у богатых он посеребренный или позолоченный. Семья друзов, насчитывавшая человек двадцать, не желала уступать землю, доставшуюся им от предков, хотя она и не приносила никакого дохода; они усматривали в этом святотатство. Раз продать землю было нельзя, брат Жан Батист предложил им сдать ее в аренду. Глава семьи дал согласие. Доход от мельниц должен был делиться на три части: треть причиталась хозяевам земли, две трети – арендаторам.
Арендаторов же должно было быть двое: один должен был сделать свой взнос в виде познаний – это был брат Жан Батист, но нужен был еще один человек, тот, кто дал бы деньги на восстановление мельниц и на сооружение водопровода. Брат Жан Батист явился к одному турку, с которым он познакомился и подружился во время своего первого путешествия в Святую Землю, и попросил у него девять тысяч франков на свое многотрудное предприятие. Турок отвел его в сокровищницу, ибо турки, не имея возможности вкладывать капитал в ценные бумаги или в промышленность, еще и по сей день, как во времена «Тысячи и одной ночи», хранят у себя тонны золота и серебра. Брат Жан Батист взял нужную ему сумму, пообещав взамен треть доходов от мельниц; и благодаря этому первому взносу, сделанному мусульманином, зодчий смог заложить фундамент христианской обители. О процентах не было и речи, более того, добрый магометанин мог вернуть свои деньги самое раннее лет через двенадцать; что касается кредитного договора, тут все было просто: условия были определены на словах, и договаривающиеся стороны поклялись на своей бороде, один – именем Магомета, другой – именем Христа, строжайше соблюдать эти условия.
Встречали ли вы когда-нибудь такое простодушное величие, как у этого христианина, просящего турка о ссуде на восстановление дома Божьего, и такое возвышенное простодушие, как у этого турка, отдающего деньги под единственное ручательство – клятву христианина?
Дело в том, что воссоздание Кармеля было не только актом веры, но и подвигом человечности: Кармель – это святое пристанище, где принимают, не требуя платы, паломников всех вероисповеданий, путников из всех стран и где каждый может получить стол и кров, сказав только: «Брат, я устал и проголодался».
Вскоре брат Жан Батист отправился в свою первую поездку, поручив сооружение водопровода и восстановление мельниц одному толковому человеку, недавно обратившемуся в христианство. Перед отъездом он оповестил всех, кто желал присоединиться к настоятелю кармелитов Востока: они могут собираться в дорогу, ибо монастырь в скором времени будет построен и сможет их принять. На побережье Малой Азии, на островах Эгейского моря, на улицах Константинополя – повсюду он просил подаяния во имя Господа и спустя полгода вернулся на Кармель, собрав двадцать тысяч франков, – этого было достаточно, чтобы начать строительство. И вот, в день праздника Тела Господня, ровно через семь лет после того, как Абдаллах-паша велел взорвать стены древнего монастыря, брат Жан Батист заложил первый камень нового здания.
Но к концу года от этой суммы ничего не осталось, и тогда брат Жан Батист снова отправился в Грецию, а затем в Италию; на этот раз он вернулся с весьма значительной суммой и вдохнул жизнь в строительство, которое успешно продолжалось, и вскоре монастырь уже мог оказывать гостеприимство путникам. Ламартин, Тейлор, аббат Де-мазюр, Шанмартен и Доза останавливались там, путешествуя по Палестине.
Вот так, пренебрегая усталостью, не смущаясь отказами, принимая как должное опасности и унижения, брат Жан Батист, которому сейчас шестьдесят пять лет, продолжал свое святое дело. Одиннадцать раз покидал он Кармель и одиннадцать раз возвращался туда. За десять лет он объездил половину земного шара: он побывал в Иерусалиме, в Дамаске, в Яффе, в Александрии, в Каире, в Раме, в сирийском Триполи, в Смирне, на Мальте, в Афинах, в Константинополе, в Тунисе, в африканском Триполи, в Сиракузах, в Палермо, в Алжире, в Гибралтаре. Он добрался даже до Феса и до Марокко, проехал из конца в конец Италию, Корсику, Сардинию, Испанию и часть Англии, откуда он вернулся через Ирландию и Португалию, и на одиннадцатый раз привез в Кармель то, чего недоставало до суммы в 230 тысяч франков. Но расходы, как всегда бывает, превысили смету на сотню тысяч франков, и брат Жан Батист покинул Кармель в двенадцатый раз, чтобы закончить сбор пожертвований во Франции: христианнейшее королевство он оставил себе на конец строительства.
В этом человеке восхищает то, что, десять лет собирая пожертвования на святое дело, он ни разу не истратил на собственные нужды ни гроша из собранных им 230 тысяч франков. Если нужно было переплыть море, он совершал этот переход на каком-нибудь утлом суденышке, где с него ничего не брали в надежде заслужить этим добрым делом спокойное море и попутный ветер. Если нужно было пересечь целую страну, он либо шел пешком, либо садился в телегу к каким-нибудь бедным возчикам, которые взамен просили лишь помолиться за них. Когда он бывал голоден, то просил хлеба в хижинах; жажду он утолял водой из родника, а ложе для недолгого сна находил в доме любого священника. Выйдя из того самого места, что и
Вечный Жид, но, правда, с благословением, а не с проклятием, и посетив почти столько же стран, он отправился в последнее путешествие: во Францию.
Я пожертвовал сколько мог, стыдясь, что не могу дать больше; но я дал брату Жан Батисту письма к нескольким моим друзьям, которые богаче меня.
Сейчас брат Жан Батист снова в Палестине: он вернулся, чтобы попросить последнего упокоения у горы, на которой им был воздвигнут дворец.
Да хранит Господь монастырь на горе Кармель от Ибрагима, Абдул-Меджида, а в особенности – от коммодора Нейпира.
ЗАЛИВ ЖУАН
Проведя в Тулоне полтора месяца, мы двинулись дальше. Поскольку дорога до Фрежюса ничем не примечательна, кроме разве пейзажа, которым можно любоваться из окна, мы взяли места в дилижансе. Впрочем, для наблюдательного человека дилижанс имеет преимущество, вознаграждающее его за все неудобства: там можно изучить с весьма любопытной точки зрения средний класс страны, по которой вы проезжаете.
Кроме нас, в дилижансе находились еще юноша лет двадцати – двадцати двух и господин лет пятидесяти или пятидесяти пяти.
У юноши было простодушное лицо, удивленные глаза, длинные, неуклюжие ноги; на нем были ворсистая шляпа, васильковый сюртук, серые панталоны без штрипок, черные чулки, шнурованные башмаки и часы с американскими фруктами.
У пятидесятипятилетнего господина были седые волосы, полукруглые бакенбарды, заостряющиеся к ушам, светло-серые глаза, орлиный нос, редкие зубы, чувственный рот; наряд его составляли воротничок рубашки, подпиравший ему уши, красный галстук, серая куртка, синие панталоны и замшевые башмаки. Время от времени он высовывался в окно и беседовал с кондуктором, который, отвечая ему, всякий раз называл его капитаном.
Еще не доехав до первой станции, мы уже знали, почему его так называют: в 1815 году он получил от маршала Брюна приказ доставить продовольствие из Фрежюса и Антиба в Тулон. Для этой экспедиции ему предоставили шлюпку и шесть матросов, которые вначале звали его хозяином, а под конец стали звать капитаном; он нашел, что это звание удачно сочетается с его именем, и решил сохранить его за собой. А потому с тех пор все стали называть его «капитан Лангле».
На второй станции нам уже были известны политические и религиозные воззрения капитана: в политике он был бонапартистом, в религии – вольтерьянцем.
Мы заговорили о брате Жане Батисте; капитан воспользовался этим поводом, чтобы выразить свое безмерное презрение к святошам, и пересказал нам по этому поводу две превосходные статьи из «Конституционалиста», направленные против клерикальной партии.
Мы остановились поужинать в Карнуле. Поскольку была пятница, трактирщик спросил нас, не желаем ли мы постной пищи.
– Вы что, за иезуита меня принимаете? – громовым голосом ответил капитан. – Подайте мне хорошую порцию жареного мяса и яичницу с салом.
Мы сказали трактирщику, что поели бы свежей рыбы, если она у него имеется. А молодой человек, покраснев до ушей, робко ответил:
– Я буду есть то же, что эти господа.
Капитан Лангле взглянул на нас с неописуемым презрением и, когда ему принесли яичницу, заявил, что в ней слишком мало сала.
После ужина мы снова сели в дилижанс, и, так как нам предстояло заночевать во Фрежюсе, разговор у нас зашел о высадке Наполеона. Капитан Лангле присутствовал при этом событии вместе с экипажем своей лодки.
– Зная ваши взгляды, я могу не задавать вопрос, присоединились ли вы к императору, – сказал Жаден.
– Черт возьми! Знаете, сначала я воздержался. В то время, сударь, я еще был немного сердит на этого великого императора за то, что он заново пооткрывал церкви, вместо того чтобы устроить в них отличные фуражные склады. Напротив, я велел поднять парус и взял курс на Антиб: там я сообщил эту необычайную новость коменданту крепости, генералу Корсену; я даже сказал ему, что, как я думаю, к Антибу движется небольшой – человек в двадцать – отряд под трехцветным флагом. И молодчина-генерал тут же принял меры: когда этот отряд подошел к крепости, его впустили и заперли за ним ворота. Одним словом, сударь, благодаря мне они попались – все, кроме их командира Касабьянки, корсиканского удальца, который спрыгнул со стены и присоединился к своему великому императору.
– А как поступили с пленниками? – спросил я.
– Сначали их хотели поместить в городскую тюрьму, но она оказалась переполнена, и тут я сказал: «Да отведите их в церковь, черт побери!» И их отвели в церковь.
– Сколько их там продержали? – спросил Жаден.
– О! Их продержали с первого марта до двадцать второго, когда стало известно, что великий Наполеон торжественно въехал в столицу.
– Бедняги! – заметил юноша.
– Да почему бедняги? – возразил капитан. – Скажете тоже! Чем плохо, черт возьми: им давали хлеб, вино, рис и бобы; а что, по-вашему, еще нужно для счастья?
– Надеюсь, капитан, – поинтересовался я, – по возвращении Бурбонов вас наградили по крайней мере крестом Почетного легиона?
– Крестом Почетного легиона? Как же, как же! Просить-то я его просил! И знаете, что мне прислал этот старый святоша, Людовик Восемнадцатый? Он прислал мне свою королевскую лилию. Получил я ее и говорю: «Не нужна мне твоя побрякушка!»








