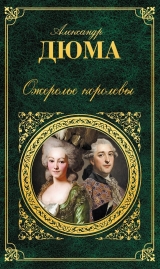
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 61 страниц)
ПРИГОВОР
Утром, когда возобновляется обычный дневной шум, когда Париж опять начинает свою жизнь и прибавляет новое звено к вчерашнему, у графини мелькнула надежда, что вот-вот в ее тюрьму проникнет известие об оправдании, принесенное друзьями, которые радостно явятся ее поздравить.
Были ли у нее друзья? Увы! Богатство и кредит всегда привлекают большую свиту, а между тем Жанна стала богатой, могущественной; она получала сама, раздавала другим и не приобрела, между тем, даже таких друзей, которые на другой же день после постигшей человека немилости сжигают то, чему преклонялись накануне.
Но после этого триумфа, ожидаемого ею, у Жанны будут сторонники, у нее будут поклонники и завистники.
Однако она напрасно ждала появления в комнате смотрителя Юбера толпы людей с веселыми лицами.
От неподвижности убежденного человека, спокойно ожидающего, когда перед ним раскроются объятия, Жанна перешла – таково было свойство ее характера – к сильнейшему беспокойству.
И так как не всегда можно таиться, она не старалась скрывать своих ощущений от тюремщиков.
Ей нельзя было выйти, чтобы разузнать обо всем, но она просунула голову в форточку одного из окон и оттуда тревожно прислушивалась к долетавшему с соседней площади шуму, переходившему в неясный гул, когда он проникал сквозь толстые стены старого дворца Людовика Святого.
Вдруг Жанна услышала уже не гул, а настоящий взрыв, восклицания "Браво!", крики, топот ног, оглушительный гул голосов, испугавший ее, так как тайное чувство подсказывало ей, что это выражение сочувствия относилось не к ней.
Эти громкие взрывы криков повторились два раза, а потом их сменил другого рода шум.
Ей показалось, что он также выражал одобрение, но одобрение спокойное, тотчас же стихнувшее после того, как было выражено.
Скоро прохожие на набережной стали многочисленнее, как будто толпа на площади начала рассеиваться.
– Великий день для кардинала!.. – заметил какой-то судебный писец, приплясывая на мостовой около перил моста, и бросил в реку камень с ловкостью молодого парижанина, посвятившего много дней упражнению в этом искусстве, которое вело свое начало от древней палестры.
– Для кардинала! – повторила Жанна. – Следовательно, получено известие об его оправдании?
На лбу Жанны выступил пот, который, казалось, был пропитан желчью.
Она стремительно вернулась в комнату жены смотрителя.
– Послушайте, – спросила она у г-жи Юбер, – там кричат "Великий день для кардинала!". Почему великий, скажите?
– Я не знаю, – ответила та.
Жанна посмотрела ей прямо в лицо.
– Спросите, прошу вас, у своего мужа, – добавила она.
Жена смотрителя повиновалась, и Юбер ответил с улицы:
– Я не знаю!
Жанна, сгоравшая от нетерпения и обиды, остановилась на минуту среди комнаты.
– Что же тогда хотели сказать эти прохожие? – спросила она. – Ведь нельзя ошибиться в прорицаниях этих оракулов. Они, наверное, говорили о процессе.
– Быть может, – проговорил сострадательный Юбер, – они хотели сказать, что если господин де Роган будет оправдан, то это будет для него великим днем, вот и все.
– Вы думаете, что его оправдают? – воскликнула Жанна, стискивая руки.
– Это может случиться.
– А я в таком случае?
– О, вы, сударыня… вы также; отчего же вам не быть оправданной?
– Странное предположение! – прошептала Жанна.
И она вернулась к окну.
– Мне кажется, сударыня, – сказал ей смотритель, – что вы напрасно волнуетесь, слушая непонятный уличный шум. Верьте мне, ожидайте спокойно прихода вашего адвоката или господина Фремена, которые прочтут вам…
– Приговор… Нет! Нет!
И она стала снова прислушиваться.
Мимо шла какая-то женщина со своими подругами. На них были праздничные чепцы, в руках – большие букеты. Запах роз, подобный драгоценному бальзаму, донесся до Жанны, которая впитывала все происходящее внизу.
– Он получит мой букет, – кричала эта женщина, – и еще сотню других, этот милый человек. О, если можно будет, я его поцелую!
– И я тоже, – сказала одна из ее спутниц.
– А я хочу, чтоб он меня поцеловал, – сказала третья женщина.
"О ком они говорят?" – подумала Жанна.
– Он ведь очень красив собою; у тебя вкус недурен, – сказала последняя из подруг.
И они прошли мимо.
– Опять кардинал! Все время он, – шептала Жанна, – он оправдан! Он оправдан!
И она произнесла эти слова с таким унынием и вместе с тем с такою уверенностью, что смотритель с женой, решив не допустить такой бури, как вчерашняя, разом сказали ей:
– Но почему же, сударыня, вы не желали бы, чтобы бедный заключенный был оправдан и освобожден?
Жанна ощутила укол, в особенности увидев перемену в отношении к ней этих людей, и, не желая лишиться их сочувствия, она сказала:
– О, вы не понимаете меня. Увы, неужели вы считаете меня такой завистливой или злой, что я желаю беды моим сотоварищам по несчастью? Боже мой! Пусть оправдают господина кардинала, пусть! Но надо, чтобы я наконец узнала… Верьте, друзья мои, это нетерпение делает меня такой.
Юбер с женой переглянулись, как бы взвешивая все значение того, что они собирались сделать.
Но хищный огонь, загоревшийся в глазах Жанны помимо ее воли, остановил их в ту минуту, когда они, казалось, хотели на что-то решиться.
– Вы мне ничего не говорите? – воскликнула она, заметив свою ошибку.
– Мы ничего не знаем, – сказали они тише.
В эту минуту Юбер был вызван по делу. Жена смотрителя, оставшись одна с Жанной, старалась развлечь ее, но все было напрасно: все чувства заключенной, все ее мысли были поглощены криками, доносившимися снаружи, дуновениями, воспринимаемыми ею с удесятеренной лихорадочной чувствительностью.
Жена смотрителя, не будучи в состоянии помещать ей смотреть и слушать, предоставила ее самой себе.
Вдруг шум и волнение на площади усилились. Толпа устремилась к мосту, к набережной, оглашая воздух такими дружными и непрерывными криками, что Жанна вздрогнула у своего наблюдательного поста.
Крики не прекращались; они были направлены к открытой карете, которая ехала шагом, так как лошадей сдерживала скорее толпа, чем рука кучера.
Понемногу толпа сдвигалась все теснее и теснее и наконец подняла на плечи, на руки лошадей, экипаж и двух людей, сидевших в нем.
При свете яркого солнца, среди дождя цветов, под сенью зеленых веток, которыми размахивали над головами ехавших тысячи рук, графиня узнала тех, кого так упоенно приветствовала восторженная толпа.
Один из них, бледный от своего триумфа, испуганный своей популярностью, выглядел серьезным, ошеломленным, трепещущим. Женщины вскакивали на ободья колес, хватали его руки, покрывая их поцелуями, и дрались из-за клочка кружев с его манжет, который они оплатили самыми свежими и редкими цветами.
Другие, более счастливые, влезали на запятки кареты рядом с лакеями и, потихоньку отстраняя все препятствия, стеснявшие проявление их любви, обхватывая голову своего кумира, запечатлевали на лице его почтительный и страстный поцелуй, уступая место другим счастливицам. То был кардинал де Роган.
Его спутник, бодрый, радостный, сияющий, встречал пусть не столь же горячий, но не менее лестный (если принять во внимание разницу в общественном положении) прием. Во всяком случае, его приветствовали криками, возгласами "Виват!"; женщины делили между собой кардинала, а мужчины кричали: "Да здравствует Калиостро!".
При таких бурных овациях экипажу потребовалось целых полчаса, чтобы миновать мост Менял. Жанна следила глазами за этим триумфом вплоть до его кульминационной точки. Ни одна подробность не ускользнула от нее. На минуту ее обрадовало это выражение народного восторга по отношению к "жертвам королевы", как звал их народ.
Но вслед за тем у нее мелькнула мысль: "Как, они уже свободны, для них уже окончены все формальности, а я еще ничего не знаю?! Почему же мне ничего не говорят?"
Дрожь пробежала у нее по телу.
Рядом с собой она заметила г-жу Юбер, молча и внимательно следившую за тем, что происходило; она, очевидно, все понимала, но не хотела ничего объяснить.
Жанна собиралась получить необходимое теперь объяснение, но шум снова привлек ее внимание к мосту Менял.
Теперь на мост медленно въезжал фиакр, окруженный людьми.
В фиакре Жанна увидела улыбавшуюся и показывающую народу своего ребенка Олива, которая также уезжала, свободная и до безумия довольная немного вольными шутками и поцелуями, что посылали из толпы свежей и привлекательной женщине. Это был фимиам толпы, правда грубый, но более чем удовлетворяющий Олива. Это были последние остатки великолепного пира, устроенного кардиналу.
На середине моста ожидала почтовая карета. В ней сидел г-н Босир, прячась за одного из своих друзей, который не боялся показываться народу. Он сделал знак Олива, и та вышла из своего экипажа среди криков, едва не превратившихся вскоре в улюлюканье. Но что значит улюлюканье для тех актеров, которым грозили град пущенных в них предметов и изгнание из театра!
Сев в почтовую карету, Олива упала в объятия Босира, который чуть не задушил ее и не отпускал, осыпая поцелуями, до самого Сен-Дени, где переменили лошадей без всякой помехи со стороны полиции.
Между тем Жанна, видя, что все эти люди свободны, счастливы, что их приветствует толпа, спрашивала себя, отчего она одна не получает никаких известий.
– А я? – воскликнула она. – Из какой утонченной жестокости не объявляют мне моего приговора?
– Успокойтесь, сударыня, – произнес, входя, Юбер, – успокойтесь.
– Не может быть, чтобы вы ничего не знали! – возразила Жанна. – Вы знаете! Вы знаете! Скажите же мне!
– Сударыня…
– Не будьте бесчеловечны, скажите мне; вы видите, как я страдаю.
– Нам, сударыня, младшим служащим тюрьмы, запрещено сообщать приговоры, которые читаются секретарями суда.
– Но, значит, он столь ужасен, что вы не смеете сообщить его? – воскликнула Жанна с таким взрывом ярости, что испугала смотрителя, уже предвидевшего возобновление вчерашней сцены.
– Нет, – произнес он, – успокойтесь, успокойтесь.
– Так говорите!
– Будете вы терпеливы и не выдадите меня?
– Обещаю вам, клянусь вам! Говорите!
– Ну, господин кардинал оправдан.
– Это я знаю.
– Господин де Калиостро объявлен непричастным к делу.
– Знаю! Знаю!
– Мадемуазель Олива объявлена невиновной.
– Дальше… Дальше?..
– Господин Рето де Билет приговорен…
Жанна содрогнулась.
– …к галерам!..
– А я? А я? – вскричала она в бешенстве, топнув ногой.
– Терпение, сударыня, терпение. Разве вы это мне не обещали?
– Я терпелива; послушайте, говорите же… Я?..
– К высылке из Франции, – слабым голосом проговорил смотритель, отводя в сторону глаза.
Искра радости блеснула в глазах графини, погаснув так же быстро, как и появилась.
Громко вскрикнув, она притворно лишилась чувств и упала на руки хозяев.
– Что бы вышло, – сказал Юбер на ухо своей жене, – если бы я сказал ей правду?
"Изгнание, – подумала между тем Жанна, искусно изображая нервный припадок, – это свобода, это богатство, это мщение, это то, о чем я мечтала… Я выиграла!"
XLКАЗНЬ
Жанна все еще ждала, чтобы секретарь суда пришел прочесть ей приговор, как обещал смотритель.
Избавившись от страшных сомнений и мучаясь только при сравнении своей участи с участью других обвиняемых, Жанна утешала себя как могла.
"Что мне за дело, при моем здравом взгляде на жизнь, до того, что господин де Роган был признан менее виновным, чем я?
Разве тяжесть обвинения в проступке падает на меня? Нет, если бы я полностью и надлежащим образом была всеми признана представительницей дома Валуа и если б ради меня, как ради кардинала, на пути судей выстраивалась целая шеренга принцев и герцогов, умоляющих о пощаде всем своим видом, крепом на шпагах и плерезами на платье, то не думаю, чтобы отказали в чем-либо бедной графине де Ламотт и уж наверное, предвидя мольбу всех знатных особ, наследницу имени Валуа избавили от позора скамьи подсудимых!
Но к чему заниматься этим прошлым, уже похороненным? Итак, это великое дело всей моей жизни окончено. Положение мое в свете было двусмысленным, положение при дворе – также; я всегда жила с опасением, как бы малейшее дуновение сверху не низвергло меня; я прозябала и, быть может, должна была бы вернуться к прежней нищете, которая послужила для меня первым и тяжелым жизненным уроком. Теперь же мне не грозит ничего подобного. Высылка! Меня высылают! Это значит, что я имею право в своей шкатулке увезти с собою свой миллион, жить зимою в тени апельсиновых деревьев, в Севилье или Агридженто, а летом в Германии или Англии. Это значит, что ничто не помешает мне, молодой, красивой и известной, имея возможность объяснить свой процесс так, как я найду более выгодным, устроить себе жизнь, как я захочу, либо с мужем, если он будет выслан, как я (а я знаю, что он на свободе), либо с друзьями, которых можно всегда иметь во множестве, когда человек молод и счастлив!
И пусть тогда скажут мне, осужденной, сосланной, несчастной, униженной – продолжала Жанна, отдавшись своим пылким мечтаниям, – что я не богаче королевы, не пользуюсь большим почтением, не признана более невиновной, чем она! Ведь для нее-то вопрос заключался не в моем осуждении. Что значит дождевой червь для льва? Нужно было осудить господина де Рогана, а господин де Роган объявлен невиновным!
Но каким образом будет мне объявлен приговор? И как обставят мою высылку из королевства? Будут ли мстить женщине, применив к ней закон во всей его строгости? Поручат ли полицейской страже доставить меня до границы? Скажут ли мне торжественно: "Недостойная! Король изгоняет вас из своего королевства"? Нет, мои повелители добродушны, – подумала она, улыбаясь, – и не питают более гнева против меня. Они таили его только против доброго парижского народа, который вопит под их балконами: "Да здравствует господин кардинал! Да здравствует Калиостро! Да здравствует парламент!" Вот их настоящий недруг – народ. О да, это их прямой враг; вот я и рассчитывала на нравственную поддержку общественного мнения… И сумела ее получить!"
Вот каковы были мысли Жанны, которая уже начала готовиться к отъезду и улаживать свои дела. Она уже обдумывала, как поместить свои бриллианты и как самой устроиться в Лондоне (дело было летом); но в эту минуту не в сердце, а в уме ее мелькнуло воспоминание о Рето де Билете.
"Бедный малый! – подумала она со злой усмешкой. – Он заплатил за всех! Значит, всегда для такой расплаты служит подлая душа, низкая в философском смысле, и в нужную минуту всегда является, как из-под земли, козел отпущения, которого ждет карающая десница.
Бедный Рето! Болезненный, жалкий, он теперь расплачивается за свои памфлеты против королевы, за свои чернильные заговоры; Богу, который назначает каждому его долю на этом свете, угодно было определить ему жизнь, созданную из палочных ударов, изредка из луидоров, из засад и тайных убежищ и завершившуюся галерами. Вот что значит хитрость вместо ума, лукавство вместо злости, задиристость без настойчивости и силы. Как много есть в мире зловредных существ, от ядовитого клеща до скорпиона – самого маленького из тех созданий, что внушают человеку страх! Все эти слабые существа имеют желание вредить, но их не удостаивают борьбы: их просто давят".
Такую-то тризну свершила Жанна по своему сообщнику Рето. Она твердо решила справиться, в какой местности будет несчастный отбывать каторгу, чтобы случайно не заехать туда и не доставить таким образом злополучному малому лишнего унижения видом благополучия его прежней знакомой. У Жанны было доброе сердце.
Она весело уселась за обед со смотрителем и его женой; они, наоборот, совсем утратили веселость и даже не старались скрыть замешательства. Жанна приписала такую перемену своему осуждению и сказала им об этом. Они ответили, что для них нет ничего тяжелее, чем вид заключенных после того, как вынесен приговор.
Жанна в глубине души была так счастлива, ей стоило такого труда скрывать свою радость, что ей была бы очень приятна возможность остаться наедине со своими мыслями. Она решила попросить после обеда, чтобы ее отвели обратно в камеру.
И очень удивилась, когда за десертом смотритель проговорил с торжественностью, которая не была ему обыкновенно присуща:
– Сударыня, у нас есть приказ не оставлять в этом помещении заключенных, участь которых решена парламентом.
"Прекрасно, – сказала себе Жанна, – он предупреждает мои желания".
Она встала.
– Я бы не желала, – ответила она, – чтобы вы из-за меня нарушали правила; это было бы плохою благодарностью за всю вашу доброту ко мне… Я вернусь в свою камеру.
Она посмотрела, какое впечатление произвели ее слова. Юбер вертел какой-то ключ между пальцами. Его жена отвернулась, как бы желая скрыть волнение.
– Но, – добавила графиня, – где же будут читать мне приговор и когда?
– Быть может, ждут, чтобы вы вернулись к себе, – поспешно сказал Юбер.
"Решительно, он меня выпроваживает", – подумала Жанна.
Смутное чувство тревоги заставило ее вздрогнуть, но оно рассеялось так же быстро, как и появилось в ее сердце.
Жанна поднялась на три ступеньки, отделявшие комнату смотрителя от коридора, который вел в канцелярию суда.
Видя, что она уходит, г-жа Юбер стремительно подошла к ней и взяла ее руки в свои, но не почтительно и не дружески, не с той деликатностью, которая равно делает честь и тому, от кого она исходит, и тому, к кому обращена, а с глубоким состраданием, с порывом такой сердечной жалости, что это не ускользнуло от умной графини, всегда все замечавшей.
На этот раз полученное ею впечатление было вполне определенно, и Жанна должна была сознаться, что чувствует страх; но страх этот, как раньше беспокойство, был вытеснен из ее сердца, преисполненного надеждой и радостью.
Тем не менее Жанна хотела попросить у г-жи Юбер объяснения по поводу высказанной ею жалости; она снова сошла с двух ступеней и уже открыла рот, чтобы задать жене смотрителя точный и энергичный, как самый характер Жанны, вопрос, но не успела; Юбер, быстро и не особенно вежливо взяв ее за руку, открыл дверь.
Графиня очутилась в коридоре. Там ждали восемь судебных приставов. "Чего они ожидают?" – спросила себя Жанна при виде их. Но дверь смотрителя уже закрылась. Перед приставами стоял один из обычных тюремщиков, тот самый, который по вечерам отводил графиню в ее камеру.
Этот человек пошел впереди, как бы указывая ей дорогу.
– Я иду к себе? – спросила графиня тоном человека, желающего казаться уверенным в своих словах, но на самом деле сомневающегося.
– Да, сударыня, – ответил тюремщик.
Жанна, придерживаясь за железные перила, стала подниматься за ним по лестнице. Она слышала, что стражники перешептывались, но не двинулись с места.
Это ее успокоило. Она позволила запереть себя в камере и даже ласково поблагодарила уходившего тюремщика.
Едва только Жанна осталась наедине с собой и свободной от посторонних глаз, она дала полную волю своей безумной радости, которую лицемерная узница так долго под маской прятала от смотрителя. Эта камера в Консьержери была ее клеткой, клеткой дикого зверя, ненадолго посаженного людьми на цепь; теперь по прихоти Бога ему снова предстоит увидеть свободу и простор.
Когда наступает ночь, когда ни малейший шум не напоминает пленному зверю о бдительности его сторожей, когда своим тонким чутьем он не ощущает поблизости ничьего следа, – тогда, в этой берлоге, или клетке, просыпается во всей необузданности его дикая натура. Тогда он расправляет свои члены, чтобы придать им гибкость, подготовить их к быстрым движениям, к ожидаемой свободе; тогда рождаются у него крики, прыжки, исступленные порывы, которые никогда не может подсмотреть глаз человека.
Так было и с Жанной. Внезапно она услышала шаги в своем коридоре; она услышала звяканье ключей на связке тюремщика; она услышала скрип массивного замка.
"Чего от меня хотят?" – подумала она, настороженно и безмолвно приподнявшись. Вошел тюремщик.
– Что такое, Жан? – спросила Жанна кротким и равнодушным голосом.
– Извольте следовать за мною, сударыня. – сказал он.
– Куда?
– Вниз, сударыня.
– Как вниз?
– В канцелярию.
– Для чего, скажите, пожалуйста?
– Сударыня…
Жанна подошла к нему ближе, заметив его нерешительность, и увидела в конце коридора тех же стражников, которых уже повстречала внизу.
– Но, – взволнованно воскликнула она, – скажите же мне, чего хотят от меня в канцелярии?
– Сударыня, господин Дуайо, ваш защитник, хочет говорить с вами.
– В канцелярии? Отчего же не здесь, когда ему много раз разрешалось приходить сюда?
– Сударыня, дело в том, что господин Дуайо получил письма из Версаля и хочет сообщить вам их содержание.
Жанна не обратила внимания на нелогичность этого ответа. Одно слово поразило ее: письма из Версаля, без сомнения, от двора, привезенные самим защитником.
"Неужели королева заступилась за меня перед королем после обнародования приговора? Неужели…"
Но к чему строить предположения, есть ли для этого время и нужно ли это, если через две минуты можно будет узнать, как решился вопрос?
К тому же тюремщик настаивал; он позвякивал ключами с видом человека, который за неимением доводов ссылается на приказ.
– Подождите немного, – сказала Жанна, – вы видите, что я уже разделась, чтобы немного отдохнуть; меня так утомили эти последние дни.
– Я подожду, сударыня; но, прошу вас, не забывайте, что господин Дуайо торопится.
Жанна затворила дверь, надела платье посвежее, взяла накидку и наскоро причесала волосы. На эти приготовления она потратила едва ли пять минут. Сердце подсказывало ей, что господин Дуайо доставил приказ, чтобы она уезжала немедленно, и указание, как незаметно проехать по Франции с соблюдением при этом всех удобств. Да, должно быть, королева позаботилась о том, чтобы ее враг был удален возможно скорее. Теперь, когда приговор уже вынесен, королева должна была приложить все усилия к тому, чтобы возможно меньше раздражать этого врага, потому что если пантера опасна, находясь на цепи, то чего можно ожидать от нее, когда она на свободе? Убаюкиваемая этими радужными мыслями, Жанна не шла, а летела за тюремщиком по маленькой лестнице, по которой ее раньше водили в зал заседаний. Но, вместо того чтобы дойти до этого зала и повернуть влево к канцелярии, тюремщик повернул направо к маленькой двери.
– Куда же вы идете? – спросила Жанна. – Ведь канцелярия здесь.
– Идемте, идемте, сударыня, – медовым голосом сказал тюремщик, – вас здесь ждет господин Дуайо.
Он вошел первый и втянул за собой заключенную, до слуха которой долетел звук задвинутого снаружи засова тяжелой двери.
Удивленная Жанна, ничего не различая в темноте, не смела более расспрашивать своего сторожа.
Она сделала два-три шага и остановилась. Бледный голубоватый свет придавал комнате, в которой она находилась, сходство с внутренностью склепа.
Свет проходил сверху, сквозь старинную решетку, всю в паутине и покрытую слоем вековой пыли, поэтому стены едва освещались несколькими бледными лучами дневного света.
Жанна внезапно почувствовала холод, ее охватила пронизывающая сырость этой темницы; вместе с тем она читала что-то ужасное в горящих глазах тюремщика.
Между тем она видела еще пока только этого человека; он один в эту минуту занимал вместе с заключенной пространство между четырьмя стенами, которые позеленели от воды, просачивающейся сквозь оконные рамы, и были покрыты плесенью от воздуха, никогда не согревавшегося солнцем.
– Сударь, – сказала Жанна, подавляя невольное чувство страха, заставлявшее ее вздрагивать, – что мы тут оба делаем? Где господин Дуайо, которого, по вашим словам, я должна была видеть?
Тюремщик ничего не ответил; он обернулся, точно желая убедиться, хорошо ли заперта дверь, через которую они вошли.
Жанна с ужасом следила за его движениями, подумав, что ей, подобно героиням черных романов того времени, приходится иметь дело с одним из тех тюремщиков, которые по-дикарски влюбляются в своих пленниц и в ту минуту, когда добыча должна ускользнуть от них через открытую дверь клетки, становятся тиранами прекрасной узницы и предлагают ей свою любовь в обмен на свободу.
Жанна была сильна, не боялась неожиданностей и вовсе не обладала душевным целомудрием. Ее воображение успешно справлялось с причудливыми софизмами господ Кребийона-сына и Луве. Она подошла вплотную к тюремщику, глаза ее смеялись.
– Друг мой, – спросила она, – чего вы от меня хотите? Вам надо что-нибудь сказать мне? Время дорого для заключенной, когда она близка к свободе. Вы выбрали, по-видимому, очень мрачное место, чтобы говорить со мною?
Человек с ключами ничего ей не ответил, потому что не понимал ее слов. Он сел у низкого очага и стал ждать.
– Но, – сказала Жанна, – что мы тут делаем, спрашиваю вас еще раз?
Она испугалась, не с сумасшедшим ли ей приходится иметь дело.
– Мы ждем метра Дуайо, – ответил тюремщик.
Жанна покачала головой.
– Сознайтесь, – сказала она, – что метр Дуайо, если он намерен сообщить мне содержание писем из Версаля, выбрал плохое время и место для беседы… Не может быть, чтобы метр Дуайо заставил меня ждать здесь. Тут что-то другое.
Она еще не договорила, как прямо перед ней открылась не замеченная ею раньше дверь.
Это была одна из тех округленных, похожих на крышку люка дверей, монументальных сооружений из дерева и железа, которые, открываясь, очерчивают в скрываемой ими глубине нечто вроде кабалистического круга, в центре которого люди или пейзаж живут как бы благодаря волшебству.
И в самом деле, за этой дверью были ступени, уходившие в какой-то коридор, плохо освещенный, но полный воздуха и прохлады; а за этим коридором на одно мгновение, краткое, как вспышка молнии, Жанна, поднявшись на цыпочки, увидела пространство, похожее на площадь, и на нем толпу мужчин и женщин.
Но, повторяем, это видение мелькнуло перед Жанной на краткий миг; она даже не успела дать себе отчета в увиденном.
Гораздо ближе к ней, чем была эта площадь, появилось трое людей, поднимавшихся на последнюю ступеньку.
За этими людьми, наверно, на нижних ступеньках, виднелись четыре штыка, отточенных и светлых, точно четыре грозные свечи, предназначавшиеся для освещения этой картины.
Но тут круглая дверь снова закрылась. Только эти трое людей вошли в камеру, где находилась Жанна.
Она переходила от изумления к изумлению, или, вернее, от тревоги к ужасу.
Надеясь найти защиту от этих неизвестных людей, она подошла к тюремщику, которого за минуту до этого боялась.
Тюремщик тесно прижался к стене камеры, показывая этим движением, что хочет и должен оставаться безучастным зрителем того, что должно произойти.
Жанну окликнули раньше, чем у нее явилась мысль произнести хоть слово.
Первым заговорил самый молодой из мужчин. Он был одет во все черное; на голове его была шляпа, в руке он держал бумагу, свернутую в виде древнего скитала.
Остальные двое неизвестных, следуя примеру тюремщика, прятались от взоров в самой темной части камеры.
– Сударыня, – сказал неизвестный, – вы Жанна де Сен-Реми де Валуа, супруга Мари Антуана Никола, графа де Ламотт?
– Да, сударь, – отвечала Жанна.
– Вы родились в Фонтете, двадцать второго июля тысяча семьсот пятьдесят шестого года?
– Да, сударь.
– Вы живете в Париже на улице Сен-Клод?
– Да, сударь… Но для чего вы предлагаете мне эти вопросы?
– Весьма сожалею, сударыня, что вы меня не узнаёте… Я имею честь быть секретарем суда.
– Я вас узнаю.
– В таком случае, сударыня, я могу исполнить свои обязанности в качестве должностного лица, каковым вы признали меня?
– Одну минуту, сударь. Скажите, пожалуйста, чего требуют в данном случае от вас ваши служебные обязанности?
– Чтобы я ознакомил вас, сударыня, с приговором, вынесенным вам на заседании тридцать первого мая тысяча семьсот восемьдесят шестого года.
Жанна вздрогнула и обвела всех тревожным и недоверчивым взглядом. Мы намеренно ставим на втором месте слово "недоверчивым", так как во взоре Жанны было меньше недоверия, чем ужаса. Жанна содрогнулась от безотчетной тревоги; ее горящие глаза настороженно всматривались в сумрак камеры.
– Вы секретарь Бретон, – сказала она, – но кто эти два господина, сопровождающие вас?
Секретарь хотел ответить, но тюремщик, не дав ему заговорить, бросился к нему и шепнул на ухо слова, дышавшие испугом и красноречивым состраданием:
– Не говорите ей!
Жанна услышала; она внимательнее, чем прежде, посмотрела на двух незнакомцев. Ее удивило серое, стального цвета с железными пуговицами платье одного, куртка и меховая шапка другого. Особенное внимание Жанны привлек странный фартук, закрывавший грудь этого последнего. Фартук казался прожженным в нескольких местах, кое-где на нем виднелись кровяные и масляные пятна.
Она попятилась. Можно было подумать, что она сжимается в комок перед мощным прыжком.
Секретарь приблизился к ней.
– Станьте на колени, сударыня, прошу вас, – сказал он.
– На колени? – воскликнула Жанна. – На колени, я… Я, наследница имени Валуа, стану на колени?!
– Таков приказ, сударыня, – с поклоном сказал секретарь.
– Но, сударь, – возразила Жанна со злобной улыбкой, – вы говорите не подумав; мне приходится учить вас законам. На колени становятся только при публичном покаянии.
– Так что же, сударыня?
– А то, сударь, что публичное покаяние приносят только по приговору, присуждающему к позорному наказанию. Насколько я знаю, изгнание по французским законам не считается позорным наказанием.
– Я не говорил вам, сударыня, что вы приговорены к изгнанию, – печально и серьезно сказал секретарь.
– Но, в таком случае, – порывисто воскликнула Жанна, – к чему же я приговорена?
– Вы это узнаете, сударыня, выслушав приговор, а чтобы выслушать его, начните, пожалуйста, с того, что станьте на колени.
– Никогда! Никогда!..
– Сударыня, таков первый пункт данных мне предписаний.
– Никогда! Никогда, говорю вам!
– Сударыня, имеется предписание, что, если осужденная откажется стать на колени…
– То?..
– То ее принудят к тому силою.
– Сила! Против женщины!
– Женщина, так же как и мужчина, не должна преступать почтение, которое подобает оказывать королю и правосудию.
– И королеве! Не правда ли? – яростно крикнула Жанна. – Потому что я узнаю в этом руку враждебной женщины.
– Вы напрасно обвиняете королеву, сударыня… Ее величество совершенно непричастна к составлению судебных приговоров. Полно, сударыня, заклинаю, избавьте нас от необходимости прибегать к силе… На колени!
– Никогда! Никогда! Никогда!
Секретарь свернул трубкой бумагу, что была у него в руке, и вынул из своего большого кармана другую, весьма объемистую бумагу, которую держал в запасе, предвидя то, что происходило.
Он прочел составленный по всей форме приказ генерального прокурора представителям власти принудить непокорную осужденную стать на колени, дабы она покорилась правосудию.








