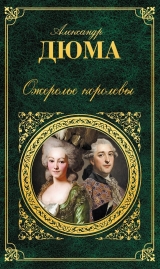
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 61 страниц)
АЛИБИ
Господин де Шарни вошел, немного бледный, но держась прямо и без видимых физических страданий.
При виде такого высокого общества он принял почтительную и церемонную осанку светского человека и солдата.
– Берегитесь, сестра моя, – тихо сказал граф д’Артуа королеве, – вы, на мой взгляд, допрашиваете слишком многих.
– Брат мой, я буду допрашивать весь свет, пока мне не удастся встретить человека, который сказал бы мне, что вы ошиблись.
Шарни между тем заметил Филиппа и любезно поклонился ему.
– Вы свой собственный палач, – тихо сказал Филипп своему противнику. – Выходить, будучи раненным! Вам, право, хочется умереть.
– Оцарапавшись о куст в Булонском лесу, не умирают, – отвечал Шарни, счастливый, что может отплатить своему врагу моральным уколом, который больнее, чем удар шпаги.
Королева приблизилась к ним и положила конец этому разговору, который был скорее репликами a parte[8]8
В сторону (итал.).
[Закрыть], чем диалогом.
– Господин де Шарни, обратилась она к нему, – эти господа говорят, что вы были на балу в Опере?
– Да, ваше величество, – отвечал, поклонившись, Шарни.
– Скажите нам, что вы там видели?
– Ваше величество спрашивает, что я там видел или кого видел?
– Вот именно… кого вы видели? И без умолчаний, господин де Шарни, без учтивых недомолвок.
– Я должен все говорить, ваше величество?
Щеки королевы снова покрылись бледностью, уже десять раз сменившей за этот день лихорадочный румянец на ее лице.
– Я начну, следуя иерархии, как мне повелевает долг почтительности, – продолжал Шарни.
– Хорошо. Вы видели меня?
– Да, ваше величество, в ту минуту, как маска по какой-то несчастной случайности упала с вашего лица.
Мария Антуанетта нервно смяла в руках кружево шейного платка.
– Сударь, – сказала она голосом, в котором более тонкий наблюдатель подметил бы готовое вырваться рыдание, – поглядите на меня хорошенько: уверены ли вы в этом?
– Государыня, черты вашего величества запечатлены в сердцах всех ваших подданных. Увидеть ваше величество один раз – значит запомнить вас навсегда.
Филипп взглянул на Андре – Андре устремила свой глубокий взгляд на Филиппа. Эти две муки, эти две ревности заключили горестный союз.
– Сударь, – повторила королева, подходя к Шарни, – уверяю вас, что я не была на балу в Опере.
– О ваше величество, – воскликнул молодой человек, склоняясь почти до земли, – разве вы не имеете права бывать где вам угодно? Хотя бы спуститься в ад: раз нога вашего величества ступит туда, она освятит это место.
– Я не прошу вас оправдывать мой поступок, – отвечала королева, – я прошу вас поверить, что я не совершала его.
– Я поверю всему, чему ваше величество прикажет мне верить, – произнес Шарни, взволнованный до глубины души этой настойчивостью королевы, этим нежным смирением такой гордой женщины.
– Сестра моя, сестра моя, это уж слишком, – шепнул граф д’Артуа на ухо Марии Антуанетте.
Действительно, эта сцена привела в оцепенение всех присутствующих: одних потому, что они терзались любовью или оскорбленным самолюбием, а других потому, что вызывала волнение, всегда возбуждаемое видом обвиненной женщины, мужественно защищающейся от неопровержимых доказательств.
– Все этому верят! Все верят! – в гневном исступлении вскричала королева.
Сраженная, она упала в кресло, незаметно смахнув кончиком пальца слезу, которую ее гордость удержала на краешке века. И тут же резко поднялась.
– Сестра моя, – нежно сказал ей граф д’Артуа, – сестра моя, простите меня. Вы окружены преданными друзьями. Это секрет, который безмерно страшит вас, известен нам одним, и из наших сердец, где он погребен, вырвать его можно будет только вместе с нашей жизнью.
– Секрет! Секрет! – воскликнула королева. – Но я не хочу его!
– Сестра моя!
– Никаких секретов. Доказательства!
– Ваше величество, – сказала Андре, – сюда идут.
– Ваше величество, – с трудом выговорил Филипп, – это король.
– Король! – возгласил в передней придверник.
– Король! Тем лучше. Король – мой единственный друг, и он не счел бы меня виноватой, даже если бы ему казалось, что он видел меня на месте преступления. Добро пожаловать!
Король вошел. Его спокойный вид представлял резкий контраст с расстроенными и взволнованными лицами тех, кто окружал королеву.
– Государь! – воскликнула она. – Вы пришли как нельзя более кстати: на меня возводят новую клевету, новое оскорбление, которое должно быть опровергнуто.
– В чем дело? – спросил, подходя, Людовик XVI.
– Слух, сударь, гнусный слух, который может распространиться. Помогите мне; помогите мне, государь, так как на этот раз меня обвиняют уже не враги, а мои друзья.
– Ваши друзья?
– Вот эти господа: мой брат… извините, граф д’Артуа, господин де Таверне, господин де Шарни уверяют, что видели меня на балу в Опере.
– На балу в Опере! – воскликнул король, нахмурясь.
– Да, государь.
В комнате воцарилось тяжелое молчание.
Госпожа де Ламотт заметила мрачную озабоченность короля. Она видела смертельную бледность королевы; одним словом, одним-единственным словом она могла положить конец этой скорбной муке; она могла одним словом уничтожить все прежние обвинения и спасти королеву от будущих тревог.
Но сердце не подсказало ей этого, а личная выгода удержала ее. Она сказала себе, что все равно теперь поздно, так как она уже раз солгала в истории с чаном Месмера; отказавшись же теперь от своих слов, дав возможность уличить себя во лжи и показав королеве, что она ничего не сделала для того, чтобы снять с нее первое обвинение, новая фаворитка сразу погубит себя, в зародыше убьет выгоду своего будущего положения… Она смолчала.
Король повторил голосом, полным тревоги:
– На балу в Опере? Кто говорил об этом? Графу Прованскому это известно?
– Но это неправда! – воскликнула королева искренним тоном невиновного человека, доведенного до отчаяния. – Это неправда; граф д’Артуа ошибается, господин де Таверне ошибается. Вы ошибаетесь, господин де Шарни. Ведь ошибка возможна.
Все молча поклонились.
– Ну, – воскликнула королева, – пусть позовут моих людей, всех! Пусть их допросят. Этот бал был в субботу, не так ли?
– Да, сестра моя.
– Что я делала в субботу? Пусть мне это скажут, потому что, право, я схожу с ума, и если это будет так продолжаться, то я сама поверю, что была на этом гадком балу в Опере… Ведь если бы я действительно была на нем, господа, я бы сказала это.
Вдруг король подошел к ней с полными радости глазами, улыбаясь и простирая руки.
– Это было в субботу, – спросил он, – в субботу, не так ли, господа?
– Да, государь.
– В таком случае, – продолжал король, все более успокаиваясь и сияя все большей радостью, – об этом надо спросить ни у кого другого, как у нашей горничной Мари. Может быть, она вспомнит, в котором часу я вошел к вам в тот день; кажется, это было около одиннадцати часов вечера.
– Ах! – воскликнула королева вне себя от радости. – Да, это правда, государь.
Она бросилась в его объятия; потом, внезапно покраснев и сконфузившись от сознания, что все взоры устремлены на нее, спрятала свое лицо на груди короля, который нежно поцеловал ее чудесные волосы.
– Ну, – воскликнул граф д’Артуа, совершенно растерявшись от изумления и радости, – я куплю себе очки. Но видит Бог, я даже за миллион не уступил бы права быть очевидцем этой сцены; не правда ли, господа?
Филипп прислонился к стене, бледный как смерть. Шарни, холодный и бесстрастный, отер со лба пот.
– Вот поэтому-то, господа, – сказал король, счастливый оттого, что может подчеркнуть произведенное его словами впечатление, – вот поэтому-то королева никоим образом не могла быть в эту ночь на балу в Опере. Думайте, впрочем, как вам угодно; королеве, я уверен, достаточно того, что ей верю я.
– Пусть граф Прованский думает, что хочет, – сказал граф д’Артуа, – но я могу ручаться, что его жена не сможет доказать таким же образом его алиби в тот день, когда его будут обвинять, что он провел ночь вне дома.
– Брат мой!
– Государь, целую ваши руки.
– Шарль, я иду с вами, – сказал король, поцеловав королеву.
Филипп не тронулся с места.
– Господин де Таверне, – сурово сказала ему королева, – разве вы не сопровождаете графа д’Артуа?
Филипп быстро выпрямился. Вся кровь бросилась ему в виски и прилила к глазам. Он чуть не лишился чувств. Он едва имел силу поклониться, взглянуть на Андре, бросить страшный взгляд на Шарни и сдержаться, чтобы его лицо не выдало безумного страдания.
Он вышел.
Королева оставила возле себя Андре и г-на де Шарни.
Мы не могли до сих пор описать состояния Андре, поставленной между братом и королевой, между дружбой и ревностью, потому, что нам тогда пришлось бы замедлить ход этой драматической сцены, которую король своим появлением привел к счастливому концу.
Однако ничто не заслуживало нашего внимания больше, чем эти страдания молодой девушки: она чувствовала, что Филипп отдал бы жизнь, чтобы помешать королеве остаться вдвоем с Шарни, и признавалась сама себе, что ее сердце разбилось бы, если, последовав за Филиппом, чтобы утешить его, как она должна была бы сделать, ей пришлось бы оставить Шарни свободно общаться с г-жой де Ламотт и королевой, то есть еще более свободно, чем если бы он оставался с королевой наедине. Она угадывала это по скромному и вместе с тем фамильярному виду Жанны.
Как объяснить себе ее чувства?
Была ли это любовь? "О, любовь, – сказала бы себе Андре, – не зарождается, не растет с такой быстротой в холодной атмосфере придворных чувств. Любовь, этот редкий цветок, охотнее распускается в великодушных, чистых, нетронутых сердцах. Он не пускает корней в сердце, оскверненном воспоминаниями, на почве, обледеневшей от слез, годами скоплявшихся в ней". Нет, то, что мадемуазель де Таверне чувствовала к г-ну де Шарни, была не любовь. Она усиленно прогоняла такую мысль, так как поклялась себе, что никогда никого не полюбит на этом свете.
Но тогда почему же она так страдала, когда Шарни сказал королеве несколько почтительных и дышавших преданностью слов? Несомненно, этому виной была ревность.
Да, Андре признавалась себе, что она ревнует и завидует, но не той любви, которую мужчина мог чувствовать к другой женщине, а не к ней; завидует женщине, которая могла внушить, принять и позволить эту любовь.
Она с грустью видела, как сменялись перед ней все прекрасные влюбленные нового двора – эти мужественные, полные страсти люди, которые совершенно не понимали ее и удалялись, воздав ей дань почтительного поклонения: одни потому, что ее холодность не была придуманной, не была порождением некой философии, другие потому, что эта холодность представляла странный контраст с той легкомысленной атмосферой прошлого, из которой, казалось бы, возникла Андре.
И, кроме того, мужчины, ищут ли они только наслаждений или мечтают о любви, остерегаются холодности двадцатипятилетней женщины, которая красива, богата, любима королевой и между тем, застывшая, молчаливая и бледная, совершает в уединении свой путь по той дороге, где высшую радость и высшее счастье доставляет возможность наделать как можно больше шуму.
В том, чтобы быть живой загадкой, нет ничего привлекательного. Андре отлично это заметила: она видела, как глаза людей мало-помалу перестали обращать внимание на ее красоту, а их умы начинали не доверять ее уму или отрицать его. Она увидела даже нечто большее: это отчуждение вошло в привычку у прежних знакомых и сделалось инстинктивным у новых. Подойти и заговорить с мадемуазель де Таверне считалось теперь так же необычным, как подойти в версальском парке к Латоне или Диане, окруженным холодным поясом черной воды. Поклонившись мадемуазель де Таверне, каждый, сделав пируэт, шел улыбаться другой женщине, считая, что исполнил свой долг.
Все эти оттенки не ускользали от зорких глаз молодой девушки. Она, чье сердце испытало все горести, не узнав ни одной радости; она, чувствующая, что годы идут, ведя за собой череду бесцветной скуки и черных воспоминаний, про себя чаще взывала к тому, кто карает, чем к тому, кто прощает, и в мучительной бессоннице, рисуя себе наслаждения, щедро предоставляемые счастливым любовникам Версаля, вздыхала со смертельной горечью:
– А я! Боже мой! А я!
Когда она встретилась с Шарни в тот морозный вечер, она увидела, что глаза молодого человека с любопытством останавливались на ней, мало-помалу окутывая ее сетью симпатии, столь непохожей на странную сдержанность, которую проявляли по отношению к ней все придворные. Для этого мужчины она была женщиной. Он разбудил в ней молодость, оживил умершее, вызвал румянец на мраморе Дианы и Латоны.
Вот почему мадемуазель де Таверне сразу ощутила привязанность к тому, кто возродил ее, сумел сделать так, что она почувствовала в себе жизненную силу. Вот почему для нее было счастьем смотреть на этого молодого человека, для которого она не была загадкой. Вот почему для нее было несчастьем думать, что другая женщина с минуты на минуту обрубит крылья ее лазурной иллюзии, отнимет у нее мечту, только что вылетевшую из золотых ворот.
Надеемся, нам простят это долгое объяснение причины, по которой Андре не покинула вслед за Филиппом кабинет королевы, хотя она страдала от нанесенного ему оскорбления, хотя брат был для нее идолом, предметом религиозного почитания, чуть ли не обожания.
Мадемуазель де Таверне, не хотевшая, чтобы королева осталась наедине с Шарни, не намеревалась участвовать в разговоре после удаления брата.
Она села у камина, почти спиной к группе, которую составляли сидящая королева, склонившийся в полупоклоне Шарни и г-жа де Ламотт, стоявшая в амбразуре окна, где искала убежище ее притворная скромность, а вернее – искало удобный наблюдательный пункт ее любопытство.
Королева несколько минут молчала: она не знала, как возобновить разговор после только что происшедшего весьма деликатного объяснения.
У Шарни был страдальческий вид, и это, пожалуй, нравилось королеве.
Наконец Мария Антуанетта прервала молчание, отвечая одновременно на собственную мысль и на мысли присутствующих.
– Вот доказательство, – внезапно сказала она, – что у нас немало врагов. Кто бы мог подумать, что такие низости могут иметь место при французском дворе, сударь! Кто бы мог это подумать!
Шарни не ответил.
– Какое счастье, – продолжала королева, – жить на ваших кораблях под открытым небом, в открытом море! Нам, горожанам, рассказывают про гнев и ярость волн. Ах, сударь, сударь, взгляните на себя! Разве волны океана, самые неистовые волны не бросали в вас пену своего гнева? Разве их грозный натиск никогда не сбивал вас с ног на мостике судна? А между тем посмотрите на себя: вы здоровы, молоды, осыпаны почестями.
– Ваше величество!
– Разве англичане, – продолжала, постепенно воодушевляясь, королева, – не посылали на вас в неистовстве огонь и картечь, опасные для жизни; не так ли? Но что вам до того? Вы невредимы, вы сильны; эта ярость врагов, которых вы победили, привела к тому, что вас поздравил и обласкал король, народ знает ваше имя и любит вас.
– Что же из этого, ваше величество? – пробормотал Шарни, с беспокойством следивший за лихорадочным возбуждением Марии Антуанетты.
– Что я хочу этим сказать? – переспросила она. – А вот что: да будут благословенны враги, посылающие против нас огонь, железо, кипящие пеной волны; да будут благословенны враги, грозящие нам только смертью!
– Боже мой, ваше величество, – отвечал Шарни, – для вас не существует врагов, они для вас то же, что змея для орла… Все, что пресмыкается внизу, будучи приковано к земле, не может мешать тем, кто парит в облаках.
– Сударь, – с живостью возразила королева, – вы, я знаю, вышли целым и невредимым из сражений, вышли целым и невредимым из бурь; вы вышли из них победителем, любимым… Те же, чье доброе имя какой-нибудь враг – а враги есть – пачкает слизью своей клеветы, нисколько не рискуют жизнью, это верно, но стареют после каждой бури; они привыкают склонять голову, опасаясь натолкнуться, как пришлось мне сегодня, на двойное оскорбление: со стороны друзей и врагов, сплотившихся для нападения. К тому же, если бы вы знали, сударь, как тяжело, когда тебя ненавидят!
Андре с тревогой ждала ответа молодого человека; она трепетала, ожидая услышать то сердечное утешение, которого, казалось, просила королева.
Но Шарни вместо ответа отер лоб платком и в поисках опоры облокотился о спинку кресла, сильно побледнев.
– Может быть, здесь слишком жарко? – сказала, глядя на него, королева.
Госпожа де Ламотт открыла окно своей маленькой ручкой, дернув задвижку с такой силой, которая была бы впору руке крепкого мужчины. Шарни с наслаждением вдохнул воздух.
– Господин де Шарни привык к морским ветрам; он будет задыхаться в версальских будуарах.
– Нет, ваше величество, – отвечал Шарни, – это вовсе не от того… Но я сегодня дежурный с двух часов, и если только вы не прикажете мне оставаться здесь…
– Нет, нет, сударь, – отвечала королева, – мы знаем, что такое приказ, не правда ли, Андре?
Затем она обернулась к Шарни.
– Вы свободны, сударь, – сказала она ему несколько обиженным тоном.
И жестом отпустила молодого человека.
Шарни торопливо поклонился и исчез за портьерой.
Через несколько секунд в передней послышалось сначала что-то вроде стона, а затем какой-то шум, как будто туда торопливо сбежалось несколько человек.
Королева была около двери – то ли случайно, то ли потому, что ей хотелось проследить взглядом за Шарни, поспешный уход которого показался ей странным.
Она приподняла портьеру, тихо вскрикнула и, казалась, готова была броситься в переднюю.
Но Андре, не терявшая ее из виду, очутилась между ней и дверью.
– О, ваше величество! – сказала она.
Королева устремила на Андре пристальный взгляд, который та твердо выдержала.
Госпожа де Ламотт вытянула шею.
Между королевой и Андре был небольшой просвет, и через него Жанна увидела, что г-н де Шарни лежит без чувств; его приводили в себя слуги и гвардейцы.
Королева, заметив движение г-жи де Ламотт, поспешно закрыла дверь.
Но было слишком поздно: г-жа де Ламотт все видела.
Мария Антуанетта, нахмурясь, задумчиво вернулась и села в кресло; она была погружена в мрачную озабоченность, которая обыкновенно является на смену сильному волнению. Казалось, она забыла о том, что вокруг нее есть Живые существа.
Андре со своей стороны, хотя и осталась стоять у стены, казалась не менее рассеянной, чем королева.
Наступило минутное молчание.
– Это все же странно, – заговорила королева, и звук ее голоса заставил вздрогнуть от неожиданности и удивления Андре и Жанну, – господин де Шарни, мне кажется, еще сомневается…
– В чем, ваше величество? – спросила Андре.
– В том, что я была во дворце в ночь бала.
– О, ваше величество!
– Не правда ли, графиня, – сказала королева, – не правда ли, я права и господин де Шарни все еще сомневается?
– Несмотря на слова короля! О, это невозможно, ваше величество, – продолжала Андре.
– Ведь можно подумать, что король из самолюбия пришел ко мне на выручку. Он не верит, нет, он не верит! Это легко заметить.
Андре закусила губы.
– Мой брат не так недоверчив, как господин де Шарни, – сказала она, – он казался совершенно убежденным.
– О, это было бы дурно, – продолжала королева, не слушая слов Андре. – В таком случае, у этого молодого человека не такая прямая, чистосердечная натура, как мне показалось. Но в конце концов, – воскликнула королева, гневно хлопнув в ладоши, – если он видел, то с чего бы он стал верить? Господин граф д’Артуа тоже видел; господин Филипп тоже видел, во всяком случае так он говорит; все видели, и нужно было слово короля, чтобы они поверили мне, или скорее сделали вид, что поверили. О, за всем этим что-то скрывается, и я должна выяснить, что именно, так как никто не думает об этом. Не правда ли, Андре, я должна поискать и найти причину всего этого?
– Ваше величество правы, – отвечала Андре, – и я уверена, что госпожа де Ламотт одного мнения со мной и также полагает, что ваше величество должны искать, пока не найдете. Не правда ли, сударыня?
Госпожа де Ламотт, захваченная врасплох, вздрогнула и не отвечала.
– Итак, говорят, что меня видели у Месмера, – продолжала королева.
– Ваше величество были там, – поспешно вставила с улыбкой г-жа де Ламотт.
– Пусть так, – отвечала королева, – но я вовсе не делала того, о чем говорится в памфлете. Затем меня видели в Опере, а там я вовсе не была.
Она задумалась, затем вдруг с живостью воскликнула:
– А, я напала на истину!
– Истину? – пробормотала графиня.
– О, тем лучше! – сказала Андре.
– Пусть позовут господина де Крона, – с радостным видом обратилась королева к вошедшей г-же де Мизери.








