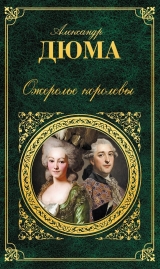
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 53 (всего у книги 61 страниц)
ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ПОТЕРЯНА
Как видим, при том обороте, который Жанна придала делу, узнать истину становилось невозможным.
Неопровержимо уличенная в краже бриллиантов показаниями двух десятков лиц, заслуживающих доверия, Жанна не могла примириться с ролью заурядной воровки. Ей нужен был чей-то позор рядом с ее собственным. Она убеждала себя, что огласка версальского скандала затмит преступление графини де Ламотт, что если даже она будет осуждена, то этот приговор ударит прежде всего по самой королеве.
Однако ее расчет не удался. Согласие королевы на открытое судебное разбирательство этого двойного дела и покорное подчинение кардинала допросам, суду и огласке – все это лишило их противницу того ореола невинности, который она так любовно старалась позолотить своими лицемерными недомолвками.
Но странное дело! Обществу предстояло стать свидетелем судебного дела, в котором никто не должен был оказаться невиновным, даже те, кого оправдает правосудие.
После бесчисленных очных ставок, во время которых кардинал выказывал неизменное спокойствие и учтивость даже по отношению к Жанне, между тем как она выходила из себя и старалась вредить всем, общественное мнение и, главным образом, точка зрения судей оказались непоколебимы.
Всякие неожиданности стали почти невозможны, все разоблачения были исчерпаны. Жанна заметила, что ей не удалось произвести никакого впечатления на судей.
В тиши тюремной камеры она стала рассчитывать, каковы ее силы и надежды.
Все окружавшие г-на де Бретейля или подчиненные ему советовали ей выгораживать королеву и без всякой жалости обвинять кардинала.
Те, кто принадлежал к партии кардинала: его могущественная семья, судьи, пекущиеся об интересах народа, духовенство, имевшее к своим услугам всевозможные средства, – весь этот синклит советовал г-же де Ламотт говорить всю правду, раскрыть все интриги двора и поднять такой шум, от которого коронованные лица почувствовали бы смертельное головокружение.
Эта партия старалась устрашить Жанну; она указывала ей на то, что та слишком хорошо знала сама: большинство судей склоняются на сторону кардинала и она падет в бесплодной борьбе… При этом ей говорили, что для нее, так как она уже и без того наполовину погибла, быть может, лучше было бы дать себя обвинить по делу о бриллиантах, чем поднимать вопрос о виновности в оскорблении величества, будить этот кровавый призрак, таящийся в основе всех феодальных кодексов, так как его, как ил со дна реки, нельзя тревожить в судебных делах, не вызывая вместе с ним и призрак смерти.
Эта партия казалась уверенной в победе и действительно была в ней уверена. Народ был с ней заодно, высказывая восторженную симпатию кардиналу. Мужчины удивлялись его терпению, а женщины – его скромности. Для многих Олива, живой человек, не существовала вовсе, несмотря на ее признания и сходство с королевой; если же и существовала, то ее изобрела сама королева исключительно для этого случая.
Жанна все это обдумывала. Даже ее защитники покидали ее, судьи не скрывали своего отвращения к ней; семья Роганов возводила на нее тяжелые обвинения, и общественное мнение относилось к ней с презрением. Она решила нанести последний удар, чтобы встревожить судей, устрашить друзей кардинала и усилить всеобщую ненависть к Марии Антуанетте.
Она избрала следующее средство: попытаться убедить судей, что она постоянно ограждала честь королевы, но если ее доведут до крайности, то она расскажет все.
Что касается кардинала, то надо было уверить всех, что она хранит молчание, единственно подражая его деликатности; но как только он заговорит, то, сочтя себя также свободной, она заговорит в свою очередь, и они оба разом обнаружат истину и свою невиновность.
Это в сущности, было лишь повторением всей ее системы самозащиты и всего поведения во время следствия. Но ведь известно, что приевшееся блюдо можно выдать за новое с помощью другой приправы. Вот что придумала графиня, чтобы освежить две свои стратагемы.
Она написала королеве письмо, сами выражения которого недвусмысленно говорили о его характере и значении:
"Ваше Величество!
Несмотря на всю тягость и суровость моего положения, у меня не вырвалось не единой жалобы. Все уловки, пущенные в ход с целью вырвать мои признания, лишь укрепили меня в решимости не набросить ни малейшей тени на честь моей королевы.
Тем не менее, при всей своей уверенности, что мое постоянство и скромность дадут мне возможность выйти из затруднительного положения, в котором я оказалась, сознаюсь, что усилия семьи раба (так королева называла кардинала в дни их согласия) вызывают у меня опасение, что я стану ее жертвой.
Долгое заключение, бесконечные очные ставки, отчаяние и стыд видеть себя обвиненной в преступлении, которого я не совершала, ослабили мое мужество: я боюсь, что моя твердость не выдержит стольких ударов одновременно.
Ваше Величество может одним словом положить конец этому злосчастному делу через посредство господина де Бретейля: он умный человек и сумеет в глазах министра (то есть короля) придать всему нужную окраску, то есть на королеву не будет наброшено ни малейшей тени. Лишь боязнь, что меня вынудят открыть все, диктует мне эти строки. Я убеждена, что Ваше Величество примет во внимание причины этого письма и прикажет прекратить мучительное положение, в котором я нахожусь.
Остаюсь с глубоким почтением нижайшей и покорнейшей слугой Вашего Величества графиня де Валуа де Ламотт".
Как видим, Жанна все рассчитала.
Либо это письмо дойдет до королевы и напугает ее тем упорством, которое графиня проявляла после стольких неудач, и королева, должно быть утомленная борьбой, решится покончить дело, освободив Жанну, так как тюремное заключение и процесс ни к чему не привели.
Либо, что гораздо вероятнее и что доказывается заключительными словами письма, Жанна не возлагала никаких надежд на письмо, что очень понятно: решившись на это судебное дело, королева не могла его прекратить, не произнеся тем самым приговор сама себе. Итак, нет сомнения: Жанна вовсе не рассчитывала, что ее письмо будет передано королеве.
Она знала, что вся тюремная стража предана коменданту Бастилии, то есть в конечном счете г-ну де Бретейлю. Она знала, что вся Франция пользовалась этим делом об ожерелье для политических спекуляций, чего не было со времен парламентов г-на де Мопу. Она была уверена, что тот, кому она вручит письмо, либо отдаст его коменданту, либо оставит у себя и покажет тем судьям, которые были одних с ним воззрений. Поэтому Жанна приняла все меры к тому, чтобы это письмо, в чьи бы руки оно ни попало, вызвало в сердцах ростки ненависти, недоверия и неуважения к королеве.
Одновременно с этим письмом к Марии Антуанетте она составила другое – к кардиналу:
"Я не могу понять, монсеньер, почему Вы упорствуете в нежелании говорить яснее. Мне кажется, что для Вас было бы лучше всего отнестись с безграничным доверием к нашим судьям; наша судьба улучшилась бы от этого. Что касается меня, то я решилась молчать, если Вы не хотите поддержать меня. Но почему Вы не хотите говорить? Объясните все обстоятельства этого таинственного дела, и я даю Вам клятву подтвердить все, что Вы скажете. Подумайте хорошенько, господин кардинал, о том, что если я решусь заговорить первая, а Вы станете отрицать правдивость моих слов, то я погибла, я не избегну мести той, которая хочет принести нас обоих в жертву.
Но Вы не должны бояться чего-либо подобного с моей стороны: моя преданность известна Вам. Если эта особа окажется неумолимой, то Ваше дело всегда будет и моим: я пожертвую всем, чтобы спасти Вас от последствий ее ненависти, или пусть нас обоих постигнет немилость.
P.S. Я написала этой особе письмо, которое, я надеюсь, заставит ее решиться если не на то, чтобы сказать правду, то, по крайней мере, на то, чтобы не преследовать нас, не имеющих на совести другого преступления, кроме ошибки или молчания".
Это искусно составленное письмо она передала кардиналу во время их последней очной ставки в большой приемной Бастилии, и все увидели, как кардинал покраснел, побледнел и содрогнулся от такой дерзости. Он вышел, чтобы взять себя в руки.
Что же касается письма к королеве, то графиня тут же передала его аббату Лекелю, священнику Бастилии, сопровождавшему кардинала в приемную и преданному семье Роганов.
– Сударь, – сказала она ему, – взяв на себя исполнение этого поручения, вы можете содействовать изменению участи господина де Рогана и моей. Ознакомьтесь с содержанием письма. Ваш сан обязывает вас уметь хранить тайну. Вы убедитесь, что я стучусь в единственную дверь, откуда мы – господин кардинал и я – можем ожидать помощи.
Духовник отказался.
– Я единственное духовное лицо, которое вы видите, – сказал он. – Ее величество подумает, что вы написали ей по моему совету и что вы мне во всем сознались… Я не могу сознательно губить себя.
– В таком случае, – сказала Жанна, отчаявшись в успехе своей хитрости, но желая запугать кардинала, – скажите господину де Рогану, что у меня осталось средство доказать свою невиновность – дать прочесть его письма королеве. Мне было противно воспользоваться этим средством, но я решусь на него для нашей общей пользы.
Видя, что священник испугался этой угрозы, она еще раз попыталась передать ему в руки свое ужасное письмо к королеве.
"Если он возьмет письмо, – говорила она себе, – я спасена, потому что тогда я во время заседания суда спрошу у него, что он сделал с письмом, отдал ли его королеве и просил ли ответа? Если окажется, что он его не отдал, королева погибла: колебание Роганов докажет ее преступление и мою невиновность".
Но аббат Лекель, едва прикоснувшись к письму, возвратил его, точно оно жгло ему руку.
– Обратите внимание, – сказала, бледнея от злости, Жанна, – что вы ничем не рискуете, так как я вложила письмо к королеве в конверт на имя госпожи де Мизери.
– Тем более – воскликнул аббат. – Два лица узнали бы тайну. Двойной повод для гнева королевы. Нет, нет, я отказываюсь.
И он отстранил руку графини.
– Заметьте, – сказала она, – вы толкаете меня на то, чтобы употребить в дело письма господина де Рогана.
– Хорошо, – ответил аббат, – употребляйте их в дело, сударыня.
– Но, – продолжала Жанна, дрожа от ярости, – я вам заявляю, что доказательство тайной переписки с королевой повлечет за собой для кардинала смертную казнь на эшафоте. Вы вольны говорить "хорошо". Я вас предупредила.
В эту минуту открылась дверь и на пороге показался кардинал, полный величия в своем гневе.
– Пусть по вашей вине один из Роганов сложит на эшафоте голову, сударыня, – ответил он. – Бастилия не в первый раз увидит подобное зрелище. Но если так, то я вам объявляю, что ничего не буду иметь против эшафота, на котором упадет моя голова, если только увижу тот эшафот, у которого над вами будет совершена позорная казнь как над воровкой, совершившей подлоги! Идемте, аббат!
После этих уничтожающих слов он повернулся спиной к Жанне и вышел с духовником, оставив в ярости и отчаянии это несчастное создание, при каждом движении все глубже вязнувшее в гибельной тине, которая вскоре должна была засосать и покрыть ее всю.
XXXVIКРЕСТИНЫ МАЛЕНЬКОГО БОСИРА
Госпожа де Ламотт ошиблась во всех своих расчетах. Калиостро не ошибся ни в одном.
Попав в Бастилию, он заметил, что наконец-то у него есть предлог открыто готовить падение монархии, под которую он уже столько лет осторожно подкапывался, распространяя учение иллюминатов и оккультные науки.
Вполне уверенный в том, что его не могут ни в чем уличить, он, разыгрывая роль жертвы, добился развязки, наиболее благоприятствовавшей его целям, и свято исполнил свое обещание, данное всему свету.
Он собирал материалы для того знаменитого письма из Лондона, которое появилось через месяц после описываемого нами времени и было первым ударом тарана по стенам старой Бастилии, началом враждебных действий революции, первым ощутимым ударом, предшествовавшим потрясению 14 июля 1789 года.
В этом письме, где Калиостро, ниспровергнув короля, королеву, кардинала и тех, кто играет общественным мнением, обрушившись без сострадания на г-на де Бретейля, олицетворявшего министерскую тиранию, наш разрушитель высказал следующее:
«Да, на свободе я повторяю то, что говорил в заключении: нет такого преступления, которое бы не искупалось шестимесячным заключением в Бастилии. У меня спрашивают: вернусь ли я когда-нибудь во Францию? Непременно, ответил я, если только Бастилия сделается местом народного гулянья. Дай-mo Бог! У вас, французов, есть все необходимое для счастья: плодородная земля, мягкий климат, добрые сердца, очаровательная веселость, талантливость и способности ко всему; вы не имеете себе равных в искусстве нравиться, не нуждаетесь в учителях во всех других искусствах; вам, милые друзья мои, недостает лишь малости – быть уверенными, что если вы ни в чем не виноваты, то проведете ночь в своей постели».
Калиостро сдержал слово и относительно Олива. Она, со своей стороны, была свято предана ему. Она не проронила ни одного слова, которое могло бы скомпрометировать ее покровителя. Показания Оливы были роковыми только для г-жи де Ламотт; правдиво и неопровержимо она доказала свое невинное участие в мистификации, направленной, по ее словам, против неизвестного ей кавалера, которого она знала под именем Луи.
За все это время, пока заключенные сидели под замком и подвергались допросам, Олива ни разу не видела своего милого Босира, но не была им, однако, покинута и, как будет видно дальше, имела от своего возлюбленного тот залог, о котором мечтала Дидона, говорившая: "Ах, если б мне было дано видеть играющего на моих коленях маленького Аскания!"
В мае 1786 года на паперти церкви святого Павла на улице Сент-Антуан стоял между бедными какой-то человек. Он казался очень озабоченным и, с трудом переводя дыхание, неотрывно смотрел в сторону Бастилии.
К нему подошел мужчина с длинной бородой, один из немецких слуг Калиостро, тот самый, который играл у.
Бальзамо роль камердинера на его таинственных приемах в старинном доме на улице Сен-Клод.
Человек этот успокоил пылкое нетерпение Босира, тихонько сказав ему:
– Подождите, подождите, они придут!
– А, – воскликнул тот, – это вы!
И так как слова "они придут", очевидно, не удовлетворили беспокойного субъекта и он продолжал оживленно размахивать руками, немец сказал ему на ухо:
– Господин Босир, вы так шумите, что нас увидит полиция… Господин мой обещал сообщить вам новости, и я вам принес их.
– Ну, друг мой, ну, что же?
– Тише. И мать и ребенок здоровы.
– О-о! – воскликнул Босир в неописуемом восторге, – она разрешилась от бремени! Она спасена!
– Да, сударь; но, отойдите в сторону, прошу вас.
– Дочерью?
– Нет, сударь, сыном.
– Тем лучше! О друг мой, как я счастлив! Как я счастлив, как я счастлив! Поблагодарите хорошенько вашего господина; скажите ему, что моя жизнь и все, что я имею, принадлежит ему…
– Да, господин Босир, да, я скажу ему это, когда увижу его.
– Друг мой, отчего вы сейчас говорили… Да возьмите же эти два луидора.
– Сударь, я беру деньги только от своего господина.
– Ну, извините, я не хотел обидеть вас.
– Я верю, сударь. Но вы говорили мне…
– Да, я спрашивал, почему вы недавно сказали: "Они придут"? Кто придет?
– Я говорил о враче Бастилии и об акушерке Шопен, которые принимали роды у мадемуазель Олива.
– Они придут сюда? Зачем?
– Чтобы окрестить ребенка!
– Я увижу своего ребенка! – воскликнул Босир, подпрыгивая, как припадочный. – Вы говорите, что я увижу сына Олива? Здесь, сейчас?..
– Здесь и сейчас; но успокойтесь, умоляю вас; иначе двое или трое агентов господина де Крона, которые, по моим догадкам, прячутся под лохмотьями нищих, узнают вас и догадаются, что вы общались с узником Бастилии. Вы губите себя и подвергаете опасности моего господина.
– О, – воскликнул Босир с выражением благоговейного почтения и признательности, – я скорее умру, чем произнесу хотя бы один звук, который мог бы повредить моему благодетелю. Я задохнусь, если понадобится, но не скажу более ни слова. Что же они не идут!..
– Терпение!
– Счастлива она хотя немного там? – спросил Босир, сжимая руки.
– Совершенно счастлива, – ответил немец. – А вот подъезжает фиакр.
– Да, да.
– Он останавливается…
– Вот что-то белое, кружева.
– Это крестильная рубашка ребенка.
– Боже мой!
И Босир должен был прислониться к колонне, чтобы не упасть: он увидел выходивших из фиакра акушерку, врача и тюремщика Бастилии, которые должны были служить свидетелями при крестинах.
На пути этих трех лиц нищие гнусаво затянули свои просьбы о милостыне.
И странное дело: крестные отец и мать прошли мимо, расталкивая нищих, между тем как посторонний человек раздавал им мелочь и золото, плача от радости.
Когда маленькая процессия вошла в церковь, Босир вошел вслед за ней и отыскал себе среди священнослужителей и любопытных прихожан лучшее место в ризнице, где должно было совершиться таинство крещения.
Священник узнал акушерку и врача, которые уже неоднократно прибегали к помощи его ведомства в подобных обстоятельствах; он дружески кивнул им головой и улыбнулся.
Босир поклонился и улыбнулся вместе со священником.
Тогда заперли дверь ризницы и священник, взяв перо, раскрыл метрическую книгу и начал вносить в нее обычные слова регистрационной записи. Когда он спросил о фамилии и имени ребенка, врач сказал:
– Это мальчик; вот все, что я знаю.
И взрыв смеха четырех лиц сопроводил эти слова, показавшиеся Босиру обидными.
– Но ведь есть же у него какое-нибудь имя, хотя бы имя святого, – продолжал священник.
– Да, мать желала, чтобы его назвали Туссеном.
– Ну что же. Все святые тут будут! – возразил со смехом священник, довольный игрой слов, и ризница снова огласилась веселым смехом.
Босир начинал терять терпение, но мудрое воздействие немца еще не утратило своей силы. Он сдержался.
– Ну, – сказал священник, – с таким именем и, имея своими покровителями всех святых, можно обойтись без отца. Напишем: «Сего числа предъявлен нам был ребенок мужского пола, родившийся вчера в Бастилии, сын Николь Олива Леге и… неизвестного отца».
Босир вне себя бросился к священнику и с силой удержал его руку.
– У Туссена есть отец, – воскликнул он, – так же как и мать! У него есть нежный отец, который не отречется от своей крови. Пишите, прошу вас, что Туссен, родившийся вчера у девицы Николь Оливы Леге, – сын Жана Батиста Туссена де Босира, присутствующего здесь!
Можно представить изумление священника и восприемников! Перо выпало из рук достойного пастыря, а акушерка едва не выронила из рук ребенка. Босир взял его на руки и, покрывая жадными поцелуями, дал бедному малютке первое крещение, самое священное на этом свете после Господнего – крещение отцовскими слезами.
Присутствующие, при всей их привычке к драматическим сценам и при всем присущем вольтерьянцам того времени скептицизме, были растроганы. Один только священник оставался равнодушным и подверг сомнению это отцовство; быть может, он был недоволен, что запись приходилось переделывать.
Но Босир догадался, в чем была задержка: он положил на купель три луидора, которые гораздо лучше слез доказали его отцовское право и блестяще подтвердили его чистосердечие.
Священник поклонился, взял семьдесят два ливра и вычеркнул две строки, которые только что с шуточками начертал в книге.
– Однако, сударь, так как заявление господина врача Бастилии и госпожи Шопен было сделано с соблюдением требуемых формальностей, то благоволите сами письменно подтвердить, что вы объявляете себя отцом этого ребенка.
– Я! – воскликнул Босир вне себя от радости. – Да я готов написать это своей кровью!
И он с восторгом схватил перо.
– Берегитесь, – сказал ему потихоньку тюремщик Гюйон, который не забывал о своей обычной осторожности. – Мне кажется, милейший господин, что ваше имя дурно звучит в некоторых местах; его опасно вписывать в метрическую книгу, проставляя при этом число, которое доказывает разом и ваше присутствие здесь, и вашу связь с одной из обвиняемых…
– Благодарю за совет, друг, – гордо возразил Босир, – я узнаю в вас честного человека, и совет ваш стоит этих двух луидоров, которые я прошу вас принять… Но отречься от сына моей жены…
– Она ваша жена?! – воскликнул врач.
– Законная? – спросил священник.
– Если Бог возвратит ей свободу, – сказал Босир, дрожа от блаженства, – то на другой же день Николь Леге будет носить имя де Босир, как ее сын и я.
– Пока что вы сильно рискуете, – повторил Гюйон, – вас, кажется, разыскивают.
– Ну уж я-то вас не выдам, – сказал врач.
– Я также, – сказала акушерка.
– Я также, – сказал священник.
– И если бы даже меня выдали, – продолжал Босир с экстазом мученика, – я готов подвергнуться колесованию, чтобы иметь утешение признать своего сына!
– Если его колесуют, – тихо сказал акушерке г-н Гюйон, который имел претензию на остроумие, – то не за то, что он назвал себя отцом маленького Туссена.
После этой шутки, вызвавшей улыбку у г-жи Шопен, приступили по всей форме к внесению имени ребенка в метрическую книгу и к признанию гражданских прав юного Босира.
Босир-отец написал свое заявление в великолепных, но немного пространных выражениях: таковы бывают донесения о подвигах, которыми авторы гордятся.
Он перечитал его, проверил, подписал и заставил четырех присутствующих также расписаться.
Потом снова прочитал и проверил, поцеловал своего сына, окрещенного по всем правилам, положил в складки его крестильной рубашки десять луидоров, повесил на шею предназначавшееся матери кольцо и гордый, как Ксенофонт во время знаменитого отступления, отворил дверь ризницы, решившись не прибегать даже к малейшей военной хитрости для спасения своей особы от сбиров, если бы нашелся бесчеловечный агент, который задержал бы его в такую минуту.
Толпа нищих оставалась все время в церкви. Если бы Босир мог вглядеться в них пристальнее, то, быть может, узнал бы между ними пресловутого Положительного, виновника его злоключений; но никто из них не пошевельнулся. Босир снова роздал милостыню, что было встречено бесчисленными пожеланиями: "Храни вас Бог!" И счастливый отец вышел из церкви святого Павла, причем со стороны его можно было принять за знатного господина, чтимого, ласкаемого, благословляемого и превозносимого бедными его прихода.
Свидетели крестин также удалились и направились к ожидавшему их фиакру, восхищенные увиденным.
Босир наблюдал за ними, стоя на углу улицы Кюльтюр– Сент-Катрин; он видел, как они сели в фиакр, и послал два-три трепетных поцелуя своему сыну. А когда фиакр скрылся из его глаз и он почувствовал, что достаточно насладился сердечными излияниями, то рассудил, что не следует испытывать ни Бога, ни полицию, и вернулся в свое убежище, известное только ему самому, Калиостро и г-ну де Крону.

Надо сказать, что г-н де Крон сдержал слово, данное Калиостро, и не стал беспокоить Босира.
Когда ребенка привезли обратно в Бастилию и г-жа Шопен рассказала Олива все эти удивительные приключения, эта последняя надела на самый толстый свой палец кольцо Босира и, заплакав, поцеловала сына, для которого уже подыскивали кормилицу.
– Нет, – сказала она, – господин Жильбер, ученик господина Руссо, говорил мне однажды, что хорошая мать должна сама кормить своего ребенка… Я хочу сама кормить сына и быть хотя бы хорошей матерью, и так будет всегда.








