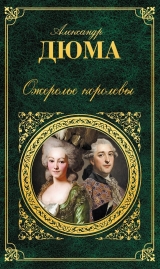
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 61 страниц)
– О сударь, как вы добры, как великодушны!
И Олива положила обе руки на плечи Калиостро.
Но тот продолжал, устремив на нее свой обычный спокойный взгляд:
– Вы видите, Олива, если бы теперь вы сами мне предложили свою любовь, я…
– Ну! – сказала она, вся вспыхнув.
– Если бы вы предложили мне свою очаровательную особу, я отказался бы, настолько я люблю внушать только искренние, чистые и чуждые всякой корысти чувства. Вы считали меня корыстным и попали ко мне в зависимость. Вы считаете себя связанной, и я скорее готов думать, что в вас больше говорит признательность, чем сердце, что вы более напуганы, чем влюблены… Сохраним же наши теперешние отношения. Я исполняю таким образом ваше желание и иду навстречу деликатным побуждениям вашего сердца.
Олива уронила свои красивые руки и отошла, пристыженная, приниженная, сбитая с толку великодушием Калиостро, на которое не рассчитывала.
– Итак, – продолжал граф, – итак, моя милая Олива, решено: я остаюсь вашим другом, вы будете питать полное доверие ко мне, располагать моим домом, кошельком, кредитом и…
– И скажу себе, – прервала его Олива, – что есть люди на этом свете, которые много выше всех тех, кого я до сих пор знала.
Она произнесла эти слова с очаровательным достоинством, тронувшим отлитую из бронзы душу, чье тело некогда носило имя Бальзамо.
"Любая женщина становится хорошей, – подумал он, – если задеть в ней струну, на которую откликаемся сердце".
И, подойдя к Николь, он сказал:
– С сегодняшнего вечера вы будете жить на верхнем этаже дома. Помещение состоит из трех комнат; оттуда вы можете видеть бульвар и улицу Сен-Клод. Окна выходят на Менильмонтан и Бельвиль. Несколько человек могут вас увидеть, но их нечего бояться, это мирные соседи, добрые, простые люди, без всяких связей и даже не подозревающие, кто вы. Пусть они вас видят… Однако не слишком высовывайтесь, а главное – не показывайтесь никогда прохожим, потому что улицу Сен-Клод иногда посещают агенты господина де Крона. Наверху вы, по крайней мере, будете пользоваться солнцем.
Олива радостно захлопала в ладоши.
– Хотите, я сведу вас туда? – спросил Калиостро.
– Сегодня же?
– Ну, конечно, сегодня же. Или это неудобно для вас?
Олива пристально взглянула на Калиостро. Смутная надежда снова закралась в ее сердце, вернее, в ее тщеславный и развращенный ум.
– Пойдемте, – сказала она.
Граф взял в передней фонарь, сам открыл несколько дверей и, поднявшись по лестнице в сопровождении Олива, очутился на четвертом этаже, в том помещении, о котором говорил.
Олива увидела, что комнаты обставлены, украшены цветами и полностью пригодны для жилья.
– Можно подумать, что меня ждали здесь! – воскликнула она.
– Нет, не вас, а меня, – сказал граф. – Мне нравится вид, открывающийся из этой надстройки, и я часто ночую здесь.
Во взгляде Олива вспыхнули рыжеватые блестящие искорки, порой загорающиеся в зрачках кошек.
Какое-то слово готово было сорваться с ее губ, но Калиостро помешал этому, сказав:
– Вы найдете здесь все, что вам понадобится; через четверть часа придет ваша горничная. Доброй ночи, мадемуазель.
И он исчез, отвесив глубокий поклон, смягченный ласковой улыбкой.
Бедная пленница, пораженная, уничтоженная, присела на расстеленную кровать, ожидавшую ее в изящном алькове.
– Я решительно ничего не понимаю в том, что со мной происходит, – прошептала она, провожая взглядом этого человека, понять которого было действительно не в ее силах.
VIНАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ
Олива легла в постель, отпустив горничную, которую прислал ей Калиостро.
Спала она мало; под действием всевозможных мыслей, рожденных беседой с графом, она то грезила наяву, то впадала в беспокойную дремоту. Не может быть продолжительным счастье того, кто стал слишком богат или слишком спокоен после того, как был слишком беден или слишком взволнован.
Олива жалела о Босире и восхищалась графом, которого не понимала; она уже не считала его робким, не могла заподозрить в бесчувственности. Она очень боялась, как бы какой-нибудь сильф не нарушил ее сон, и малейший треск паркета приводил ее в волнение, знакомое всем романтическим героиням, проводившим ночи в Северной башне.
С рассветом улетели ее страхи, не лишенные известной прелести… Мы же со своей стороны, не боясь пробудить ревнивые подозрения в г-не Босире, рискнем засвидетельствовать, что Николь встретила наступившую полную безопасность не без некоторой примеси досады.
Этот оттенок душевных ощущений не поддается кисти художника, если то не кисть Ватто, и не может быть описан пером писателя, если она не в руках Мариво или Кребийона-сына.
Только на рассвете она позволила себе заснуть, нежась в своей убранной цветами комнате под пурпурными лучами восходящего солнца и любуясь птицами, которые прыгали по маленькому балкону под окном и с очаровательным шуршанием задевали крылышками листья роз и испанского жасмина.
Она встала поздно, очень поздно, когда два или три часа сладкого сна освежили ее веки, когда, убаюканная шумом и бархатным оцепенением отдыха, она почувствовала себя достаточно сильной, чтобы захотеть двигаться, слишком сильной, чтобы покоиться в праздности.
Она обошла и осмотрела все уголки своего нового помещения, куда не сумел найти лазейку этот непонятный и недогадливый сильф, чтобы проскользнуть к ее кровати и порхать вокруг, хлопая крылышками… Впрочем, в те времена сильфы, благодаря графу де Габалису, нисколько не утратили своей беспорочной репутации.
Олива заметила богатство убранства, простого и неожиданного. Это жилище женщины вначале было жилищем мужчины. Здесь можно было найти все, что дает любовь к жизни; особенно много было света и воздуха, которые превратили бы темницы в сады, если б воздух и свет когда-либо могли проникнуть в тюрьму.
Мы бы охотно описали детскую, то есть безграничную, радость, с которою Олива побежала на террасу и легла на мшистые каменные плиты посреди цветов, точно выползшая из своей норы змейка, если бы нам не пришлось изображать ее изумление каждый раз, как перед нею открывалось новое зрелище.
Сначала она, лежа, как мы только что сказали, на полу, чтобы ее не было видно с улицы, сквозь решетку балкона любовалась верхушками деревьев на бульварах, домами квартала Попенкур и трубами, которые мелькали перед ней справа в тумане, точно неравномерно вздымающиеся волны окутанного дымкой океана.
Купаясь в солнечных лучах и жадно прислушиваясь к шуму проезжавших экипажей, правда немногочисленных, она провела два очень счастливых часа. Она даже выпила шоколад, который подала ей горничная, прочла газету и только тогда подумала о том, чтобы выглянуть на улицу.
Это было опасным удовольствием.
Сыщики г-на де Крона, эти ищейки в образе людей, постоянно нюхающие воздух в поисках дичи, могли ее увидеть. Какое ужасное пробуждение после такого сладкого сна!
Но она не могла долее сохранять свое горизонтальное положение, хотя оно и было полно прелести. Николь приподнялась на локте.
И тогда она увидела орешники Менильмонтана, развесистые деревья кладбища и мириады разноцветных домов: они пестрели по склону холма от Шаронна до Бютт-Шомона, окруженные кущами зелени, или гнездились на меловых откосах, поросших вереском и репейником.
Кое-где по дорогам, тонкою лентою обвивавшим вершины этих холмов, между виноградниками виднелись маленькие фигурки: крестьяне трусили рысцой на своих ослах; дети выпалывали на полях сорные травы; женщины выставляли виноградные грозди под солнечные лучи.
Николь была очарована этими сельскими картинами: она постоянно вздыхала по живописной деревенской природе Таверне, хотя и оставила его для столь желанного Парижа.
Но наконец она пресытилась лицезрением сельского ландшафта и, устроившись среди цветов удобно и вполне безопасно, так что могла смотреть, не рискуя быть замеченной, опустила свой взгляд с горы на равнину, с далекого горизонта на соседние дома.
Везде, то есть на том пространстве, которые занимали три дома, Олива увидела запертые или глядевшие очень неприветливо окна. Вот три этажа, занятые стариками, живущими на проценты с капитала; у всех неизменно висят снаружи клетки с птицами, а в комнатах живут кошки. А дальше дом из четырех этажей, но Оливе виден только овернец, живущий на верхнем этаже; другие жильцы точно отсутствуют, быть может, уехали куда-нибудь в деревню. Наконец, немного левее в третьем доме видны желтые шелковые занавески, цветы и как бы в дополнение к этой уютной обстановке мягкое кресло у окна, казалось поджидающее мечтателя или мечтательницу.
В этой комнате, которая казалась особенно темной при ярком солнце, Олива как будто разглядела какую-то тень, равномерно двигавшуюся взад и вперед.
Не давая больше воли своему нетерпению, Олива еще лучше спряталась и, позвав горничную, вступила с ней в разговор, чтобы, для разнообразия, сменить радости одиночества на радость от общества живого существа, мыслящего, а главное, обладающего даром речи.
Но горничная была очень неразговорчива, вопреки традициям. Она ничего не имела против того, чтобы указать своей госпоже Бельвиль, Шаронн и кладбище Пер-Лашез. Она сообщила, что видневшиеся церкви носили имена святого Амвросия и святого Лаврентия; она указала на изгиб бульвара и на его спуск к правому берегу Сены; но когда вопрос коснулся соседей, горничная не смогла сказать ни одного слова: она знала о них столько же, сколько и ее хозяйка.
Олива не получила никаких разъяснений о полутемной квартире с желтыми шелковыми занавесками, не узнала ничего ни о двигавшейся тени, ни о кресле.
Если Олива лишилась удовольствия заранее познакомиться со своей соседкой, то, по крайней мере, могла пообещать себе, что устроит это знакомство сама. Она отослала слишком скрытную служанку, чтобы без свидетелей предаться своему исследованию.
Случай не замедлил представиться. Соседи начали открывать свои двери и, вздремнув после обеда, стали одеваться для прогулки по Королевской площади или Зеленой аллее.
Олива пересчитала соседей. Их было шестеро, и все они, при всей своей непохожести, необыкновенно подходили друг к другу, как и подобает людям, избравшим улицу Сен-Клод местом жительства.
Олива провела часть дня за изучением их действий и привычек. Все они прошли перед ней, за исключением движущейся тени в окне, которая, не дав Олива возможности увидеть свое лицо, опустилась в кресло и, казалось, застыла в неподвижной задумчивости или созерцательности.
Это была женщина. Она отдала свою голову в распоряжение парикмахерше, которая за полтора часа соорудила на ее темени и висках одну из тех вавилонских башен, для которых требовались и минералы и растения; понадобились бы и животные, если бы в дело вмешался Леонар и если бы женщины того времени согласились превратить свою голову в Ноев ковчег с его обитателями.
Потом незнакомка, причесанная, напудренная, в белом кружевном наряде, снова погрузилась в свое кресло, подложив себе под шею несколько подушек, настолько твердых, чтобы эта часть тела поддерживала все его равновесие и обеспечивала неприкосновенность воздвигнутого на голове сооружения, независимость от толчков и сотрясений, которые могли бы потревожить основание этой горы.
Неподвижно сидящая дама напоминала индийских богов, плотно и прочно восседающих на своих пьедесталах, с глазами, устремленными, как и мысль, в одну точку. Они одни служили идолу, будучи и стражами, и верными слугами, выполняя то повеления тела, то прихоти души.
Олива заметила, что столь тщательно причесанная дама красива и что ее ножка в маленькой розовой атласной туфельке, поставленная на край подоконника, мала и изящна; залюбовалась округлостью рук и пышной груди, вздымавшей корсет и пеньюар.
Но более всего ее поражала глубокая задумчивость дамы; казалось, ее мысль, устремленная к какой-то невидимой и неясной цели, была настолько властной, что обрекала все тело на неподвижность, подавляя его своей волей.
Эта женщина, которую мы узнали (это не дано было Олива), не подозревала, что ее может кто-нибудь увидеть. Окна напротив нее никогда не открывались. Видны были лишь цветы да порхающие птички – то, чем любовалась Николь; дом г-на де Калиостро никогда не выдавал своих тайн, и, кроме рабочих, подновлявших его, ни одно живое существо никогда не показывалось в окнах.
Кажущееся противоречие со словами Калиостро о том, что он жил в этих комнатах, можно объяснить в двух словах. По приказанию графа они были за один вечер приготовлены как бы для него самого, а в действительности для Олива. Он, если можно так выразиться, обманул самого себя – настолько хорошо были выполнены его распоряжения.
Итак, дама с красивой прической оставалась погруженною в свои мысли. Олива вообразила, что эта задумавшаяся красавица размышляет о любви, наткнувшейся на препятствия.
Сходство в красоте, сходство в одиночестве, в возрасте, в скуке – сколько нитей, способных соединить две души, которые, может быть, ищут друг друга, повинуясь таинственным, непреодолимым и необъяснимым расчетам судьбы!
Олива, увидев эту одинокую мечтательницу, была не в силах оторвать от нее глаз.
Какая-то нравственная чистота была в этом влечении женщины к женщине. Такая тонкость чувств чаще, чем обычно думают, встречается среди несчастных созданий, для которых тело играет главную роль в жизни.
Изгнанные из духовного рая, бедняжки вздыхают об утраченных садах и улыбающихся ангелах, что скрываются под таинственной сенью.
Олива вообразила себе, что нашла в прекрасной затворнице родственную душу. Она мысленно построила целый роман, подобный ее истории, воображая, со свойственной ей наивностью, что не может красивая изящная женщина уединенно жить на улице Сен-Клод, если у нее нет глубоких сердечных горестей.
Изукрасив всеми цветами фантазии придуманную ею романтическую историю, Олива, как все увлекающиеся натуры, сама поддалась очарованию своего вымысла; она уже летела на крыльях навстречу своей подруге, нетерпеливо желая, чтобы и у той также выросли крылья.
Но дама с башней на голове не двигалась; казалось, она дремала на своем пьедестале. Прошло два часа, а она не шелохнулась.
Олива начинала приходить в отчаяние. Для самого Адониса или Босира она не сделала бы и четверти тех авансов, какие делала незнакомке. Выбившись из сил, переходя от нежности к ненависти, она раз десять открывала и затворяла свое окно, раз десять вспугивала птичек, сидевших в листве; при этом она посылала соседке такие многозначительные телеграфические знаки, что самый тупоумный из агентов г-на Крона, проходи он по бульвару или по улице Сен-Клод, не мог бы не заметить их и не заинтересоваться.
Наконец Николь стала убеждать себя в том, что дама с красивой прической отлично видела ее знаки и приняла все сигналы, но отнеслась к ним с презрением, что она надменная особа или идиотка. Идиотка! С таким умным, глубоким взглядом, с такой капризной ножкой и нервной рукой! Этого не может быть!
Надменна, да, насколько могла быть надменна знатная дама в те времена по отношению к горожанке. Олива, заметив, как аристократичны черты лица молодой женщины, заключила, что та горда и неприступна, и отказалась от дальнейших попыток.
Отвернувшись с очаровательным недовольством от незнакомки, она села лицом к солнцу, теперь уже заходившему, и вернулась к обществу цветов, приветливых сотоварищей, которые, будучи не менее благородны, изящны, напудрены и кокетливы, чем самые знатные дамы, позволяют тем не менее трогать их, вдыхать их аромат и своим благоуханием, свежестью и трепетным прикосновением как бы дарят свой поцелуй дружбы или поцелуй любви.
Николь не думала о том, что та, кого она заподозрила в гордости, была Жанна де Валуа, графиня де Ламотт, которая со вчерашнего дня всецело была занята поисками блистательной идеи; целью этого замысла было помешать свиданию Марии Антуанетты с кардиналом де Роганом; еще более важные интересы требовали, чтобы кардинал, не видясь более с королевой наедине, был твердо убежден, что видится с нею, довольствовался этим и перестал добиваться большего – настоящего свидания.
Эти серьезные раздумья служили вполне законным извинением тому, что молодая женщина даже не шевельнула головой в течение двух смертельно долгих часов.
Если бы Николь знала все это, то, конечно, не стала бы гневно спасаться бегством в гущу цветов.
И, усаживаясь среди них, не сбросила бы с балкона горшок с диким бадьяном, который со страшным грохотом упал на безлюдную улицу. Олива поспешила удостовериться, какой ущерб она произвела.
Дама, погруженная в свои мысли, очнулась от шума, увидела цветочный горшок на мостовой и, решив перейти от следствия к причине, то есть узнать, откуда он упал, подняла глаза с мостовой на балкон противоположного дома.
Она увидела Олива.
Увидев ее, она издала дикий крик, крик ужаса, крик, перешедший в содрогание всего тела, окаменевшего и застывшего до того в одной позе.
Глаза Олива и дамы встретились и обменялись вопросительным взглядом. Каждая старалась прочесть в глубине души другой.
Жанна вскрикнула в первую минуту:
– Королева!
Затем вдруг, молитвенно сложив руки и сдвинув брови, не смея шевельнуться, чтобы не вспугнуть необъяснимое видение, она прошептала:
– О, я искала средство… Вот оно!
В это мгновение Олива услышала за собой шум и поспешно обернулась.
В ее комнате стоял граф, который видел этот обмен взглядами.
– Они увидели друг друга! – сказал он.
Олива поспешно ушла с балкона.
VIIДВЕ СОСЕДКИ
С той минуты как обе женщины увидели одна другую, Олива, уже подпав под очарование своей соседки, перестала притворяться, что пренебрегает ею, и, осторожно пробираясь между цветами, отвечала улыбками на улыбки, которые ей посылала незнакомка.
Навещая ее, Калиостро не забывал напоминать о необходимости соблюдать величайшую осмотрительность.
– Главное, – говорил он ей, – не заводите знакомства с соседями.
Эти слова обрушились, как зловещий град, на Олива, для которой жесты и поклоны соседки стали приятным развлечением.
Не заводить знакомств с соседями – значит повернуться спиной к этой прелестной женщине с такими сияющими и ласковыми глазами, с обольстительными движениями, значило отказаться от разговоров телеграфическими знаками о погоде, это значило порвать связь с подругой. Ибо воображение Олива работало с такой быстротой, что Жанна была уже для нее интересным и дорогим существом.
Лукавая особа отвечала своему покровителю, что ни за что не решится ослушаться его и не заведет никаких знакомств со своими соседями. Но как только он ушел, она устроилась на балконе таким образом, чтобы привлечь внимание соседки.
А та, надо думать, была очень довольна этим, так как на первые же сделанные ей авансы отвечала поклонами и воздушными поцелуями.
Олива не оставалась в долгу по части любезностей; она заметила, что незнакомка теперь почти не отходит от окна, никогда не забывает попрощаться, уходя из дому, и поздороваться при возвращении, точно ее сердечная нежность сосредоточилась исключительно на балконе Олива.
Подобное положение вещей должно было вскоре повлечь за собой попытку сближения.
И вот что случилось.
Калиостро, навестив через два дня Олива, с неудовольствием сообщил ей о том, что в дом приходила какая-то незнакомая дама.
– Как так? – спросила Олива, слегка краснея.
– Да, – ответил граф, – приходила весьма красивая, молодая, изящная дама и вступила в разговор с лакеем, отворившим дверь после ее усиленных звонков. Она спросила, кто та молодая особа, что живет на четвертом этаже, в надстройке, – то есть в вашем помещении, милая моя. Эта дама говорила несомненно про вас. Она хотела вас видеть, значит, она вас знает; значит, она имеет на вас виды… Выходит, ваше убежище открыто? Берегитесь, в числе полицейских сыщиков есть и женщины, а не одни мужчины. И я предупреждаю, что не смогу отказать господину де Крону, если он потребует, чтобы я выдал ему вас.
Вместо того чтобы испугаться, Олива, сразу узнав по описанию свою соседку, почувствовала к ней бесконечную благодарность за сделанный ею первый шаг, но твердо решившись отблагодарить ее за это, как только будет возможность, сочла за лучшее утаить все это от графа.
– Вы не боитесь? – спросил Калиостро.
– Никто меня не видел, – возразила Николь.
– Так разве не вас хотела видеть эта дама?
– Думаю, что не меня.
– Однако, догадаться, что в этой надстройке живет женщина… Ах, берегитесь, берегитесь!
– Но, господин граф, – сказала Олива, – чего же мне бояться? Если меня видели, чего я не думаю, то больше не увидят, а если б кто и увидел меня снова, то это было бы только издали, так как в дом ведь проникнуть нельзя?
– Нельзя, это верно, – ответил граф, – разве перелезть через ограду, что нелегко, или открыть калитку таким ключом, как у меня, что также нелегко, так как я с ним не расстаюсь…
С этими словами он показал Олива ключ, с помощью которого входил через калитку.
– А так как мне нет расчета вас губить, – продолжал он, – то я не одолжу ключа никому… И так как вам нет никакой выгоды попасть в руки господина де Крона, то вы не допустите, чтобы кто-нибудь перелезал через ограду. Словом, дитя мое, вы предупреждены; поступайте как найдете нужным.
Олива рассыпалась во всевозможных уверениях и постаралась поскорее освободиться от графа, да и он со своей стороны не слишком настаивал на том, чтобы остаться.
На другое утро, с шести часов утра, она уже была на своем балконе, с наслаждением вдыхая чистый воздух, доносившийся с соседних холмов, и не сводя внимательного взгляда с запертых окон своей приветливой подруги.
А та, обыкновенно просыпавшаяся не раньше одиннадцати часов, показалась в окне, как только появилась Олива. Можно было подумать, что она стояла за спущенными занавесками, ожидая только минуты, когда можно будет показаться.
Женщины обменялись поклонами; Жанна, высунувшись из окна, посмотрела по сторонам, не может ли кто-нибудь их подслушать. Кругом было безлюдно. Не только на улице, но и в окнах домов не видно было ни души.
Тогда она приложила обе руки ко рту, сложив их в виде рупора, и громко и отчетливо, хотя и не усиливая голоса до крика, сказала Олива:
– Я хотела навестить вас, сударыня.
– Тише, – промолвила Олива, испуганно отступая назад, и при этом приложила палец к губам.
Жанна в свою очередь, отскочила в глубь комнаты и спряталась за занавески, решив, что появился какой-нибудь нескромный свидетель, но почти тотчас же появилась снова, успокоенная улыбкою Николь.
– Так вас нельзя видеть? – начала она снова.
– Увы! – жестом отвечала Олива.
– Подождите, – возразила Жанна. – А можно ли вам писать?
– О нет! – воскликнула Олива с испугом.
Жанна несколько минут что-то соображала, Олива послала ей очаровательный поцелуй и получила два ответных поцелуя от Жанны, которая, закрыв свое окно, вскоре вышла из дому.
Олива решила про себя, что подруга ее, наверное, придумала какой-нибудь новый способ общения: ее прощальный взгляд ясно говорил об этом.
Действительно, через два часа Жанна вернулась. Солнце сияло вовсю, и мощенная мелкими камнями мостовая накалилась, как песок Испании в сильную жару.
Олива вскоре увидела, что ее соседка подошла к окну с арбалетом в руке и, смеясь, сделала ей знак отойти.
Олива повиновалась, рассмеявшись вслед за подругой, и спряталась за ставню.
Старательно прицелившись, Жанна выпустила из лука маленькую свинцовую пулю, которая, к несчастью, вместо того чтобы перелететь на балкон, ударилась о железные перила и упала на улицу.
Олива разочарованно вскрикнула. Жанна, сердито передернув плечами, поискала глазами свой метательный снаряд на улице и затем скрылась на несколько минут.
Олива, нагнувшись, смотрела с балкона вниз: прошел какой-то тряпичник, поглядывая по сторонам, но увидел он пульку в канаве или нет? Она не знала, так как спряталась сама, чтобы не быть замеченной.
Вторая попытка Жанны была более удачна.
Ее арбалет метко перекинул через балкон в комнату Николь вторую пулю, которая была обернута запиской следующего содержания:
"Я интересуюсь Вами, прекрасная дама. Я нахожу Вас прелестной и полюбила Вас за одну Вашу наружность. Вы, значит, узница? Известно ли Вам, что я тщетно пыталась навестить Вас? Позволит ли мне когда-нибудь волшебник, стерегущий Вас, приблизиться и сказать Вам, как я сочувствую бедной жертве мужского деспотизма?
Как видите, я обладаю достаточной изобретательностью, когда нужно сослужить службу моим друзьям. Хотите быть моей подругой? По-видимому, Вы не можете выходить, но несомненно можете писать, и так как я свободна в своих действиях и выхожу из дому, когда хочу, то дождитесь, когда я буду проходить под Вашим балконом, и бросьте мне Ваш ответ.
Если стрельба из арбалета станет опасной или будет замечена, то условимся общаться другим способом, более легким. Спустите с вашего балкона, когда начнет смеркаться, клубок ниток и привяжите к нему Вашу записку. Я к нему, в свою очередь, прикреплю свою, которую Вы незаметно поднимете наверх.

Знайте, что, если Ваши глаза не лгут, я рассчитываю на частицу такой же привязанности, какую Вы мне внушили, и что вдвоем мы можем победить весь мир.
Ваш друг.
P.S. Не видели ли Вы, чтобы кто-нибудь поднял мою первую записку?"
Жанна не подписалась и к тому же совершенно изменила свой почерк.
Олива вся затрепетала от радости, получив записку, и ответила на нее следующее:
"Я люблю Вас так же, как Вы меня. Я действительно жертва людской злобы. Но человек, который меня здесь держит, не тиран, а покровитель. Он раз в день тайно приходит навестить меня. Все это я Вам потом объясню. Записка на нитке, по-моему, лучше, чем арбалет.
Увы! Нет, выходить я не могу: меня запирают на ключ, но это для моего блага. О, сколько мне надо было бы Вам поведать, если бы я когда-нибудь имела счастье поговорить с Вами. Есть столько подробностей, которые нельзя передать в письме!
Ваша первая записка не могла быть поднята никем, кроме простого тряпичника, проходившего мимо, но эти люди не умеют читать, и для них свинец свинцом и остается.
Ваш друг Олива Леге".
Олива подписала свое имя со всей старательностью. Она жестом показала графине, будто разматывает клубок, и потом, дождавшись вечера, спустила его на улицу.
Жанна стояла под балконом, поймала нитку и сняла записку, о чем ее сообщница могла заключить по колебаниям нитки; затем она вернулась к себе, чтобы прочитать послание.
Через полчаса она привязала к благодетельной нитке записку следующего содержания:
«Человек может сделать все, что захочет. Нельзя сказать, чтобы Вас стерегли не спуская глаз, так как я Вас всегда вижу одну. Следовательно, Вы можете с полной свободой принимать людей или, что еще лучше, сами выходить из дому. Как запирается Ваш дом? Ключом? У кого находится этот ключ? У человека, который навещает Вас, не правда ли? Неужели он так упорно прячет этот ключ, что Вы не можете похитить его или снять с него слепок? Вы ведь не собираетесь делать что-нибудь дурное: речь идет о том, чтобы добыть несколько часов свободы для приятных прогулок рука об руку с подругой, которая утешит Вас во всех несчастьях и сторицей вернет все, что Вы утратили. Речь идет даже о Вашем полном освобождении, если Вы того непременно захотите. Мы во всех подробностях обсудим этот вопрос при первом же нашем свидании».
Олива жадно пробежала эту записку. Ее бросило в жар при мысли о сладкой свободе, и сердце замерло, предвкушая наслаждение запретным плодом.
Она заметила, что граф всякий раз, приходя к ней и принося ей то книгу, то какую-нибудь прелестную вещицу, ставит свой маленький потайной фонарь на шифоньерку, а ключ кладет на фонарь.
Олива заранее приготовила кусок мягкого воска и сделала слепок ключа при первом же визите Калиостро.
Граф даже не повернул головы, пока она занималась этим; он разглядывал в это время цветы, распустившиеся на балконе, и Олива могла, таким образом, спокойно довести свое дело до конца.
Как только граф ушел, Олива положила в коробочку слепок ключа, и Жанна получила ее вместе с записочкой.
А на другой день, около полудня, арбалет, служивший более скорым и чрезвычайным способом связи – по сравнению с перепиской посредством нитки он играл ту же роль, что телеграф по отношению к конному курьеру, – арбалет, говорим мы, бросил Олива следующую записку:
"Дорогая моя, сегодня вечером, в одиннадцать часов, когда Ваш ревнивец удалится, сойдите вниз, отодвиньте засов двери, и Вы очутитесь в объятиях той, которая называет себя.
Вашим нежным другом".
Олива затрепетала от радости, какой ни разу не ощущала даже от самых нежных писем Жильбера в весеннюю пору первой любви и первых свиданий.
Она спустилась в одиннадцать часов, не заметив у графа никаких подозрений. Внизу она нашла Жанну, которая нежно обняла ее и заставила сесть в карету, ожидавшую на бульваре. Ошеломленная и трепещущая, опьяненная.
Олива в течение двух часов каталась со своей подругой, и в продолжение всей прогулки они между поцелуями поверяли друг другу свои тайны и строили всевозможные планы на будущее.
Жанна первая посоветовала Олива вернуться домой, чтобы не возбуждать недоверия у своего покровителя. Она уже узнала, что покровителем этим был Калиостро, и, опасаясь гениального ума этого человека, для успеха своего плана считала необходимым соблюдение глубочайшей тайны.
Олива раскрыла свою душу, рассказала про Босира, про полицию.
Жанна выдала себя за девушку из знатного дома, живущую с любовником, втайне от семьи.
Одна узнала все, другая – ничего; вот какова была дружба, в которой поклялись друг другу эти женщины.
Начиная с этого дня им не нужно было более ни арбалета, ни клубка ниток: у Жанны был свой ключ. Она заставляла Олива спускаться вниз, когда хотела.
Вкусный ужин и тайная прогулка – вот каковы были приманки, на которые охотно шла Олива.
– Что, господин де Калиостро ничего не подозревает? – спрашивала порой с беспокойством Жанна.
– Он? Право, если бы я сама ему это сказала, он и то не поверил бы, – отвечала Олив!
Через неделю эти ночные вылазки из дому сделались для Олива привычкою, потребностью и даже удовольствием. Через какую-нибудь неделю Олива повторяла имя Жанны гораздо чаще, чем прежде имена Жильбера и Босира.








