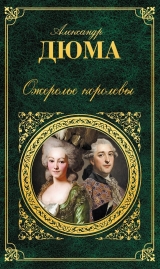
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 61 страниц)
"И все это я держу в своих руках! Как это тяжело и как легко! Чтобы увезти золотом, драгоценным металлом, то, что стоит этот футляр, мне бы понадобилась пара лошадей. Чтобы увезти ценными бумагами… А эти бумаги разве всегда превращаются в золото? Необходимы подписи, контроль… Да притом это все-таки только бумага: огонь, воздух, вода – все может уничтожить ее. Эта бумага не имеет хождения по всей стране; она выдает свое происхождение, она раскрывает имя своего автора, имя своего предъявителя. Через некоторое время она теряет часть своей стоимости или вовсе обесценивается. Бриллианты же, наоборот, вещество прочное, способное противостоять всему; каждый их знает, ценит, любит и покупает – в Лондоне, Берлине, Мадриде, даже в Бразилии. Все понимают, что такое бриллиант, особенно бриллиант такого размера и такой воды, как эти! Как они прекрасны! Как восхитительны! Как хороши они и все вместе, и каждый сам по себе! Если их разрознить, они с учетом их размера, может быть, будут стоить дороже, чем стоят собранные вместе!"
– Но о чем же я думаю? – вдруг сказала она. – Решим скорее, идти к кардиналу или возвратить ожерелье Бёмеру, как мне поручила королева.
Она поднялась, продолжая держать горевшие тысячью огней бриллианты, которые вспыхивали и сияли у нее в руке.
"Итак, они вернутся к бесстрастному ювелиру, который их взвесит и примется чистить своей щеточкой. А они могли бы красоваться на шее Марии Антуанетты… Бёмер сначала запротестует, а потом успокоится, сообразив, что он наживет на этой операции, не выпуская из рук товара… Ах, я забыла самое главное – в каких выражениях должна быть написана расписка ювелира? Это очень важно; да, для того чтобы составить ее надлежащим образом, нужно немало дипломатии. Необходимо, чтобы текст не налагал никакого обязательства ни на Бёмера, ни на королеву, ни на кардинала, ни на меня.
Я никогда не сумею составить такую бумагу. Мне необходим совет…
Кардинал… О нет! Если бы он меня любил сильнее или был богаче и дарил мне бриллианты…"
Она уселась на софу; бриллианты обвивали ее руку; голова ее горела, в мозгу проносились какие-то неясные мысли, порой приводившие ее в ужас, так что она их отгоняла с лихорадочной энергией.

Но вот взгляд ее стал спокойнее и неподвижнее; он, казалось, был сосредоточен на какой-то неизменной мысли; она не замечала, что время бежит; что в ней зарождается непоколебимая смелость; что, подобно пловцам, поставившим ногу на тинистое дно, всяким движением, которое она делала, желая освободиться, она погружается еще глубже. В таком безмолвном и глубоком созерцании таинственной цели прошел целый час.
Наконец она поднялась, побледнев, как жрица в минуту экстаза, и позвонила горничной:
Было два часа ночи.
– Найдите мне фиакр, – сказала она, – или ручную тележку, если нет экипажа.
Служанка разыскала фиакр, сонно застывший на старой улице Тампля. Госпожа де Ламотт села в экипаж одна, отослав горничную.
Через десять минут фиакр остановился у двери сочинителя памфлетов Рето де Билета.
IVРАСПИСКА БЁМЕРА И ПИСЬМО КОРОЛЕВЫ
Результат этого ночного посещения памфлетиста Рето де Билета сказался только на другой день, и вот каким образом.
В семь часов утра г-жа де Ламотт переслала королеве письмо, в которое была вложена расписка ювелиров. Этот важный документ гласил:
"Мы, нижеподписавшиеся, сим удостоверяем, что получили обратно проданное королеве за миллион шестьсот тысяч ливров бриллиантовое ожерелье, ввиду того что бриллианты не понравились королеве; ее величество нас вознаградила за наши хлопоты и издержки, оставив в нашу пользу ранее врученную нам сумму в двести пятьдесят тысяч ливров.
Подписано: Бёмер и Боссанж".
Королева, успокоившись относительно дела, так долго тревожившего ее, спрятала расписку в шифоньерку и перестала о ней думать.
Но странным противоречием этой расписке стал два дня спустя визит к ювелирам Бёмеру и Боссанжу кардинала де Рогана, который по-прежнему с некоторым беспокойством думал о взносе первого платежа согласно договоренности королевы с ювелирами.
Господин де Роган нашел Бёмера в его доме на Школьной набережной. Утром истекал срок первого взноса, и в случае задержки или отказа королевы в стане ювелиров должна была царить тревога.
Но все в доме Бёмера, наоборот, дышало спокойствием, и г-н де Роган был счастлив увидеть приветливые лица слуг и ластившуюся к нему, виляющую хвостом собаку.
Бёмер принял своего высокого клиента с пространными изъявлениями приветствия, указывавшими на полное внутреннее удовлетворение.
– Ну, – сказал кардинал, – сегодня срок платежа. Значит, королева уплатила?
– Нет, монсеньер, – ответил Бёмер. – Ее величество не могла дать нам денег. Вы знаете, что король отказал господину де Калонну. Все об этом говорят.
– Да, Бёмер, все об этом говорят, и именно этот отказ привел меня сюда.
– Но, – продолжал ювелир, – ее величество исполнена великодушия и доброй воли. Не будучи в состоянии заплатить, она дала нам гарантию уплаты, а большего нам и не надо.
– А, тем лучше, – воскликнул кардинал, – она дала вам гарантию, говорите вы? Это очень хорошо, но… как?
– Самым простым, деликатным и истинно королевским способом, – ответил ювелир.
– Может быть, через посредство этой хитроумной графини?
– Нет, монсеньер, нет. Госпожа де Ламотт даже не появилась, и мы, Боссанж и я, очень польщены такой деликатностью ее величества.
– Не появилась! Графиня не появилась?.. Но будьте уверены тем не менее, что она во многом причастна к этому, господин Бёмер. Все удачные решения наверняка исходят от графини. Вы понимаете, что я не умаляю достоинств ее величества…
– Монсеньер, вы можете судить, насколько ее величество поступила деликатно и великодушно по отношению к нам. Когда распространился слух об отказе короля подписать ассигновку в пятьсот тысяч ливров, мы написали госпоже де Ламотт.
– Когда?
– Вчера, монсеньер.
– Что же она ответила?
– Вашему преосвященству ничего об этом не известно? – спросил Бёмер с неуловимым оттенком почтительной фамильярности.
– Нет, вот уже три дня, как я не имел чести видеть госпожу графиню, – тоном истинного вельможи ответил принц.
– Так вот, монсеньер, госпожа де Ламотт ответила единственным словом: "Подождите!"
– Письменно?
– Нет, монсеньер, устно. В нашем письме мы просили госпожу де Ламотт испросить нам аудиенцию у вас и предупредить королеву, что срок платежа приближается.
– Слово "подождите" было вполне естественным, – заметил кардинал.
– Поэтому мы и стали ждать, монсеньер, и вчера вечером получили письмо от королевы через весьма таинственного посланного.
– Письмо? Вам, Бёмер?
– Или скорее, расписку по всей форме, монсеньер.
– Покажите мне ее, – сказал кардинал.
– О, я показал бы ее вам, если бы мы, мой компаньон и я, не дали друг другу клятвенного обещания никому ее не показывать.
– Почему же?
– Потому что эта скромность вменена нам в обязанность самой королевой, монсеньер: поймите, ее величество просит нас хранить это в тайне.
– Это дело другое. На вашу долю, господа ювелиры, выпало большое счастье: получать письма от королевы.
– За миллион триста пятьдесят тысяч ливров, монсеньер, – посмеиваясь, сказал ювелир, – можно получить и…
– Некоторые вещи, сударь, не оплатить ни десятью, ни ста миллионами, – сурово возразил прелат. – Итак, вы получили гарантию?
– Насколько это возможно, монсеньер.
– Королева признает долг?
– Вполне и по всей форме.
– И обязуется уплатить…
– Через три месяца пятьсот тысяч ливров; остальное в течение полугодия.
– А… проценты?
– О, монсеньер, они обеспечены нам одной фразой ее величества: "Пусть это дело останется между нами", – милостиво пишет ее величество. "Между нами"; ваше высокопреосвященство несомненно понимает такую просьбу? "Вы не раскаетесь в этом". И ее подпись! Отныне, вы видите, монсеньер, это дело становится для меня и для моего компаньона делом чести.
– Теперь я в расчете с вами, господин Бёмер, – сказал обрадованный кардинал. – Надеюсь вскоре вновь иметь с вами дело.
– Как только монсеньер соблаговолит почтить нас своим доверием.
– Но не забывайте, что милая графиня приложила руку к этому делу…
– Мы весьма признательны госпоже де Ламотт, монсеньер, и господин Боссанж и я, мы уже условились отблагодарить ее за доброту, когда полная стоимость ожерелья будет уплачена нам наличными деньгами.
– Замолчите, замолчите! – воскликнул кардинал. – Вы меня не поняли.
И он сел в карету, сопровождаемый выражениями почтения всего дома.
Теперь можно сбросить маску. Ни для кого из читателей уже не осталось покрывала на статуе Тайны. Умысел Жанны де Ламотт против своей благодетельницы понял каждый, видя, что она прибегла к перу памфлетиста Рето де Билета. Нет больше беспокойства у ювелиров, нет больше сомнений у королевы, нет больше подозрений у кардинала. Три месяца отпущены на совершение кражи и преступления; за эти три месяца зловещие плоды достаточно созреют, чтобы злодейская рука сорвала их.
Жанна возвратилась к г-ну де Рогану, который спросил ее, как удалось королеве настолько смягчить требования ювелиров.
Госпожа де Ламотт отвечала, что королева посвятила ювелиров в свои частные дела, обязав их хранить тайну; что королева должна избегать огласки, даже когда расплачивается за что-нибудь, тем более когда она просит открыть ей кредит.
Кардинал признал, что она права, и тут же спросил, помнит ли еще королева о его благих намерениях.
Жанна в таких ярких красках изобразила ему признательность королевы, что г-н де Роган пришел в восторг, польщенный скорее в своих чувствах поклонника, чем верноподданного, польщенный скорее в своей гордости, чем в своей преданности.
Придав разговору нужный оборот, Жанна затем решила мирно вернуться домой, вступить в переговоры с каким-нибудь торговцем драгоценностями, продать бриллиантов на сто тысяч экю и уехать в Англию или Россию – свободные страны, где она могла бы на эту сумму жить богато в течение пяти или шести лет; после этого, не опасаясь преследований, она начала бы выгодно продавать в розницу оставшиеся камни.
Но не все вышло по ее желанию. В первый же раз, как она показала бриллианты двум знатокам камней, удивление и сдержанность этих аргусов испугали графиню. Один предлагал ничтожную сумму, а другой слишком восторгался камнями, говоря, что он никогда не видал подобных бриллиантов, кроме как в ожерелье Бёмера.
Жанна задумалась. Еще один шаг, и она выдаст себя. Она поняла, что в подобном случае неосторожность означала крушение, а крушение – позорный столб и пожизненную тюрьму. Спрятав бриллианты в самый глубокий из своих тайников, она решила запастись таким верным орудием для обороны, таким грозным оружием для нападения, чтобы в случае войны ее противники были повержены, даже не вступив в бой.
Лавировать между желанием кардинала все знать, с одной стороны, и откровенностью королевы, которая всегда гордилась бы тем, что отказалась от ожерелья, – с другой, представляло страшную опасность. Стоило королеве и кардиналу обменяться двумя словами – и все бы раскрылось. Жанна успокаивала себя мыслью, что у кардинала, влюбленного в королеву, была, как и у всех влюбленных, повязка на глазах, и, следовательно, он непременно попадет во все ловушки, которые расставит ему хитрость под видом любви.
Но такую ловушку надо было поставить искусной рукой, чтобы захватить в нее обе заинтересованные стороны. Нужно было устроить так, что, если бы королева раскрыла кражу, она не посмела бы жаловаться, а если бы кардинал открыл обман, то почувствовал бы себя погибшим. Надо было направить удар против двух противников, на стороне которых уже заранее были симпатии зрительного зала.
Жанна не отступила. Она принадлежала к числу тех неустрашимых натур, которые в своих злодеяниях доходят до героизма и самое добро могут обратить во зло. Отныне она исключительно была занята одной мыслью: как помешать встрече королевы с кардиналом.
Пока она, Жанна, будет между ними – ничто не потеряно; если же за ее спиной они обменяются хотя бы одним словом, оно погубит благоденствие ее будущего, основанное на безгрешности ее прошлого.
– Они больше не увидятся, – сказала она. – Никогда.
"Однако, – возражала она себе, – кардинал захочет увидеться с королевой, станет делать к тому попытки.
Не будем дожидаться этого, – думала хитрая графиня, – внушим ему эту мысль. Он должен пожелать ее увидеть… Пусть попросит ее принадлежать ему, пусть скомпрометирует себя этой просьбой.
Да, но если скомпрометирован будет только он один?"
Мысль эта возбуждала в ней мучительную растерянность.
Если будет скомпрометирован он один, то у королевы останется выход: ведь ее голос звучит так громко, она так прекрасно умеет срывать личину с обманщиков!
Что делать? Чтобы королева не могла обвинять, надо устроить так, чтобы она не смела открыть рта; чтобы закрыть эти смелые и благородные уста, надо замкнуть их обвинением.
Не смеет обвинять перед судом своего слугу в краже тот, кто может быть уличен этим же слугой в преступлении, столь же порочащем, как и кража. Пусть только г-н де Роган будет скомпрометирован в глазах королевы, и можно почти наверное поручиться, что и королева будет скомпрометирована в глазах г-на де Рогана. Лишь бы случайность не свела вместе эти два лица, заинтересованные в том, чтобы раскрылась истина.
Сначала Жанна отступила было перед громадностью скалы, которую сама воздвигала над своей головой. Жить с замирающим в груди дыханием, в вечном страхе, ожидая, что скала обрушится! Да, но как избегнуть этого ужаса? Бежать, скрыться в изгнании, увезти в чужие страны бриллианты ожерелья королевы?
Бежать! Это легко. Хороший экипаж доедет за десять часов – время, нужное Марии Антуанетте, чтобы хорошенько выспаться; промежуток, отделяющий ужин кардинала с друзьями от его утреннего пробуждения. Лишь бы раскинулась перед Жанной широкая дорога, лишь бы помчались по ней в бесконечную даль горячие лошади – больше ничего не нужно. Десять часов – и Жанна будет свободной, здоровой, спасенной.
Но какой скандал! Какое бесчестье! Сбежавшая, хотя свободная; в безопасности, хотя изгнанная, – Жанна уже не знатная дама, а воровка, осужденная заочно; правосудие не настигло ее, но обличило; железо палача не выжгло на ней клейма, но общественное мнение треплет и уничтожает ее.
Нет. Она не убежит. Высшая дерзость и высшая ловкость подобны двум вершинам Атласа, похожим на близнецов. Одна ведет к другой, одна стоит другой. Кто видит одну, видит и другую.
Жанна решила выбрать дерзость и остаться. Это решение особенно окрепло в ней, когда она увидела возможность создать угрозу как для королевы, так и для кардинала на тот случай, если бы тому или другому вздумалось заметить, что в их тесном кругу была совершена кража.
Жанна задала себе вопрос: сколько могут принести ей за два года милость королевы и любовь кардинала? И оценила доход от этих двух удач в пятьсот или шестьсот тысяч ливров; а затем на смену милостям, известности и расположению придут отвращение, опала и забвение.
"На моем плане я выиграю семьсот-восемьсот тысяч ливров", – сказала себе графиня.
Мы увидим далее, как эта непостижимая душа проложила извилистый путь, который должен был провести ее к позору, а других к отчаянию.
Остаться в Париже, подвела итог графиня, и держаться стойко, помогая игре обоих актеров; заставлять их играть лишь те роли, которые полезны для ее интересов; выбрать среди удачных моментов наиболее благоприятный для бегства, будь то какое-нибудь поручение королевы, будь то подлинная немилость, которой надо будет немедленно воспользоваться.
Помешать кардиналу когда-либо увидеться с Марией Антуанеттой.
В этом-то особенная трудность: ведь г-н де Роган влюблен, он принц, он имеет право являться к ее величеству много раз в году; а королева кокетлива, жаждет поклонения и к тому же признательна кардиналу; она не станет уклоняться от встречи, если тот будет ее искать.
Средство разъединить две высокие особы дадут обстоятельства. Помочь этим обстоятельствам.
Самым удачным и ловким было бы возбудить в королеве гордость – этот венец целомудрия. Нет никакого сомнения, что несколько пылкая попытка кардинала оскорбит чуткую и обидчивую женщину. Такие натуры, как королева, любят поклонение, но боятся энергичного нападения и всегда отвергают его.
Да, это средство верное. Посоветовав г-ну де Рогану свободно объясниться в любви, вызвать в Марии Антуанетте отвращение, антипатию, которые навсегда отдалят не принца от принцессы, но мужчину от женщины, самца от самки. Таким способом приобрести оружие против кардинала и парализовать все его маневры в великий день начала военных действий.
Пусть так. Но еще раз: вызвать у королевы отвращение к кардиналу – значит нанести удар только по кардиналу; это значит предоставить добродетели королевы сиять по-прежнему, то есть отпустить на волю эту принцессу, предоставить ей ту свободу высказываний, которая облегчает любое обвинение, подкрепляя его весомостью власти.
Что нужно – так это улику против г-на де Рогана и против королевы; нужен обоюдоострый меч, разящий направо и налево; разящий, едва его выхватят из ножен; разящий, рассекая сами ножны.
Что нужно – так это обвинение, которое заставило бы побледнеть королеву, которое заставило бы покраснеть кардинала; обвинение, которое, распространившись, оградило бы от чьих угодно подозрений Жанну, наперсницу двух главных виновников.
Что нужно – так это комбинацию, под защитой которой Жанна могла бы при случае сказать: "Не обвиняйте меня, или я обвиню вас; не губите меня, или я погублю вас. Сохраните мне мое богатство – я сохраню вам честь".
"Да, тут стоит постараться, – подумала коварная графиня, – и я постараюсь. Мое время отныне оплачено".
И в самом деле, г-жа де Ламотт зарылась в мягкие подушки, подвинулась ближе к окну, нагретому ласковым солнцем, и перед лицом Бога и его светила углубилась в размышления.
VПЛЕННИЦА
Пока графиня была охвачена волнениями и задумчивостью, на улице Сен-Клод, напротив жилища Жанны, происходила сцена иного рода.
Господин де Калиостро, как помнит читатель, поселил в прежнем особняке Бальзамо беглянку Олива, преследуемую полицией г-на де Крона.
Мадемуазель Олива, сильно напуганная, рада была возможности скрыться разом от полиции и от Босира; теперь она жила уединенно, спрятанная, дрожащая, в этом таинственном жилище, скрывавшем столько ужасных драм, увы, более ужасных, чем трагикомическое приключение мадемуазель Николь Леге.
Калиостро окружил ее заботой и предупредительностью. Молодой женщине нравилось покровительство этого знатного вельможи, который ничего не требовал, но, по-видимому, многого от нее ожидал.
Однако на что он надеялся? Вот о чем тщетно спрашивала себя затворница.
Для мадемуазель Олива г-н де Калиостро, этот человек, укротивший самого Босира и посрамивший полицейских агентов, был настоящим богом-спасителем. К тому же он был сильно в нее влюблен, ибо был почтителен.
Самолюбие Олива не допускало мысли, что Калиостро может иметь на нее другие виды, кроме как сделать ее со временем своей любовницей.
Для женщин, утративших добродетель, ее заменяет вера в то, что их могут любить почтительно. Вяло, бесплодно, мертво сердце, которое не рассчитывает больше на любовь и на почтение, сопровождающее любовь.
Итак, Олива в глубине своего убежища принялась строить воздушные замки, химерические замки, где, надо признать, весьма редко находилось место для бедняги Босира.
Когда по утрам она, надев на себя все украшения, которыми Калиостро заполнил ее туалетную комнату, разыгрывала знатную даму и воспроизводила во всех нюансах роль Селимены, она жила одним – тем часом, в который Калиостро дважды в неделю являлся осведомиться, хорошо ли ей живется.
Тогда в своей красивой гостиной, среди роскоши материальной и роскоши духовной, малютка в упоении признавалась себе, что вся ее прошлая жизнь состояла из разочарований и ошибок, что, вопреки утверждению моралиста "Добродетель приводит к счастью", именно счастье неминуемо приводит к добродетели.
К сожалению, в здании этого счастья недоставало одного элемента, необходимого для его прочности.
Олива была счастлива, но она скучала.
Книги, картины, музыкальные инструменты мало ее развлекали. Содержание книг не было достаточно фривольно, а те, что были нескромными, она перечитала слишком быстро. Картины остаются одними и теми же для того, кто раз уже видел их (это суждение Оливы, а не наше), а музыкальные инструменты только скрипят, а не поют под неумелыми руками.
Надо признаться, что Олива скоро стала страшно томиться от своего счастья и нередко со слезами сожаления вспоминала о приятных утренних часах в былое время у окна на улице Дофины, когда она, магнетизируя взглядом улицу, заставляла всех прохожих поднимать головы.
А как приятны были прогулки по кварталу Сен-Жермен, когда кокетливая туфелька на каблуке в два дюйма высотой придавала ступне такой сладострастный изгиб! Каждый шаг прогуливающейся красавицы был триумфом; у восхищенных прохожих невольно вырывались возгласы – то испуга при мысли, что она может оступиться, то вожделения, когда ножка открывалась выше подъема.
Вот о чем думала Николь, сидя взаперти. Правда, что агенты господина начальника полиции были очень страшные люди; правда, что исправительное заведение, где женщины влачат свои дни в печальном и постыдном заточении, был много хуже кратковременного и роскошного плена на улице Сен-Клод. Но стоит ли быть женщиной, с правом на прихоти, если не имеешь возможности иногда бунтовать против добра и превращать его во зло хотя бы в мечтах?
К тому же, человеку скучающему все скоро начинает рисоваться в мрачных красках. Николь после сожалений о прежней свободе стала тосковать по Босиру. Надо сознаться, что женщины ничуть не изменились с того времени, когда дочери Иуды накануне брака по любви отправлялись в горы оплакивать свое девство.
Мы дошли до дня печали и гнева, когда для Оливы, лишенной всякого общества, всяких зрелищ вот уже две недели, начался самый тяжелый период тоски.
Перепробовав все занятия, не смея ни подойти к окну, ни выйти из дома, она стала терять аппетит желудка, но не аппетит воображения; наоборот, последний возрастал по мере того, как уменьшался первый.
В такую минуту душевной тревоги ее неожиданно в неурочный день навестил Калиостро.
По своему обыкновению, он вошел через калитку дома и, миновав недавно разбитый садик во дворе, подошел к ставням помещения, занятого Олива, и постучал в них.
Четыре удара с некоторыми промежутками должны были, как было условлено, служить для молодой женщины сигналом, по которому она отодвигала задвижку: она сочла не лишним потребовать ее, чтобы оградить себя от посетителя, снабженного ключами.
Олива не подумала, что предосторожности могут оказаться бесполезными для охраны добродетели, которая подчас ее тяготила.
По сигналу, данному Калиостро, она открыла задвижку с быстротою, которая ясно свидетельствовала о том, как нужен ей собеседник.
С живостью, свойственной парижской гризетке, она бросилась навстречу своему благородному тюремщику, чтобы приласкаться, и сердито, хрипло, отрывисто воскликнула:
– Сударь, я скучаю, знайте это!
Калиостро посмотрел на нее и слегка покачал головой.
– Вы скучаете, – сказал он, притворяя дверь, – увы, милое дитя мое, скука – противная болезнь.
– Я себе здесь опротивела. Я здесь умираю.
– В самом деле?
– Да, у меня появляются дурные мысли.
– Ну-ну, успокойтесь, – заговорил граф таким тоном, как будто успокаивал болонку, – если вам здесь нехорошо, то не гневайтесь слишком за это на меня. Приберегите весь свой гнев для господина начальника полиции, вашего врага.
– Вы меня выводите из себя своим хладнокровием, сударь, – сказала Олива. – По мне, любой гнев лучше всех этих нежностей… Вы всегда находите средство успокоить меня, и это-то меня бесит.
– Сознайтесь, мадемуазель, что вы несправедливы, – ответил Калиостро, усаживаясь поодаль от Олива, с той почтительно-равнодушной манерой, которая так хорошо удавалась ему в обращении с ней.
– Вам хорошо говорить! – сказала она. – Вы ходите куда угодно, дышите воздухом; ваша жизнь состоит из множества удовольствий, которые вы выбираете по собственному желанию… Я же прозябаю в пространстве, которым вы меня ограничили… Я не дышу, а трепещу. Я вас предупреждаю, сударь, что ваша поддержка окажется бесполезной для меня, если она даже не в состоянии мне помешать умереть.
– Умереть! Вам! – улыбаясь сказал граф. – Полноте!
– Я вам повторяю, что вы очень дурно со мной поступаете… Вы забываете, что я глубоко, страстно люблю одного человека.
– Господина Босира?
– Да, Босира. Я вам говорю, что люблю его. Мне кажется, что я этого никогда от вас не скрывала. Уж не вообразили ли вы себе, что я забуду своего милого Босира?
– Я не только не вообразил себе этого, но даже употребил все мыслимые средства, чтобы узнать о нем, и пришел к вам с новостями.
– Ах! – воскликнула Олива.
– Господин де Босир, – продолжал Калиостро, – очень милый молодой человек.
– Я думаю! – сказала Олива, не понимая, к чему клонит Калиостро свою речь.
– Он молод и красив.
– Не правда ли?
– С пылким воображением.
– Полон огня… Немного груб со мной. Но… кто сильно любит, тот и сильно наказует.
– Золотые слова. У вас столько же сердца, сколько ума, столько же ума, сколько красоты; и я, зная это и интересуясь всеми сердечными влечениями на этом свете – это у меня мания, – задумал устроить вам свидание с господином де Босиром.
– Месяц тому назад вы не высказывали подобного желания, – проговорила Олива, натянуто улыбаясь.
– Послушайте же, милое дитя мое, всякий галантный человек, видя перед собой хорошенькую женщину, старается понравиться ей, если он свободен, как я. Но сознайтесь, что если я чуточку и приударил за вами, то это продолжалось недолго.
– Да, правда, – тем же тоном подтвердила Олива, – это длилось четверть часа, не более.
– Вполне естественно, что я должен был отказаться, когда увидел, как горячо вы любите господина де Босира.
– О, не насмехайтесь надо мной!
– Нет, клянусь честью! Вы оказали такое стойкое сопротивление.
– Не правда ли? – воскликнула Олива в восторге от того, что ее уличили в таком проступке, как противодействие. – Да, сознайтесь, что я давала отпор!
– Это было следствием вашей любви, – флегматично проговорил Калиостро.
– Зато ваша любовь, – быстро возразила Олива, – была не особенно упорна.
– Я не настолько стар, не настолько уродлив, не настолько глуп и не настолько беден, чтобы сносить отказы или рисковать потерпеть поражение, мадемуазель; вы всегда предпочли бы господина де Босира мне, я это чувствовал и примирился с этим.
– О нет, – возразила кокетка, – вовсе нет. А те пресловутые товарищеские отношения, которые вы предложили мне… Помните? Право ходить со мною под руку, навещать меня, ухаживать за мной с добрыми намерениями, – разве в этом не таилось маленькой толики надежды?
И с этими словами коварная молодая особа направила весь огонь своих глаз, слишком долго остававшихся в бездействии, на посетителя, попавшего, как ей казалось, в ловушку.
– Должен признаться, – ответил Калиостро, – что вы обладаете такой проницательностью, от которой ничего не ускользает.
И он, точно опасаясь быть испепеленным двойной струей огня, бьющей из глаз Оливы, с притворным смущением опустил глаза.
– Вернемся к Босиру, – сказала она, уязвленная неподвижностью графа, – что он делает, где находится, мой дорогой друг?
Калиостро взглянул на Олива с притворной робостью.
– Я ведь сказал вам, – отвечал он, – что хочу соединить вас с ним.
– Нет, вы этого не говорили, – с пренебрежением пробормотала она, – но, поскольку вы мне теперь сказали, я приму это к сведению. Продолжайте. Почему вы не привели его? Так было бы милосердно. Ведь он-то свободен.
– Потому, – ответил Калиостро, не удивляясь этой иронии, – что господин де Босир, который, как и вы, слишком умен, также устроил себе маленькую историю с полицией.
– Также! – воскликнула Олива, бледнея, потому что на этот раз она почувствовала что-то похожее на правду.
– Также! – вежливо повторил Калиостро.
– А что же он сделал? – спросила упавшим голосом молодая женщина.
– Премилую шалость, чрезвычайно остроумный фокус… Я бы назвал это шуткой; но люди угрюмого нрава, вроде господина де Крона, – вы знаете, какой у него тяжелый характер, у этого господина де Крона? – называют это кражей.
– Кражей! – воскликнула Олива. – Боже мой!
– Во всяком случае кража красивая, что доказывает, насколько у этого бедного Босира развит вкус ко всему прекрасному.
– Сударь… сударь… он арестован?
– Нет, но его приметы повсюду разосланы.
– Вы можете поклясться, что он не арестован и ему не грозит опасность?
– Я могу дать вам клятву, что он не арестован, но по поводу последнего вашего вопроса, я ни за что не ручаюсь. Вы сами понимаете, милое дитя, что когда даны приметы какого-нибудь лица, то за ним следят или, по крайней мере, его разыскивают; господину де Босиру, при его наружности, манерах и всех его достаточно известных качествах, стоит только показаться, и он сейчас же будет выслежен полицейскими ищейками. Подумайте, какой богатый улов получил бы господин де Крон… Захватить вас через господина де Босира, а господина де Босира через вас!
– Ах да, да, ему надо спрятаться! Бедняга! Я тоже куда-нибудь укроюсь. Дайте мне возможность бежать из Франции, сударь. Постарайтесь оказать мне эту услугу, потому что здесь, взаперти, задыхаясь без воздуха, я рано или поздно не устою перед искушением и допущу какую-нибудь неосторожность.
– Что вы называете неосторожностью, милая барышня?
– Ну… показаться в окне, подышать воздухом.
– К чему такое преувеличение, друг мой? Вы и так уже очень бледны и в конце концов можете совершенно потерять свое цветущее здоровье. Господин де Босир разлюбит вас. Нет, дышите воздухом сколько вам угодно; доставьте себе удовольствие полюбоваться прохожими.
– Ну вот, – воскликнула Олива, – вы рассердились на меня и тоже хотите покинуть меня! Я стесняю вас?
– Меня? Вы с ума сошли! Почему вы можете стеснить меня? – спросил он с ледяной серьезностью.
– Потому что… человек, которому приглянулась женщина, человек значительный, как вы, вельможа, обладающий такой красивой внешностью, вправе раздражаться и даже проникнуться отвращением, если какая-нибудь сумасшедшая, вроде меня, оттолкнет его. О, не покидайте меня, не губите меня, не питайте ко мне ненависти, сударь!
И молодая женщина с испугом, сменившим кокетство, обвила руками шею Калиостро.
– Бедняжка! – сказал он, запечатлев чистый поцелуй на лбу Олива. – Как она испугалась! Не будьте такого дурного мнения обо мне, дитя мое. Вам угрожала опасность – я вам оказал услугу; у меня были виды на вас – я от них отказался, вот и все. Мне незачем выказывать к вам ненависть, как вам незачем предлагать мне свою признательность. Я действовал ради себя, вы тоже; мы квиты.








