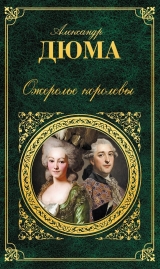
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 61 страниц)
ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ
Между тем королева подошла прямо к креслу Шарни.
Больной поднял голову, услышав стук каблуков по паркету.
– Королева! – прошептал он, пытаясь встать.
– Да, королева, сударь, – поспешно сказала Мария Антуанетта, – королева, которой известно, как старательно вы теряете тут рассудок и жизнь; королева, которую вы оскорбляете в своих сновидениях; королева, которую вы оскорбляете наяву; королева, которая заботится о своей чести и о вашей безопасности! Вот почему она пришла к вам, сударь, и не так вы должны были бы встретить ее.
Шарни поднялся, весь дрожа, в полном смущении; при последних словах королевы он упал на колени, настолько раздавленный физическими и нравственными страданиями, что, виновато склонясь, и не мог, и не хотел подняться.
– Может ли быть, – продолжала королева, тронутая этим почтением и молчанием, – может ли быть, чтобы дворянин, который прежде считался одним из самых верных, стал, как враг, посягать на доброе имя женщины? Заметьте, господин де Шарни, что с самой первой нашей встречи та, которую вы увидели, та, что предстала перед вами, не была королевой, она была женщиной, и вы никогда не должны этого забывать.
Шарни, увлеченный этими словами, вырвавшимися из сердца, хотел попытаться произнести хотя бы слово в свою защиту, но Мария Антуанетта не дала ему на это времени.
– Что же станут делать мои враги, – продолжала она, – если вы подаете пример предательства?
– Предательства… – прошептал Шарни.
– Сударь, извольте выбирать. Или вы безумец – и тогда я лишу вас возможности делать зло; или вы предатель – и тогда я накажу вас.
– Ваше величество, не говорите, что я предатель. В устах королей это обвинение предшествует смертному приговору, в устах женщины оно покрывает человека позором. Как королева убейте меня, но как женщина пощадите.
– В здравом ли вы уме, господин де Шарни? – изменившимся голосом спросила королева.
– Да, ваше величество.
– Сознаете ли вы свою вину по отношению ко мне и свое преступление против… короля?
– Боже мой! – прошептал несчастный.
– Потому что вы все, господа дворяне, слишком легко забываете, что король – супруг той женщины, которую вы все оскорбляете, осмеливаясь поднимать на нее глаза; король – отец вашего будущего государя, моего дофина. Король выше и лучше вас всех, это человек, которого я почитаю и люблю.
– О, – прошептал Шарни с глухим стоном; чтобы не упасть, он должен был опереться одной рукой о паркет.
Стон Шарни пронзил сердце королевы. В угасшем взоре молодого человека она прочла, что полученный им удар станет смертельным, если она тотчас же не вырвет из раны пущенную ею стрелу.
Вот почему, будучи милосердной и доброй, королева испугалась бледности и слабости виновного; был момент, когда она готова была позвать на помощь.
Но, сообразив, что доктор и Андре неправильно истолкуют этот обморок Шарни, она подняла его собственноручно и сказала:
– Поговорим: я – как подобает королеве, вы – как подобает мужчине. Доктор Луи пытался вас вылечить; эта рана, которая была пустяком, становится все серьезнее вследствие неуравновешенности ваших мыслей. Когда же эта рана излечится? Когда вы перестанете доставлять доброму доктору неприличное зрелище безумия, вызывающего в нем тревогу? Когда вы уедете из дворца?
– Ваше величество, – прошептал Шарни, – вы прогоняете меня… я ухожу, я ухожу.
Он сделал такое порывистое движение к двери, что потерял равновесие и, покачнувшись, упал прямо на руки королевы, стоявшей на его пути.
Едва только он почувствовал прикосновение горячей груди, остановившей его падение, едва оказался в невольном объятии поддерживавших его рук, как рассудок совершенно оставил его, губы открылись, из них вырвался пламенный вздох, который не был словом и не дерзал быть поцелуем.
Королева, взволнованная этим прикосновением и смягченная этой слабостью, едва успела опустить неподвижное тело в кресло и хотела убежать. Но голова Шарни откинулась назад; она билась о спинку кресла, на губах показалась розоватая пена, а со лба на руку Марии Антуанетты упала теплая красноватая капля.
– О, тем лучше, – прошептал он, – тем лучше! Я умираю, убитый вами.
Королева забыла обо всем. Она опять подошла к нему, обняла его, прижала его безжизненную голову к своей груди и приложила холодную как лед руку к сердцу молодого человека.
Любовь сделала чудо. Шарни воскрес. Он открыл глаза: сознание вернулось к нему. Женщина ужаснулась при мысли, что оставляет воспоминание там, где хотела сказать последнее "прости".
Она сделала три шага к двери с такой поспешностью, что Шарни едва успел удержать ее за край платья, воскликнув:
– Ваше величество, во имя моего благоговения перед Богом, хотя оно меньше моего благоговения перед вами…
– Прощайте, прощайте! – сказала королева.
– Ваше величество, о, простите меня!
– Я прощаю вас, господин де Шарни.
– Ваше величество, один последний взгляд.
– Господин де Шарни, – сказала королева, дрожа от волнения и гнева, – если вы не худший из людей, то сегодня вечером или завтра утром вы либо умрете, либо оставите этот дворец.
Когда королева приказывает такими словами – она просит. Шарни в экстазе сложив руки, на коленях подполз к ногам Марии Антуанетты.

Она уже открыла дверь, чтобы скорее убежать от опасности.
Андре, с самого начала разговора не спускавшая жадного взгляда с этой двери, увидела молодого человека коленопреклоненным, а королеву – близкой к обмороку; она увидела, что его глаза сияют надеждой и гордостью, между тем как померкшие глаза королевы потуплены.
Пораженная в самое сердце, отчаявшаяся, полная ненависти и презрения, Андре все же не склонила голову. Когда она смотрела на возвращавшуюся королеву, ей казалось, что Господь излишне щедро одарил эту женщину, дав ей вдобавок трон и красоту: ведь он только что подарил ей эти полчаса с г-ном де Шарни.
Доктор же видел слишком многое, чтобы замечать подробности.
Думая только об успехе переговоров, предпринятых королевой, он ограничился вопросом:
– Ну что, ваше величество?
Королеве понадобилась целая минута, чтобы прийти в себя и вновь обрести голос, заглушенный ударами ее сердца.
– Что он сделает? – повторил доктор.
– Он уедет, – прошептала королева.
И не обращая внимания на нахмурившую брови Андре и на потиравшего руки Луи, она быстро прошла по коридору, машинально закуталась в накидку с кружевными рюшами и вернулась в свои апартаменты.
Андре пожала руку доктора, который поспешил к своему больному; потом торжественным, как у призрака, шагом она вернулась в свою комнату – с опущенной головой, остановившимся взглядом, без единой мысли.
Она даже не подумала спросить о приказаниях королевы. Для такой натуры, как Андре, королева – ничто, соперница – все.
Шарни, вновь порученный заботам Луи, казался совсем другим человеком, чем накануне.
Стараясь преувеличить свои силы, показывая себя смелым до бахвальства, он обратился к доктору с такими торопливыми и энергичными расспросами о своем выздоровлении, о режиме, которого надо придерживаться, о способе перевозки, что Луи заподозрил еще более опасный рецидив болезни, вызванный новой навязчивой идеей.
Но Шарни скоро вывел его из заблуждения; он был похож на раскаленное в огне железо, краснота которого уменьшается на глазах по мере ослабления огня. Оно черное, и уже ничего не говорит взору; но оно еще достаточно горячо, чтобы истребить все, что к нему поднесут.
Луи видел, что к молодому человеку вернулись спокойствие и здравомыслие. Шарни в самом деле стал так рассудителен, что счел необходимым объяснить медику внезапную перемену своего решения.
– Королева, – сказал он, – пристыдив, исцелила меня больше, чем могла бы это сделать ваша наука, милый доктор, самыми лучшими лекарствами. Видите ли, подействовать на мое самолюбие – значит укротить меня, как укрощают лошадь удилами.
– Тем лучше, тем лучше, – прошептал доктор.
– Да, я помню, один испанец – они ведь все порядочные хвастуны, – говорил мне, желая доказать силу своей воли, как на одной дуэли, на которой он был ранен, ему достаточно было пожелать, чтобы его кровь не текла, так как вид ее доставлял удовольствие его противнику, и она останавливалась. Я смеялся тогда над этим испанцем, а между тем я теперь немного напоминаю его; если бы моя лихорадка и этот бред, который вы мне ставите в упрек, пожелали вернуться, то бьюсь об заклад, что я прогнал бы их, сказав: "Бред и лихорадка, вы больше не появитесь".
– Мы знаем примеры такого явления, – серьезно заметил доктор. – Во всяком случае, позвольте мне вас поздравить. Вы исцелились и душевно?
– Ода!
– В таком случае вы не замедлите увидеть, как велика связь между психическим и физическим миром человека. Это прекрасная теория, и я изложил бы ее в книге, если бы у меня было время. Здоровый духом, вы через неделю выздоровеете и телом.
– Благодарю вас, милый доктор!
– И для начала вы уедете отсюда?
– Когда вам будет угодно. Хоть сию минуту.
– Подождем до вечера, не будем торопиться. Крайности всегда опасны.
– Подождем до вечера, доктор.
– Вы поедете далеко?
– На край света, если нужно.
– Это слишком далеко для первого выезда, – с прежним невозмутимым спокойствием сказал доктор. – Удовольствуемся пока Версалем, а?
– Хорошо, Версалем, если вам это угодно.
– Мне кажется, чтобы вылечиться от раны, незачем высылать вас в чужие страны, – заметил доктор.
Это притворное хладнокровие окончательно заставило Шарни быть настороже.
– Правда, доктор. У меня есть свой дом в Версале.
– Вот то, что нам нужно. Вас туда перенесут сегодня вечером.
– Но вы меня не так поняли, доктор; я собирался объехать свои поместья.
– Так я вам и поверю! Ваши поместья, черт возьми! Но они не на краю же света.
– Они на границе Пикардии, в пятнадцати или восемнадцати льё отсюда.
– Вот как!
Шарни пожал руку доктору, как бы благодаря его за деликатность.
Вечером те же четыре лакея, которых Шарни так грубо выпроводил прежде, донесли его на руках до кареты, ожидавшей у служебных ворот.
Король, проведя весь день на охоте, только что поужинал и лег спать. Шарни, которого несколько беспокоила мысль, что он уедет, не простившись с королем, совершенно успокоился, когда доктор обещал объяснить отъезд больного необходимостью переменить место.
Перед тем как сесть в карету, Шарни доставил себе мучительное удовольствие – смотреть до последней минуты на окна апартаментов королевы. Никто не мог этого увидеть: один из лакеев, несший факел, освещал дорогу, а не лицо молодого человека.
На ступеньках Шарни встретил лишь нескольких своих друзей-офицеров; их предупредили заранее, так что его отъезд не выглядел бегством.
Провожаемый до кареты этими веселыми товарищами, Шарни мог позволить своим глазам бродить по окнам: у королевы они сияли огнями. Ее величество, чувствуя себя не совсем здоровой, принимала своих дам в спальне.
Окна Андре, мрачные и темные, скрывали за складками камковых занавесок женщину, охваченную тревогой и дрожью; оставаясь незамеченной, она следила за каждым движением больного и его свиты.
Наконец карета отъехала, но так медленно, что можно было слышать цокот каждой подковы на гулких плитах.
– Если он не мой, – прошептала Андре, – то, по крайней мере, и ничей теперь.
– Если у него снова явится желание умереть, – говорил, возвращаясь к себе, доктор, – то, по крайней мере, он умрет не у меня и не на моих руках. Черт побери душевные болезни! Я ведь не врач Антиоха и Стратоники, чтобы исцелять такие заболевания.
Шарни доехал до своего дома целым и невредимым. Вечером его пришел навестить доктор и нашел его состояние настолько хорошим, что поспешил заявить: это его последний визит.
Больной поужинал мясом цыпленка и ложкой орлеанского варенья.
На другой день Шарни навестил его дядя, г-н де Сюфрен, потом г-н де Лафайет, наконец, один из придворных, посланный королем. Примерно то же повторилось на следующий день, а затем им перестали интересоваться.
Он начал вставать и выходить в сад.
Через неделю он уже выезжал на спокойной лошади; силы вернулись к нему. Поскольку его дом был все-таки недостаточно уединенным, он попросил врача своего дяди и заочно доктора Луи позволить ему отправиться в свои поместья.
Луи уверенно ответил, что передвижение есть последняя стадия излечения ран, что у г-на де Шарни превосходный экипаж, что дорога в Пикардию ровна, как зеркало, и что оставаться в Версале, имея возможность столь хорошо и столь счастливо путешествовать, было бы безумием.
Шарни велел нагрузить вещами целый фургон, простился с королем, осыпавшим его милостями, и попросил г-на де Сюфрена засвидетельствовать его почтение королеве, которая в тот вечер была нездорова и не принимала. Затем он сел в дорожный экипаж у самых ворот королевского дворца и поехал в городок Виллер-Котре, откуда должен был направиться в замок Бурсон, расположенный в одном льё от этого городка, воспетого в первых стихотворениях Демустье.
XXXIIДВА КРОВОТОЧАЩИХ СЕРДЦА
На следующий день после того, как королева бежала от коленопреклоненного Шарни, мадемуазель де Таверне вошла, по своему обыкновению, в комнату королевы в час малого туалета, перед ранней мессой.
Королева еще никого не принимала. Она только что прочла записку г-жи де Ламотт и была в веселом настроении.
Андре была еще бледнее, чем накануне; во всем ее облике ощущалась та серьезность, та холодная сдержанность, которая невольно привлекает внимание и заставляет самых великих мира сего считаться с самыми малыми.
Одетая просто, если не сказать строго, Андре походила на вестницу несчастья, кому бы она его ни предрекала – себе или другим.
Королева была рассеянна и потому не обратила никакого внимания на медленную и суровую поступь Андре, на ее покрасневшие глаза, на матовую бледность ее висков и рук.
Она повернула голову ровно настолько, чтобы можно было расслышать ее дружеское приветствие:
– Здравствуй, милая.
Андре ждала, когда королева даст ей случай заговорить. Она ждала, твердо уверенная, что дождется этого, так как ее молчание и неподвижная поза в конце концов должны были обратить на себя взор Марии Антуанетты.
Так и случилось. Не получив другого ответа, кроме глубокого реверанса, королева полуобернулась и, глянув вбок, увидела застывшее скорбное лицо Андре.
– Боже мой! Что такое, Андре? – спросила она, обернувшись к ней совсем. – С тобой случилось несчастье?
– Большое несчастье, да, ваше величество, – ответила девушка.
– Что такое?
– Я покидаю ваше величество.
– Ты уезжаешь?
– Да, ваше величество.
– Но куда же? И что за причина этого стремительного отъезда?
– Ваше величество, я несчастлива в моих привязанностях…
Королева подняла голову.
– …семейных, – добавила, краснея, Андре.
Королева покраснела тоже, и их взгляды скрестились, точно блестящие лезвия двух шпаг.
Королева пришла в себя первая.
– Я не очень вас понимаю, – сказала она. – Ведь еще вчера вы, как мне кажется, были счастливы?
– Нет, ваше величество, – твердо ответила Андре, – вчерашний день был одним из самых несчастливых в моей жизни.
– А! – задумчиво произнесла королева и добавила: – Объяснитесь.
– Мне пришлось бы затруднять ваше величество разными подробностями, не заслуживающими вашего внимания. Моя жизнь в семье не удовлетворяет меня; мне нечего надеяться на земные блага, и я пришла просить ваше величество отпустить меня, чтобы я посвятила себя спасению своей души.
Королева встала и, хотя ей пришлось для этого сломить свою гордость, взяла Андре за руку.
– Что означает это вздорное решение? – спросила она. – Ведь и вчера, как сегодня, у вас были брат и отец? Что же, вчера они были вам менее тягостны и неприятны, чем сегодня? Неужели вы считаете меня способной оставить вас в затруднительном положении? Разве я не мать, возвращающая семью тем, у кого ее нет?
Андре задрожала всем телом, точно преступница, и, склонившись перед королевой, ответила:
– Доброта вашего величества трогает меня, но не может переубедить. Я решила покинуть двор, мне необходимо вернуться к уединенной жизни; не считайте, что я изменила своим обязанностям по отношению к вам, – я не чувствую к ним призвания.
– И все это со вчерашнего дня?
– Умоляю ваше величество не приказывать мне говорить об этом.
– Вы свободны, – с горечью сказала королева. – Однако у меня к вам было всегда столько доверия, что и вы могли бы иметь его ко мне. Впрочем, безрассудно было бы требовать ответа от того, кто не хочет говорить. Оставьте при себе свои тайны, мадемуазель; будьте вдали от меня счастливее, чем быть здесь. Помните только, что я не отнимаю своей дружбы у людей, несмотря на их капризы, и вы останетесь для меня по-прежнему другом. А теперь идите, Андре, вы свободны.
Андре сделала придворный реверанс и пошла к выходу. У двери королева ее окликнула:
– А куда вы отправляетесь?
– В аббатство Сен-Дени, ваше величество, – ответила мадемуазель де Таверне.
– В монастырь! – воскликнула королева. – О, это хорошо, мадемуазель; может быть, вам и не в чем упрекнуть себя, разве только в неблагодарности и забывчивости, что тоже немало! Вы достаточно виноваты передо мной; ступайте, мадемуазель де Таверне, ступайте.
Вслед за этим, не давая дальнейших объяснений, на которые рассчитывало доброе сердце королевы, не проявив ни смирения, ни растроганности, Андре поспешила воспользоваться разрешением королевы и исчезла.
Мария Антуанетта могла заметить и заметила, что мадемуазель де Таверне тотчас покинула дворец.
Действительно, она отправилась в дом своего отца и, как и думала, застала Филиппа в саду. Брат мечтал, в то время как сестра действовала.
Увидев Андре, которую обязанности должны были удерживать в этот час во дворце, Филипп пошел к ней навстречу, удивленный и почти испуганный.
Испуганный прежде всего мрачным выражением лица сестры, которая всегда встречала его нежной дружеской улыбкой, он начал так же, как и королева: с расспросов.
Андре объявила ему, что сейчас только отказалась от своей службы при королеве, что ее отставка принята и что она уходит в монастырь.
Филипп всплеснул руками, как человек, на которого неожиданно обрушивается несчастье.
– Как? – воскликнул он. – И ты тоже, сестра?
– Как и я тоже? Что ты хочешь этим сказать?
– Над отношениями нашей семьи с домом Бурбонов тяготеет какое-то проклятие! – продолжал он. – Ты считаешь, что вынуждена произнести монашеский обет! Ты – монахиня по влечению и по душе, ты – наименее светская из женщин и вместе с тем наименее способная к вечному повиновению требованиям аскетизма? Но в чем ты упрекаешь королеву?
– Королеву не в чем упрекнуть, Филипп, – холодно ответила Андре. – А разве ты сам еще недавно не был полон надежд на милости при дворе? Разве ты не имел больше оснований, чем кто-либо, рассчитывать на них? Отчего же ты не остался там? Отчего пробыл только три дня? Я провела там три года!
– Королева бывает иногда капризна, Андре.
– Если это и так, то ты, Филипп, как мужчина, мог бы переносить ее капризы, а я, как женщина, не должна и не хочу терпеть их. Для капризов у нее есть служанки.
– Все это, сестра, – сдержанно сказал молодой человек, – не объясняет мне, каким образом ты поссорилась с королевой.
– У нас не было ни малейшей ссоры, клянусь тебе; а разве ты поссорился с нею, Филипп, ты, отдалившийся от нее? О, она неблагодарна, эта женщина!
– Ее надо простить, Андре. Ее немного испортила лесть, но, в сущности, у нее доброе сердце.
– Доказательством может служить то, что она сделала тебе, Филипп.
– А что она сделала?
– Ты уже забыл? О, у меня память лучше твоей. Поэтому я в один и тот же день, одним и тем же решением отплатила ей и за себя и за тебя, Филипп.
– Мне кажется, ты заплатила слишком дорогой ценой, Андре; не в твои годы, не с твоей красотой отказываться от света. Берегись, дорогой мой друг, ты покидаешь его молодой и пожалеть о нем в старости; ты вернешься в него, когда будет уже поздно, огорчив своих друзей, с которыми безрассудство разлучит тебя.
– Ты не рассуждал так прежде, храбрый офицер, всегда исполненный чести и чувства, но мало заботившийся о своей славе или своем богатстве, так что там, где сотня других приобрела себе титулы и золото, ты сумел только наделать долгов и испортить себе карьеру. Ты не рассуждал так прежде, когда говорил мне: "Она капризна, Андре, она кокетка, она коварна, я не хочу служить у нее!" И, подтверждая эту теорию практикой, ты прежде меня отказался от света, хотя и не сделался монахом; поэтому из нас двоих ближе к нерасторжимому обету не я, собирающаяся его произнести, а ты, уже принявший его.
– Ты права, сестра моя, и не будь нашего отца…
– Нашего отца! Ах, Филипп, не говори этого, – с горечью перебила его Андре, – разве отец не должен быть опорой детей или принимать поддержку от них? Только при этих условиях он может быть отцом. А что делает наш отец, спрашиваю я тебя? Приходило ли тебе когда-нибудь в голову доверить господину де Таверне какую-либо тайну? Считаешь ли ты его способным призвать тебя к себе, чтобы поведать один из своих секретов? Нет, – с грустью продолжала Андре, – нет, господин де Таверне создан для того, чтобы жить на свете одиноким.
– Согласен, Андре; но он создан не для того, чтобы умереть одиноким.
Эти слова, произнесенные с мягкой суровостью, напомнили девушке, что она уделяет в своем сердце слишком много места собственному гневу, собственной горечи, собственной злобе на весь мир.
– Я не хочу, – сказала она, – чтобы ты считал меня бессердечной дочерью; ты знаешь, что я нежная сестра; но в этом мире каждый хотел убить во мне инстинкт любви к отцу. Бог дал мне при рождении, как и каждому человеческому существу, тело и душу; этой душой и этим телом каждый может распоряжаться ради счастья в этом мире или в ином. Но Бальзамо, человек, которого я не знала, взял мою душу. Жильбер, которого я едва знала и не считала за человека, взял мое тело. Повторяю тебе, Филипп, чтобы быть доброй и почтительной дочерью, мне недостает всего лишь отца. Но поговорим о тебе и посмотрим, что принесла тебе служба великим мира сего, тебе, любившему их.
Филипп опустил голову.
– Избавьте меня от этого, – сказал он, – великие мира сего были в моих глазах просто людьми, подобными мне; я любил их, ведь Бог заповедал нам любить друг друга.
– О, Филипп! – ответила Андре. – На этой земле не бывает так, чтобы любящее сердце откликнулось тому, кто любит. Те, кого мы избираем, избирают себе других.
Филипп поднял голову и долго смотрел на сестру; его бледное лицо не выражало ничего, кроме удивления.
– Зачем ты мне это говоришь? К чему ты клонишь? – спросил он.
– Ни к чему, ни к чему, – великодушно ответила Андре, отступая перед мыслью снизойти до подробных рассказов или излишней откровенности, – Меня поразил тяжелый удар, брат, и мне кажется, мой рассудок помрачился… Не придавай никакого значения моим словам.
– Однако…
Андре подошла к Филиппу и взяла его за руку.
– Довольно об этом, дорогой и любимый брат мой. Я пришла попросить тебя отвезти меня в монастырь. Я выбрала Сен-Дени, но я не произнесу там монашеского обета, будь спокоен. Если будет нужно, то я сделаю это со временем. Я не буду искать в обители того, что хочет найти там большинство женщин, – забвения; я иду в монастырь затем, чтобы во мне ожили воспоминания. Мне кажется, что я слишком забыла Господа. Он наш единственный властитель и господин, единственный утешитель и вместе с тем единственный судия. Приблизившись к нему – сегодня я это понимаю, – я сделаю больше для своего счастья, чем если бы все богатства, вся сила, вся власть, все радости этого мира сговорились создать мне счастливую жизнь. Я ухожу в уединение, брат мой, в уединение, в это преддверие вечного блаженства!.. В уединении Бог говорит с сердцем человека; в уединении человек говорит с сердцем Бога.
Филипп остановил Андре жестом.
– Помни, – сказал он, – что я всей душой противлюсь этому отчаянному решению: ты не дала мне возможности судить о причинах твоего отчаяния…
– Отчаяние! – с глубоким презрением повторила она. – Ты так сказал! Нет, благодарение Богу, я ухожу из мира не с этим чувством! Скорбеть и отчаиваться! Нет! Тысячу раз нет!
И движением, исполненным неистовой гордости, она набросила на плечи шелковую накидку, лежавшую возле нее на кресле.
– Сам этот избыток презрения выдает в тебе состояние, которое не может долго длиться, – заметил Филипп, – тебе не нравится слово "отчаяние", Андре, так замени его словом "досада".
– Досада! – ответила девушка, и ее сардоническая улыбка превратилась в надменную. – Надеюсь, ты не думаешь, брат, что мадемуазель де Таверне настолько слаба, чтобы уступить свое место в этом мире под влиянием минутной досады? Досада – слабость кокеток или дур. Взор, зажженный досадой, тотчас же увлажняется слезами, и пожар потушен. У меня нет досады, Филипп. Я очень хотела бы, чтобы ты мне поверил, а для этого достаточно лишь, чтобы ты, собираясь высказать мне упрек, заглянул в себя. Ответь мне, Филипп: если бы завтра ты удалился к траппистам или стал картезианцем, то как назвал бы ты причину, подвигнувшую тебя на это решение?
– Я назвал бы эту причину неизлечимой тоской, сестра, – ответил Филипп со спокойным величием горя.
– Отлично, Филипп; вот слово, которое мне подходит и которое я принимаю. Да будет так: именно неизлечимая тоска побуждает меня к уединению.
– Ну что ж, – сказал Филипп, – в жизни брата и сестры не будет различия. Одинаково счастливые, они всегда будут и несчастливы одинаково. Так и должно быть в хорошей семье, Андре.
Андре подумала, что Филипп в порыве волнения задаст ей какой-нибудь новый вопрос и ее непреклонное сердце может не устоять перед объятием братской любви.
Но Филипп знал по опыту, что сильным душам достаточно самих себя: он не стал беспокоить душу Андре в укреплении, которое она избрала.
– А когда и в котором часу ты намерена уехать? – спросил он.
– Завтра, сегодня даже, если бы еще было время.
– Не прогуляешься ли ты со мной по парку в последний раз?
– Нет, – ответила она.
Он хорошо понял по пожатию руки, сопровождавшему отказ, что отказывается она не от его общества, а от возможности расчувствоваться.
– Когда ты меня известишь, я буду готов, – сказал он.
И поцеловал ей руку, не прибавив ни слова, чтобы не вырвалась наружу горечь, переполнявшая их сердца.
Андре, завершив первые приготовления, ушла в свою комнату, где получила записку от Филиппа:
«Ты можешь увидеться с нашим отцом сегодня в пять часов вечера. Прощание необходимо. Иначе господин де Таверне станет кричать, что его бросили, что с ним плохо поступили».
Она ответила:
«В пять часов я буду у господина де Таверне, одетая в дорожное платье. В семь часов мы можем быть в Сен-Дени. Подаришь ли ты мне свой вечер?»
Вместо ответа Филипп крикнул в окно, находившееся достаточно близко от комнаты Андре, чтобы она могла его слышать:
– В пять часов подать дорожный экипаж!








