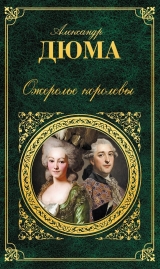
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 61 страниц)
– Клянусь честью, – сказал г-н де Лонэ, улыбаясь и покраснев, – я сознаюсь, что вы сказали правду, граф. Это была безумная мысль, но она мелькнула у меня в мозгу как раз в ту минуту, как вы высказали ее вслух.
– Я, – заметил Кондорсе, – буду тоже искренен, как господин де Лонэ. Я действительно подумал, что, отведай вы того, что заключено в моем перстне, я не дал бы и обола за ваше бессмертие.
У всех присутствовавших вырвался одновременно возглас изумления и восхищения. Эти признания свидетельствовали пусть не о бессмертии, но о проницательности графа де Калиостро.
– Вы видите, – спокойно заметил Калиостро, – вы видите, что я угадал. Так бывает со всем тем, что должно случиться. Жизненный опыт открывает мне при первом же взгляде на людей их прошлое и будущее. Моя непогрешимость в данном отношении такова, что простирается даже на животных и на неодушевленные предметы. Садясь в карету, я угадываю по виду лошадей, что они понесут, по внешнему облику кучера, что он или меня вывалит, или зацепит за чей-нибудь экипаж; перед тем как взойти на корабль, я заранее угадываю, что капитан или неопытен, или упрям и вследствие этого не сможет или не захочет выполнить необходимый маневр. В этом случае я избегаю и такого кучера и такого капитана; я оставляю в покое и лошадей и корабль. Я не отрицаю случайности: я только ослабляю возможность ее. Вместо того чтобы предоставлять ей сто шансов, как делают другие, я у нее отнимаю девяносто девять и остерегаюсь сотого шанса. Вот что позволило мне прожить три тысячи лет.
– В таком случае, – заметил со смехом Лаперуз среди общего восхищения и вместе с тем разочарования, вызванного словами Калиостро, – вы, милый пророк, должны бы сопровождать меня до кораблей, на которых я собираюсь плыть вокруг света. Вы оказали бы мне этим огромную услугу.
Калиостро ничего не ответил.
– Господин маршал, – продолжал со смехом мореплаватель, – так как господин граф де Калиостро не хочет, что я вполне понимаю, покидать такое приятное общество, позвольте мне сделать это. Извините меня, господин граф де Хага, извините меня, сударыня, но вот бьет семь часов, а я обещал королю сесть в экипаж в четверть восьмого. А теперь, так как господин граф де Калиостро не чувствует желания взглянуть на два моих флейта, то пусть он мне, по крайней мере, скажет, что со мной случится от Версаля до Бреста. От Бреста до полюса – это уже будет мое дело, но, черт возьми, что произойдет от Версаля до Бреста, это он должен предсказать мне.
Калиостро еще раз взглянул на Лаперуза с таким грустным выражением, с такой кротостью во взгляде, что большинство присутствующих были поражены. Но мореплаватель ничего не заметил. Он прощался с сидевшими за столом; его слуги надевали на него тяжелое меховое верхнее платье, а г-жа Дюбарри тем временем для подкрепления сил в пути заботливо сунула ему в карман несколько конфет, о которых путешественник никогда не подумал бы сам и которые напоминают о далеких друзьях дорогой, в долгие ночи, в сильную стужу.
Лаперуз, не переставая улыбаться, почтительно склонился перед графом де Хага и протянул руку старому маршалу.
– Прощайте, милый Лаперуз, – сказал ему герцог де Ришелье.
– Нет, нет, господин герцог, до свидания, – отвечал Лаперуз. – Право, можно подумать, что я уезжаю навеки. Мне предстоит совершить кругосветное путешествие, вот и все. Я буду отсутствовать четыре или пять лет – не больше. Из-за этого не стоит говорить друг другу «прощайте».
– Четыре или пять лет! – воскликнул маршал. – Э, сударь, почему бы вам в таком случае не сказать «четыре или пять веков»? Дни равняются годам в моем возрасте. Прощайте, говорю я вам.
– Ба, спросите у колдуна, – со смехом заметил Лаперуз, – он вам обещает еще двадцать лет жизни. Не правда ли, господин де Калиостро? Ах, граф, что бы вам раньше сказать мне про ваши чудодейственные капли! Уж я, чего бы мне это ни стоило, погрузил бы целую бочку этого напитка с собой на «Астролябию». Это название моего корабля, господа. Сударыня, позвольте мне запечатлеть последний поцелуй на этой прелестной ручке: прекраснее ее мне, конечно, не удастся увидеть до самого моего возвращения. До свидания!
И он вышел.
Калиостро по-прежнему хранил зловещее молчание.
Вскоре на гулких ступенях крыльца раздались шаги капитана, со двора донеслись его веселый голос и последние приветствия, обращенные к провожавшим. Затем лошади тряхнули головами, бубенцы звякнули, дверцы кареты захлопнулись с резким стуком и колеса застучали по мостовой.
Лаперуз сделал первый шаг в том роковом путешествии, из которого ему не суждено было возвратиться.
Все прислушивались.
Когда все смолкло, все глаза, точно притянутые магнитом, снова устремились на Калиостро.
На лице его в эту минуту было какое-то вдохновенное выражение, точно у древней пифии; это роковое выражение заставило всех вздрогнуть.
Несколько минут длилось молчание.
Граф де Хага нарушил его первым.
– Почему вы ничего не ответили ему, сударь?
В этом вопросе он высказал мысль, тревожившую всех.
Калиостро вздрогнул, точно обращенные к нему слова разом вывели его из глубокой задумчивости.
– Потому что я должен был или солгать, или сказать жестокую правду.
– Как так?
– Мне надо было бы сказать ему: «Господин де Лаперуз, герцог де Ришелье прав, говоря вам „прощайте“, а не „до свидания“.
– Черт возьми! – воскликнул, бледнея, Ришелье. – Что вы хотите сказать, господин Калиостро?
– Успокойтесь, господин маршал, – с живостью возразил Калиостро, – это печальное пророчество касается не вас.
– Как, – воскликнула г-жа Дюбарри, – этот бедный Лаперуз, только что целовавший мне руку…
– Не только никогда более не будет целовать ее, но никогда не увидит тех, с кем он только что расстался, – сказал Калиостро, внимательно вглядываясь в бокал с водой, повернутый к свету таким образом, что на ее поверхность, казалось, набегали какие-то светлые волны, отливавшие опаловым цветом, а тени ближайших предметов отражались в ней, рассекая ее поперечными линиями.
Со всех уст сорвался удивленный возглас.
С каждой минутой возбуждаемый разговором интерес к услышанному становился все более захватывающим; судя по лицам – серьезным, торжественным, почти тревожным – присутствовавших, которые кто словами, кто взглядом допрашивали Калиостро, можно было подумать, что дело шло о непогрешимом пророчестве, изрекаемом одним из античных оракулов.
Между тем г-н де Фаврас встал, сделал знак всем сидевшим за столом и, как бы угадав общую мысль, подошел на цыпочках к двери в переднюю, желая убедиться, что лакеи не подслушивают их беседы.
Но, как мы уже говорили, дом г-на маршала де Ришелье отличался образцовым и строгим порядком, и потому г-н де Фаврас нашел в передней только старого управляющего, который, как часовой на передовом посту, строго охранял доступ в столовую во время десерта.
Де Фаврас вернулся на свое место и знаком дал понять, что они совершенно одни.
– В таком случае, – начала г-жа Дюбарри, отвечая на заверение г-на де Фавраса, как если бы оно прозвучало вслух, – в таком случае, расскажите нам, что ожидает этого бедного Лаперуза.
Калиостро, не соглашаясь, покачал головой.
– Ну же, пожалуйста, господин де Калиостро, – сказали все мужчины, – мы все просим вас.
– Господин де Лаперуз, как он и сообщил вам, едет с намерением совершить кругосветное плавание и продолжить путешествие, предпринятое Куком, бедным Куком, который, как вам известно, был убит на Сандвичевых островах.
– Да, да, знаем! – воскликнуло несколько человек; другие удовольствовались кивком головы.
– Все сулит счастливый исход предприятия. Господин де Лаперуз – прекрасный моряк, и к тому же король Людовик XVI очень умело составил для него полный маршрут.
– Да, – перебил граф де Хага, – французский король – искусный географ. Не правда ли, господин де Кондорсе?
– Даже слишком хороший для короля, – отвечал маркиз. – Королям следовало бы знать все только поверхностно. Тогда они, быть может, позволили бы людям, вполне изучившим ту или другую науку, руководить ими.
– Это урок, господин маркиз, – с улыбкой заметил граф де Хага.
Кондорсе покраснел.
– О нет, господин граф, – отвечал он, – это простое размышление, философское рассуждение.
– Итак, он едет? – сказала г-жа Дюбарри, желая поскорее прервать посторонний разговор, который мог бы отклониться от главной темы.
– Итак, он едет, – продолжал Калиостро. – Но не думайте, что он немедленно пустится в плавание, хотя он, по-видимому, и очень спешит… Нет, я вижу, что он потеряет много времени в Бресте.
– Очень жаль, – заметил Кондорсе, – теперь самое время для отплытия. Пожалуй, он и без того уже запоздал; будь теперь февраль или март, было бы лучше.
– О, не попрекайте его этими двумя-тремя месяцами, господин де Кондорсе: он, по крайней мере, будет жить в продолжение этого времени, жить и надеяться.
– У него, надеюсь, хорошая команда? – спросил Ришелье.
– Да, – отвечал Калиостро, – командир второго корабля – выдающийся офицер. Я его вижу еще молодым, предприимчивым и, к несчастью, храбрым.
– Как к несчастью?
– Да, я ищу этого друга год спустя и не вижу его, – сказал с беспокойством Калиостро, вглядываясь пристально в бокал. – Между вами нет никого, кто бы был родственником или близким господина де Лангля?
– Нет.
– Никто его не знает?
– Нет.
– Итак, смерть начнет с него. Я его не вижу более.
Вздох ужаса вырвался из груди присутствующих.
– А он… он… Лаперуз? – спросило несколько человек прерывающимся голосом.
– Он продолжает плавание, высаживается на берег, снова всходит на корабль. Год, два года плавание его счастливо. От него приходят известия[2]2
Офицером, доставившим последние известия о Лаперузе, был г-н де Лессепс, единственный человек из экспедиции, который вернулся во Францию. (Примеч. автора.)
[Закрыть]. А затем…
– Затем?
– Годы проходят.
– И что же?
– Океан велик, небо мрачно. То здесь, то там показываются неисследованные земли, появляются уродливые существа, напоминающие чудовищ Греческого архипелага. Они подстерегают корабль, который несется в тумане между подводными камнями, увлекаемый течением; затем надвигается буря, более милостивая и гостеприимная, чем берег… потом зловещие огни. О, Лаперуз, Лаперуз! Если бы ты мог меня слышать, я сказал бы тебе: „Ты отправляешься, как Христофор Колумб, открывать Новый Свет; Лаперуз, остерегайся неведомых островов!“
Он замолчал. Ледяной холод пробежал по присутствующим в ту минуту, как последние слова Калиостро еще звучали над столом.
– Но почему вы не предупредили его? – воскликнул граф де Хага, невольно подчиняясь вместе со всеми влиянию этого необыкновенного человека, умевшего по своей прихоти волновать сердца.
– Да, да, – подхватила г-жа Дюбарри. – Почему бы не побежать за ним, не догнать его? Жизнь такого человека, как Лаперуз, надеюсь, стоит того, чтобы послать к нему курьера, дорогой маршал.
Маршал понял и приподнялся, чтобы позвонить. Калиостро протянул руку.
Маршал снова опустился в кресло.
– Увы! – продолжал Калиостро. – Все советы были бы бесполезны: человек, предвидящий судьбу, не может изменить ее. Господин Лаперуз засмеялся бы, если бы услышал мои слова, как смеялись сыновья Приама, когда пророчествовала Кассандра. Да вот, вы сами смеетесь, господин граф де Хага, и вашим смехом скоро заразятся и все остальные. Не старайтесь сдерживаться, господин де Фаврас: я еще никогда не встречал слушателя, который поверил бы мне.
– О, мы верим! – воскликнули г-жа Дюбарри и старый герцог де Ришелье.
– Я верю, – пробормотал Таверне.
– Я также, – вежливо вставил граф де Хага.
– Да, – продолжал Калиостро, – вы верите потому, что речь идет о Лаперузе, но если бы речь шла о вас, вы не поверили бы.
– О!
– Я не сомневаюсь в этом.
– Признаюсь, я поверил бы, – заметил граф де Хага, – если бы господин де Калиостро сказал господину де Лаперузу: „Остерегайтесь неведомых островов“. Он был бы тогда настороже, и это все же было бы для него шансом спастись.
– Уверяю вас, нет, граф. Но если бы он и поверил мне, то подумайте, как ужасно было бы для него такое открытие! Перед лицом опасностей несчастный, поверь он моему предсказанию, чувствовал бы при виде неведомых ему островов, которым суждено стать роковыми для него, приближение таинственной, угрожающей ему смерти и вместе с тем не имел бы возможности убежать от нее. Он выстрадал бы таким образом не одну, а тысячу смертей: ведь идти во мраке, имея своим спутником отчаяние, – значит вынести тысячу смертей. Подумайте же: надежда, которой я лишил бы его, – последнее утешение, не покидающее несчастного даже перед самым ножом, когда тот уже касается его, когда он ощущает острие лезвия и кровь его уже течет… Жизнь гаснет, а человек все еще надеется.
– Это правда, – тихо послышалось несколько голосов.
– Да, – заметил Кондорсе, – завеса, скрывающая от нас конец нашей жизни, – единственное действительное благодеяние, оказанное Богом человеку на земле.
– Как бы то ни было, – начал граф де Хага, – но, случись мне услышать от такого человека, как вы, предупреждение: „Остерегайтесь такого-то человека или такой-то вещи“ – я посчитал бы это за хороший совет и поблагодарил бы советчика.
Калиостро тихо покачал головой, сопровождая этот жест грустной улыбкой.
– Право, господин де Калиостро, – продолжал граф де Хага, – предостерегите меня, и я буду вам очень благодарен.
– Вы желали бы, чтобы я сказал вам то, чего не захотел сказать господину Лаперузу?
– Да, желал бы.
Калиостро собирался уже заговорить, но тотчас остановился.
– О нет, – сказал он, – нет, господин граф.
– Умоляю вас.
Калиостро отвернул голову.
– Ни за что! – пробормотал он.
– Берегитесь, – заметил с улыбкой граф, – я могу в вас разувериться.
– Неверие лучше муки.
– Господин де Калиостро, – серьезным тоном произнес граф, – вы забываете об одном.
– О чем же именно? – почтительно спросил пророк.
– Что если есть люди, которые могут позволить себе оставаться в неведении относительно своей судьбы, то есть и другие, которым нужно было бы знать будущее, гак как оно важно не для них одних, но для миллионов людей!
– Тогда, – сказал Калиостро, – приказание. Я не соглашусь говорить без него.
– Что вы хотите сказать?
– Пусть ваше величество приказывает, – сказал тихо Калиостро, – я буду повиноваться.
– Я вам повелеваю открыть мне мою судьбу, господин де Калиостро, – произнес король величественно и вместе с тем приветливо.
Между тем, так как граф де Хага позволил обращаться с собой как с королем и нарушил свое инкогнито, отдав это приказание, герцог де Ришелье поднялся и приблизился к нему с почтительным поклоном.
– Позвольте, ваше величество, принести вам мою признательность за честь, которую король Швеции оказал моему дому, – сказал он. – Пусть ваше величество соблаговолит занять почетное место. С этой минуты оно может принадлежать только вам.
– Нет, останемся на своих местах, господин маршал, и постараемся не проронить ни одного слова из того, что будет говорить господин граф де Калиостро.
– Королям не говорят правды, ваше величество.
– Ба, я не у себя в королевстве. Садитесь на свое прежнее место, господин герцог. Говорите, господин де Калиостро, убедительно прошу вас об этом.
Калиостро взглянул на свой бокал: со дна его поднимались на поверхность пузырьки, как в шампанском. Казалось, под влиянием магнетического взгляда прорицателя вода начинает бурлить.
– Скажите мне, что вы желаете знать, ваше величество, – начал Калиостро, – я готов отвечать вам.
– Откройте мне, какой смертью я умру?
– От выстрела, ваше величество.
Чело Густава прояснилось.
– А, в сражении! – сказал он. – Смертью солдата. Благодарю вас, господин де Калиостро, тысячу раз благодарю! О, я предвижу сражения, а Густав Адольф и Карл XII показали мне, как должен умирать шведский король.
Калиостро молча опустил голову.
Граф де Хага нахмурил брови.
– О-о, – сказал он, – разве этот выстрел будет произведен не в сражении?
– Нет, ваше величество.
– Во время бунта? Да, это также возможно.
– Нет, не во время бунта.
– Так где же?
– На балу, ваше величество.
Король погрузился в раздумье.
Калиостро, который говорил стоя, опустился на свое место и закрыл лицо руками.
Все, кто окружал прорицателя и того, кому было сказано пророчество, побледнев, хранили молчание.
Господин де Кондорсе взял бокал воды, в котором Калиостро прочел свое зловещее предсказание, приподнял его за ножку, поднес к глазам и внимательно осмотрел его сверкавшую грань и таинственное содержимое.
Его умный взгляд, взгляд старого исследователя, казалось, искал в этом хрустальном теле и в этой хрустальной жидкости разрешение задачи, которую его разум низводил до уровня чисто физического явления.

Действительно, ученый мысленно вычислял глубину воды, преломление световых лучей и микроскопические колебания водной поверхности. Привыкнув доискиваться сути всегда и во всем, он спрашивал себя, какова была причина и основание этого шарлатанства, что в присутствии лиц с таким положением проделывал этот человек, которому нельзя было отказать в необыкновенных способностях.
Но, без сомнения, он не нашел разрешения этого вопроса, так как перестал разглядывать бокал и поставил его на стол.
– Со своей стороны, – обратился он к Калиостро среди общего молчания, вызванного последним предсказанием, – я также попрошу нашего славного пророка спросить свое волшебное зеркало относительно меня. К несчастью, – прибавил он, – я не могущественный властелин, никем не повелеваю, и моя ничтожная жизнь не принадлежит миллионам людей.
– Сударь, – заметил граф де Хага, – вы повелеваете во имя науки, и ваша жизнь важна не для одного какого-нибудь народа, а для всего человечества.
– Благодарю вас, господин граф; но, может быть, господин де Калиостро не разделяет вашего мнения.
Калиостро поднял голову, как скакун, почувствовавший шпоры.
– Как же, маркиз, – сказал он с закипавшей в нем нервной раздражительностью, которую в древние времена приписали бы действию волновавшего его божества, – вы, несомненно, могущественный повелитель в царстве мышления. Взгляните мне в глаза… Вы серьезно желаете услышать от меня предсказание?
– Совершенно серьезно, господин граф, клянусь честью! – отвечал Кондорсе. – Невозможно желать этого серьезнее.
– Хорошо! Маркиз, – начал Калиостро глухим голосом, полузакрыв глаза, неподвижно устремленные в одну точку, – вы умрете от яда, заключенного в кольце, которое вы носите на руке. Вы умрете…
– А если я его выброшу? – прервал Кондорсе.
– Выбросьте.
– Но ведь вы признаете, что это очень легко сделать?
– Так выбросьте ж его, говорю вам.
– Да, да, маркиз, – воскликнула г-жа Дюбарри, – ради Бога, выбросьте этот гадкий яд, выбросьте его хотя бы ради того только, чтобы уличить во лжи этого зловещего пророка, который нас всех огорчает своими предсказаниями! Ведь если вы его выбросите, то несомненно вы будете отравлены не им; а так как господин де Калиостро уверяет, что вам грозит смерть именно от этого яда, то поневоле господин де Калиостро окажется солгавшим.
– Графиня права, – сказал граф де Хага.
– Браво, графиня, – заметил Ришелье. – Ну же, маркиз, выбросьте этот яд, а не то теперь, когда я знаю, что вы носите на руке смерть человека, я буду дрожать всякий раз, как мне придется чокаться с вами. Кольцо может открыться само… Э-э!..
– А стаканы, когда чокаешься, так близки друг от друга, – продолжал Таверне. – Выбросьте, маркиз, выбросьте.
– Это бесполезно, – спокойно заметил Калиостро, – господин де Кондорсе не выбросит его.
– Нет, – сказал маркиз. – Я не расстанусь с ним, это правда; но не потому, чтобы я хотел помогать судьбе, а потому, что Кабанис приготовил для меня этот единственный в своем роде яд, представляющий затвердевшую благодаря игре случая субстанцию, а этот случай, может быть, не повторится. Вот почему я не выброшу этот яд. Торжествуйте, если хотите, господин де Калиостро.
– Судьба, – заметил тот, – всегда находит верных пособников, помогающих приводить в исполнение ее приговоры.
– Итак, я умру отравленным, – сказал маркиз. – Ну что же, да будет так. Не всякий, кто хочет, может умереть таким образом. Вы мне предсказываете исключительную смерть: немного яду на кончике языка, и я перестану существовать. Это уже не смерть, это – минус жизнь, как говорится у нас в алгебре.
– Мне вовсе не нужно, чтобы вы страдали, сударь, – холодно отвечал Калиостро.
И он знаком показал, что не хочет пускаться в дальнейшие подробности, по крайней мере, относительно г-на де Кондорсе.
– Сударь, – сказал тогда маркиз де Фаврас, перегибаясь всем туловищем через стол и точно желая сделать шаг вперед навстречу Калиостро, – кораблекрушение, выстрел и отравление – у меня от этого даже слюнки текут. Не сделаете ли вы одолжение предсказать и мне какой-нибудь миленький конец в таком же роде?
– О господин маркиз, – сказал Калиостро, который начинал волноваться под влиянием иронии, – вы напрасно стали бы завидовать эти господам, так как, клянусь честью дворянина, вам предстоит кое-что получше…
– Получше! – воскликнул со смехом г-н де Фаврас. – Берегитесь, вы берете на себя слишком много: что может быть хуже моря, выстрела и яда! Это трудно.
– Еще остается веревка, – любезно заметил Калиостро.
– Веревка! О, что вы такое говорите!
– Я говорю, что вы будете повешены, – отвечал Калиостро в припадке какого-то пророческого экстаза, с которым он не мог более совладать.
– Повешен! – повторили все присутствующие. – Черт возьми!
– Вы забываете, сударь, что я дворянин, – сказал несколько охлажденный от своего пыла де Фаврас. – И если вы случайно говорите о самоубийстве, то я предупреждаю вас, что надеюсь до последней минуты настолько сохранить самоуважение, чтобы не пользоваться веревкой, пока у меня будет шпага.
– Я говорю не о самоубийстве, сударь.
– Значит, о казни?
– Да.
– Вы иностранец, сударь, и потому я извиняю вас.
– За что?
– За ваше неведение. Во Франции дворянам отрубают голову.
– Вы об этом договоритесь с палачом, сударь, – отвечал Калиостро, уничтожив своего собеседника этим резким ответом.
Все присутствующие замолчали; казалось, ими овладела некоторая нерешительность.
– Знаете, я трепещу, – сказал г-н де Лонэ, – мои предшественники вытянули такой печальный жребий, что я не жду для себя ничего хорошего, если начну шарить в том же мешке, что и они.
– В таком случае, вы благоразумнее их, если не хотите знать тайну будущего. Вы правы; хороша ли она или дурна, будем чтить тайну Создателя.
– О господин де Лонэ, – заметила г-жа Дюбарри, – я надеюсь, что вы будете не менее мужественны, чем эти господа.
– Я также надеюсь, – склоняясь перед графиней, сказал де Лонэ. – Итак, сударь, – продолжал он, обращаясь к Калиостро, – прошу вас одарить и меня гороскопом.
– Эго не трудно, – отвечал Калиостро, – удар топором по голове, и все будет кончено.
Столовую огласил крик ужаса. Де Ришелье и Таверне умоляли Калиостро не продолжать, но женское любопытство одержало верх.
– Право, если послушать вас, граф, – сказала г-жа Дюбарри, – все человечество должно окончить жизнь насильственной смертью. Нас здесь восемь человек, и из восьми уже пятеро осуждены вами!
– О, как же вы не понимаете, что это делается умышленно; мы все посмеиваемся, – сказал г-н де Фаврас, действительно силясь рассмеяться.
– Конечно, смеемся, – подтвердил граф де Хага, – будь то правда или ложь.
– Я тоже желала бы посмеяться, – сказала г-жа Дюбарри, – так как мне не хотелось бы своей трусостью опозорить все наше общество. Но, увы, я только женщина и не могу надеяться на честь сравняться с вами трагичностью жизненного конца. Женщины умирают в своей постели. Увы, моя смерть, смерть старой женщины, печальной, всеми забытой, будет худшей из всех, не правда ли, господин де Калиостро?
Она произнесла эти слова с колебанием, желая не только словами, но всем своим внешним видом дать пророку повод возразить; но Калиостро не спешил успокоить ее.
Любопытство оказалось сильнее беспокойства, и она уступила ему.
– Ну же, господин де Калиостро, – продолжала г-жа Дюбарри, – отвечайте мне.
– Как же вы хотите, чтобы я отвечал вам, сударыня, когда вы не спрашиваете меня?
Графиня с минуту колебалась.
– Но… – начала она.
– Что же, – прервал ее Калиостро, – вы спрашиваете или нет?
Графиня сделала над собой усилие и, почерпнув храбрости в улыбках, которые она заметила на всех устах, воскликнула:
– Ну что же, рискну! Скажите мне, каков будет конец Жанны де Вобернье, графини Дюбарри?
– Эшафот, сударыня, – отвечал зловещий предсказатель.
– Это шутка, не правда ли, сударь? – пробормотала графиня, устремляя на Калиостро умоляющий взор.
Но Калиостро был доведен до крайности и не заметил этого взгляда.
– А почему это должно быть шуткой? – спросил он.
– По] ому, что для тою, чтобы взойти на эшафот, надо убить, зарезать кого-нибудь, вообще совершить какое-нибудь преступление, а я, по всей вероятности, никогда никакого преступления не совершу. Так это шутка, не правда ли?
– Э, Боже мой, да, – сказал Калиостро, – это шутка, как и все предсказанное мною.
Графиня разразилась смехом, который опытному наблюдателю показался бы слишком громким и резким для искреннего.
– Ну, господин де Фаврас, – сказала она, – закажем себе траурные кареты.
– О, это было бы для вас бесполезно, графиня, – заметил Калиостро.
– Почему?
– Потому, что вы поедете на эшафот в повозке.
– Фи, какой ужас! – воскликнула г-жа Дюбарри. – О, страшный человек! Маршал, другой раз выбирайте себе других гостей, или вы больше не увидите меня здесь.
– Извините меня, сударыня, – сказал Калиостро. – Вы сами, как и другие, пожелали этого.
– Да, как и все другие. Но, по крайней мере, вы дадите мне время выбрать себе духовника?
– Это был бы излишний труд, графиня, – сказал Калиостро.
– Как так?
– Последний, кто взойдет на эшафот с духовником, будет…
– Будет?.. – спросили все присутствующие.
– … король Франции.
И Калиостро произнес последние слова таким глухим и зловещим голосом, что присутствующие точно почувствовали над собой дуновение смерти, оледенившее все сердца.
Несколько минут длилось молчание.
В это время Калиостро поднес к губам бокал воды, в котором прочел все эти кровавые предсказания; но, едва прикоснувшись к нему губами, он оттолкнул его с непреодолимым отвращением, точно в него была налита горечь.
В эту самую минуту глаза Калиостро остановились на Таверне.
– О! – воскликнул последний, подумав, что Калиостро хочет говорить. – Не говорите мне, что со мной будет. Я у вас этого не спрашиваю.
– Ну, а я спрашиваю о себе, – сказал Ришелье.
– Успокойтесь, господин маршал, – отвечал Калиостро, – вы, единственный из здесь находящихся, умрете в своей постели.
– Кофе, господа! – воскликнул старый маршал в восторге от предсказания. – Кофе!
Все встали.
Но, прежде чем перейти в гостиную, граф де Хага подошел к Калиостро.
– Сударь, – сказал он, – я не собираюсь бежать от своей судьбы, но скажите мне, чего мне надо остерегаться?
– Муфты, ваше величество, – отвечал Калиостро.
Граф де Хага отошел.
– А мне? – спросил Кондорсе.
– Омлета.
– Хорошо, я отказываюсь от яиц.
И он присоединился к графу.
– А мне, – спросил Фаврас, – чего нужно опасаться?
– Письма.
– Хорошо, благодарю вас.
– А мне? – спросил де Лонэ.
– Взятия Бастилии.
– О, в таком случае я спокоен.
И он отошел со смехом.
– Теперь моя очередь, сударь, – сказала графиня, дрожа всем телом.
– Вам, прелестная графиня, надо остерегаться площади Людовика XV.
– Увы, – отвечала графиня, – я уже раз заблудилась на ней и очень мучилась. В тот день я совсем потеряла голову.
– Ну, на этот раз вы опять потеряете ее, графиня, но уже не найдете снова.
Госпожа Дюбарри вскрикнула и убежала к остальным гостям.
Калиостро собирался присоединиться ко всем.
– Одну минуту, – сказал Ришелье. – Нас осталось только двое – Таверне да я, – которым вы ничего не сказали, мой милый колдун.
– Господин де Таверне просил меня ничего не говорить ему, а вы, маршал, ничего не спрашивали у меня.
– О, я опять повторяю свою просьбу! – воскликнул Таверне, умоляюще складывая руки.
– Ну вот что: чтобы доказать свою удивительную силу, не могли бы вы сказать одну вещь, которая известна только нам двоим?
– Какую? – спросил с улыбкой Калиостро.
– Зачем этот бравый Таверне приехал в Версаль, вместо того чтобы спокойно жить себе в своих прекрасных землях Мезон-Ружа, выкупленных для него королем три года назад?
– Ничего не может быть проще, господин маршал, – отвечал Калиостро. – Десять лет тому назад господин де Таверне хотел отдать свою дочь, мадемуазель Андре, королю Людовику XV, но ему это не удалось.
– О-о, – сердито проворчал Таверне.
– А теперь он хочет отдать своего сына, Филиппа де Таверне, королеве Марии Антуанетте. Спросите у него, лгу ли я?
– Клянусь честью, – сказал, весь дрожа, Таверне, – этот человек колдун, или пусть меня черт возьмет!
– О, – сказал маршал, – не поминай так неосторожно черта, старый дружище!
– Ужасно, ужасно! – бормотал Таверне.
И он повернулся, чтобы еще раз попросить Калиостро хранить молчание; но тот исчез.
– Пойдем в гостиную, Таверне, пойдем, – сказал маршал, – кофе выпьют без нас, или нам придется пить его холодным, что будет еще хуже.
И он поспешно пошел в гостиную.
Но она была пуста: ни один из гостей не нашел в себе достаточно мужества, чтобы встретиться лицом к лицу с автором таких ужасных предсказаний.
Свечи горели в канделябрах; кофе дымился в кофейнике; в камине горел огонь. И все это никому уже не было нужно.
– Ей-Богу, дружище, нам, по-видимому, придется выпить кофе наедине… Э, да куда же он пропал?
Ришелье огляделся, но маленький старичок исчез, как и все остальные.
– Как бы то ни было, – сказал маршал со злобной ухмылкой, напоминавшей усмешку Вольтера, потирая одну о другую свои высохшие белые руки, унизанные кольцами, – я единственный из всех моих сегодняшних гостей умру в своей постели! В своей постели! Граф де Калиостро, я не принадлежу к людям, не верящим вам. В своей постели, и, насколько возможно, позднее… Эй, камердинер, а мои капли?
Камердинер вошел с флаконом в руке, и маршал прошел вместе с ним в свою спальню.








