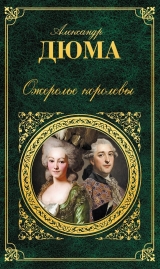
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 61 страниц)
ЧЕСТОЛЮБИЕ, ЧТО ХОЧЕТ ПРОСЛЫТЬ ЛЮБОВЬЮ
Жанна также была женщиной, хотя не была королевой.
Вследствие этого обстоятельства, сев в карету, она сразу стала сравнивать прекрасный Версальский дворец, его богатую, пышную обстановку со своим пятым этажом на улице Сен-Клод, а великолепных лакеев – со своей старой служанкой.
Но почти тотчас же убогая мансарда и старуха-служанка скрылись в тени минувшего, подобно одному из тех видений, что исчезают, словно никогда не существовали; и Жанна увидела свой маленький домик в Сент-Антуанском предместье, такой изысканный, изящный, такой комфортабельный, как сказали бы в наше время, с лакеями хоть не в таких расшитых ливреях, как у версальских слуг, но столь же почтительными и исполнительными.
Этот дом и эти лакеи были ее Версалем; она была там королевой не меньше, чем Мария Антуанетта, и ее желания (при единственном условии – уметь ограничивать их рамками пусть не необходимого, а разумного), исполнялись так же хорошо и быстро, как если бы она держала скипетр.
Жанна вернулась к себе поэтому с сияющим лицом и улыбкой на устах. Было еще довольно рано; она взяла бумагу, перо и чернила, написала несколько строк, вложила листок в тонкий надушенный конверт, надписала адрес и позвонила.
Еще последняя волна звука не успела замереть, как дверь открылась и на пороге показался лакей, молча ожидая приказаний.
– Я была права! – прошептала Жанна, – самой королеве не служат лучше. Это письмо монсеньеру кардиналу де Рогану, – сказала она, протягивая руку.
Лакей подошел, взял письмо и вышел, не проронив ни слова, с тем безмолвным повиновением, какое подобает слуге в хорошем доме.
Графиня погрузилась в глубокую задумчивость, которая не явилась только что, а была продолжением ее размышлений во время пути.
Не прошло и пяти минут, как в дверь легко постучали.
– Войдите, – сказала госпожа де Ламотт.
На пороге появился тот же лакей.
– Ну что? – спросила г-жа де Ламотт с легким нетерпеливым жестом, видя, что ее приказание не исполнено.
– В ту минуту как я выходил из дому, чтобы исполнить приказание госпожи графини, – сказал лакей, – монсеньер подъехал к воротам. Я сказал, что шел к нему. Он взял письмо графини, прочел его и вышел из кареты, сказав: "Хорошо; доложите обо мне!"
– А затем?
– Монсеньер здесь, он ожидает, когда госпоже угодно будет принять его.
Легкая улыбка мелькнула на губах графини. Она помедлила с ответом.
– Попросите войти, – сказала она через несколько секунд с явным удовлетворением.
Для чего ей были нужны эти несколько секунд? Для того, чтобы заставить князя Церкви ждать в передней, или для того, чтобы обдумать до конца свой план?
Принц показался на пороге.
Итак, вернувшись к себе, послав за кардиналом, почувствовав такую сильную радость при известии, что кардинал приехал к ней, Жанна действовала по заранее обдуманному плану?
Да, ибо прихоть королевы, подобная одному из тех блуждающих огоньков, которые озаряют целую долину во время мрачных событий, эта прихоть королевы и прежде всего женщины, обнажила перед взорами интриганки-графини все тайные изгибы души Марии Антуанетты – души, слишком гордой к тому же, чтобы принимать большие предосторожности из опасения быть разгаданной.
Из Версаля в Париж путь долгий, и когда его совершаешь в обществе демона алчности, то у него хватит времени на то, чтобы нашептать вам на ухо самые смелые расчеты.
Жанну совершенно опьянила эта цифра в полтора миллиона ливров, расцветшая в бриллиантах, покоившихся на белом атласе футляра господ Бёмера и Боссанжа.
Полтора миллиона ливров! Разве это не княжеское богатство, особенно для бедной нищенки, которая всего месяц тому назад протягивала руку к великим мира сего за подаянием?
Конечно, Жанну де Валуа с улицы Сен-Клод от Жанны де Валуа Сент-Антуанского предместья отделяло большее расстояние, чем Жанну де Валуа Сент-Антуанского предместья от Жанны де Валуа, обладательницы ожерелья.
Следовательно, она прошла уже больше половины пути, ведущего к богатству.
И это богатство, которого так страстно желала Жанна, было не иллюзией наподобие слова в контракте или владения землей: это вещи, конечно, первостепенные, но чтобы ощутить их, требуется дополнительное усилие умственных способностей или зрения.
Нет, это ожерелье было совсем не то, что контракт или земля: это ожерелье было зримым богатством. Поэтому-то оно неотступно стояло перед ней, сверкая огнями и чаруя ее. Если королева желала его, то Жанне де Валуа позволительно было помечтать о нем; если королева смогла отказаться от него, то г-жа де Ламотт могла ограничить свое честолюбие им одним.
Поэтому тысяча бессвязных мыслей, тех причудливых призраков с туманными контурами, которые, по словам Аристофана, уподобляются людям в минуты страстей, тысяча желаний, тысяча нестерпимых мук, рожденных стремлением владеть, терзали Жанну во время этой дороги из Версаля в Париж подобно волкам, лисицам и крылатым змеям.
Кардинал, который должен был привести эти мечты в исполнение, прервал их, ответив своим неожиданным появлением на желание г-жи де Ламотт видеть его.
У него также были свои мечты и свое честолюбие, которое он таил под маской предупредительности, под видом любви.
– А, милая Жанна, – сказал он, – вот и вы. Вы, право, стали мне так необходимы, что для меня весь день был омрачен мыслью, что вы далеко от меня. Вернулись ли вы, по крайней мере, совершенно здоровой из Версаля?
– Как видите, монсеньер.
– И довольной?
– В восторге.
– Значит, королева приняла вас?
– Как только я приехала, меня провели к ней.
– Вам повезло. Бьюсь об заклад, судя по вашему торжествующему виду, что королева говорила с вами.
– Я провела около трех часов в кабинете ее величества.
Кардинал вздрогнул и едва удержался, чтобы не повторить вслед за Жанной с таким пафосом, как она: "Около трех часов!"
– Вы положительно волшебница, – сказал он, – и никто не может устоять против вас.
– О, вы преувеличиваете, принц.
– Нет, нисколько. Так вы говорите, что провели три часа с королевой?
Жанна утвердительно кивнула головой.
– Три часа! – с улыбкой повторил кардинал. – Сколько всего может сказать за три часа умная женщина, как вы!
– О, ручаюсь вам, монсеньер, что не потеряла времени даром.
– Держу пари, – отважился спросить кардинал, – что за эти три часа вы ни одной минуты не думали обо мне?
– Неблагодарный!
– Неужели! – воскликнул кардинал.
– Я не только думала о вас, но сделала еще больше.
– Что же именно?
– Я говорила о вас.
– Говорили обо мне? Кому же? – спросил прелат с бьющимся сердцем. В голосе его, несмотря на все его самообладание, послышалось волнение.
– Кому же, как не королеве!
И, произнося столь драгоценные для кардинала слова, Жанна было настолько умна, что не смотрела на него, точно ее мало заботил эффект, который должны были они вызвать.
Господин де Роган весь затрепетал.
– А! – сказал он. – Ну же, дорогая графиня, расскажите мне об этом. Право, я интересуюсь всем, что происходит с вами, и не хочу, чтобы вы опускали даже малейшую подробность.
Жанна улыбнулась: она так же хорошо знала, что интересует кардинала, как и он сам.
Но так как она заранее приготовила в уме подробнейший рассказ и сама приступила бы к нему, если даже кардинал не просил бы ее об этом, то начала не торопясь, растягивая каждое слово; она рассказала все о свидании и разговоре, доказывая каждым своим словом, что по одной из тех счастливых случайностей, которые создают придворную карьеру, она попала в Версаль при таких исключительных обстоятельствах, когда посторонняя особа обращается за один день в почти необходимую приятельницу. Действительно, в один день Жанна де Ламотт оказалась посвященной во все горести королевы, во все бессилие королевского сана.
Господин де Роган, казалось, запоминал во всем рассказе только то, что королева говорила по адресу Жанны.
А Жанна исключительно упирала на то, что королева сказала по адресу г-на де Рогана.
Рассказ только что был окончен, когда вошел все тот же лакей и доложил, что ужин подан.
Жанна взглядом пригласила кардинала; тот знаком принял приглашение.
Он предложил руку хозяйке дома, весьма быстро освоившейся со своим положением, и провел Жанну в столовую.
Когда ужин был завершен, когда прелат медленными глотками отведал надежду и любовь из двадцать раз возобновляемых и двадцать раз прерываемых рассказов обольстительницы, он понял, что ему придется поневоле считаться с этой женщиной, державшей теперь в своих руках сердца сильных мира сего.
Он с изумлением, похожим на испуг, заметил, что, вместо того чтобы держаться с самомнением особы, в ком нуждаются и перед кем заискивают, Жанна сама шла навстречу желаниям своего собеседника с обходительностью, весьма отличной от облика гордой львицы, в котором она явилась на последнем ужине на том же месте и в том же доме.
На этот раз Жанна играла роль хозяйки как женщина, не только вполне владеющая собой, но и имеющая власть над другими. Никакого замешательства во взгляде, никакой сдержанности в голосе. Разве не вращалась она целый день в обществе цвета французской знати, которая могла преподать ей высшую школу аристократизма; разве королева, не имевшая себе равных, не звала ее "милая графиня"?
Кардинал, сам человек выдающийся, подчинился ее превосходству, даже не пытаясь сопротивляться.
– Графиня, – сказал он, взяв ее руку, – в вас две женщины.
– Как так? – спросила графиня.
– Вчерашняя и сегодняшняя.
– И какую же предпочитает ваше высокопреосвященство?
– Не знаю. Но сегодняшняя – это Армида, Цирцея, женщина, которой нельзя сопротивляться.
– И которой вы, монсеньер, надеюсь, не будете пытаться сопротивляться, хоть вы и принц?
Принц, соскользнув со стула, упал к ногам г-жи де Ламотт.
– Вы просите милостыни? – спросила она.
– И жду, чтобы вы подали мне ее.
– Сегодня день щедрот, – ответила Жанна, – графиня де Валуа заняла подобающее ей положение в обществе, она стала придворной дамой; в скором времени она будет считаться одной из самых благородных женщин в Версале. Поэтому она может разжать руку и протянуть ее кому ей заблагорассудится.
– Хотя бы и принцу? – спросил г-н де Роган.
– Хотя бы и кардиналу, – отвечала Жанна.
Кардинал запечатлел долгий и страстный поцелуй на ее хорошенькой капризной ручке и затем встал, чтобы найти ответ на свой немой вопрос во взгляде и улыбке графини. Пройдя в переднюю, он сказал два слова своему скороходу.
Через две минуты послышался стук отъезжавшей кареты.
Графиня подняла голову.
– Клянусь честью, графиня, – сказал кардинал, – я сжег свои корабли.
– И в этом нет большой заслуги, – отвечала графиня, – так как вы в гавани.
XIXГЛАВА, В КОТОРОЙ ИЗ-ПОД МАСОК НАЧИНАЮТ ПОЯВЛЯТЬСЯ ЛИЦА
Продолжительные беседы составляют счастливую привилегию людей, которым нечего сказать друг другу. После счастья молчать или выражать желание междометием, бесспорно, самое большое счастье – долго разговаривать без слов.
Через два часа после того, как карета была отослана, кардинал и графиня дошли именно до той точки, о которой мы говорим. Графиня уступила, кардинал победил; однако кардинал был рабом, а триумфатором была графиня.
Двое мужчин обманывают друг друга, обмениваясь рукопожатием. Мужчина и женщина обманывают друг друга, обмениваясь поцелуем.
Но в данном случае обман произошел только потому, что обе стороны желали быть обманутыми.
Каждый имел свою цель. Чтобы достичь ее, необходимо было сближение. Таким образом каждый достигал своей цели.
Поэтому кардинал даже не трудился скрывать своего нетерпения. Он ограничился маленькой уловкой, чтобы снова перевести разговор на Версаль и на почести, ожидавшие там новую любимицу королевы.
– Она щедра, – сказал он, – и ни за чем не постоит для тех, кого любит. У нее есть редкое умение давать немного многим и давать много немногим друзьям.
– Вы, значит, считаете ее богатой? – спросила г-жа Ламотт.
– Она умеет изыскивать себе средства одним словом, жестом, улыбкой. Никогда ни один министр, кроме разве одного Тюрго, не имел мужества отказать королеве в том, что она просила.
– Ну, а я, – сказала г-жа де Ламотт, – вижу, что она менее богата, чем вы думаете, эта бедная королева, или, вернее, бедная женщина!
– Почему так?
– Разве человек может называться богатым, если ему приходится подвергать себя лишениям?
– Лишениям! Расскажите, в чем дело, милая Жанна.
– О Боже мой, я вам передам только то, что видела, ни больше ни меньше.
– Говорите, я вас слушаю.
– Вообразите себе два ужасных мучения, которые пришлось вынести этой несчастной королеве.
– Два мучения? Какие же?
– Знаете ли вы, что такое женское желание, милый принц?
– Нет, не знаю, но очень хотел бы, чтобы вы обучили меня, графиня.
– Так вот, у королевы есть одно желание, которое она не может удовлетворить.
– Желание кого-то?
– Нет, чего-то.
– Какое же?
– Бриллиантовое ожерелье.
– Подождите-ка, я знаю. Не хотите ли вы сказать о бриллиантах Бёмера и Боссанжа?
– Вот именно.
– О, это старая история, графиня.
– Стара она или нова, но скажите, разве не приводит королеву в настоящее отчаяние невозможность владеть тем, что едва не досталось простой фаворитке? Проживи Людовик XV еще две недели, и Жанна Вобернье получила бы то, чего не может иметь Мария Антуанетта.
– Вот в этом вы ошибаетесь, милая графиня: королева имела уже пять или шесть случаев получить эти бриллианты и всякий раз отказывалась от них.
– О!
– Я же говорю вам, что король предлагал ей бриллианты и она отказалась принять их из рук самого короля.
И кардинал рассказал ей историю про корабль.
Жанна с жадностью выслушала ее.
– Ну и что же из этого? – спросила она, когда кардинал кончил.
– Как что из этого?
– Ну да, что это доказывает?
– Что она не пожелала ожерелья, так мне кажется.
Жанна пожала плечами.
– Вы знаете женщин, вы знаете двор, вы знаете королей и даете провести себя таким образом?
– Но я просто свидетельствую отказ.
– Мой дорогой принц, это свидетельство только одного: королеве надо было произнести блестящее, приносящее популярность слово, и она сделала это.
– Прекрасно, – сказал кардинал, – вот как вы верите в королевские добродетели! Ах, скептик! Да апостол Фома был верующим по сравнению с вами!
– Пускай я буду скептиком или верующей, но я хочу убедить вас в одном.
– В чем же именно?
– Что королева едва успела отказаться от ожерелья, как ее охватило безумное желание иметь его.
– Вы все это выдумываете, милая моя; прежде всего знайте одно: при всех недостатках у королевы есть неоценимое достоинство.
– Какое же?
– Она бескорыстна! Она не любит ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. Она ценит минералы по их достоинствам; для нее цветок у корсажа равноценен бриллиантам в ушах.
– Не спорю. Но только в данном случае я утверждаю, что королеве хочется надеть себе на шею несколько бриллиантов.
– О! Докажите, графиня.
– Нет ничего легче: только что я видела это ожерелье.
– Вы?
– Да, и не только видела, но и прикасалась к нему.
– Где?
– Все там же, в Версале.
– В Версале?
– Да, его привозили туда ювелиры, пытаясь в последний раз соблазнить королеву.
– И оно красиво?
– Оно удивительно.
– И вы, как истинная женщина, понимаете, что о нем можно мечтать?
– Я понимаю, что оно может отнять сон и аппетит.
– Увы, почему я не могу подарить королю корабль?
– Корабль?
– Да, тогда он подарил бы мне ожерелье, а получи я его, вы могли бы спать и есть спокойно.
– Вы смеетесь?
– Нет, клянусь вам.
– В таком случае я сейчас скажу вам одну вещь, которая вас очень удивит.
– Скажите.
– Я не хотела бы иметь это ожерелье!
– Тем лучше, графиня, так как я не мог бы подарить вам его.
– Увы, ни вы, ни кто-нибудь другой; это сознает королева, потому-то и желает его.
– Но я повторяю вам, что король предлагал ей его.
Жанна сделала быстрый жест, как бы говоря, что ей надоело это слушать.
– А я, – сказала она, – говорю вам, что женщины особенно ценят такие подарки от тех, кто не заставляет принимать их.
Кардинал внимательнее поглядел на Жанну.
– Я вас не совсем понимаю, – сказал он.
– Тем лучше; прекратим разговор. И прежде всего что вам за дело до этого ожерелья, раз мы не можем его иметь?
– О, будь я королем, а вы королевой, я бы заставил вас принять его!
– Ну вот, не будучи королем, заставьте королеву взять его, и вы увидите, так ли она рассердится на это насилие, как вы думаете!
Кардинал снова посмотрел на Жанну.
– Право, – сказал он, – вы уверены, что не ошибаетесь и что у королевы есть это желание?
– Страстное. Послушайте, милый принц, не говорили ли вы мне – или от кого-то я это слышала, – что вы были бы не прочь стать министром?
– Очень возможно, что я говорил это, графиня.
– В таком случае побьемся об заклад, милый принц…
– Относительно чего?
– Что королева сделает министром того человека, который сумеет повести дело так, чтобы это ожерелье через неделю лежало на ее туалетном столе.
– О, графиня!
– Я знаю, что говорю. Или вы предпочитаете, чтобы я думала про себя?
– О нет, конечно.
– К тому же то, что я говорю, не касается вас. Вполне понятно, что вы не бросите полтора миллиона на удовлетворение прихоти королевы; это значило бы, право, слишком дорого заплатить за портфель, который вы получите даром и на который имеете право. Примите же все сказанное мною за пустую болтовню. Я как попугай: меня ослепил солнечный свет, вот я все и твержу, что мне жарко. Ах, монсеньер, какое это тяжелое испытание для скромной провинциалки пользоваться целый день высочайшей милостью! Надо быть орлом, как вы, чтобы, не опуская глаз, смотреть на это ослепительное солнце.
Кардинал погрузился в раздумье.
– Ну вот, – сказала Жанна, – вы теперь плохо обо мне думаете и находите меня такой жалкой и вульгарной, что даже не удостаиваете говорить со мной.
– Это почему?
– Мое суждение о королеве основано на личном взгляде.
– Графиня!
– Что вы хотите? Мне показалось, что она желает иметь бриллианты, потому что она вздохнула, увидев их… А показалось мне это потому, что, будь я на ее месте, я желала бы иметь их. Простите мне эту слабость.
– Вы очаровательная женщина, графиня… Вы по какому-то странному совпадению одарены слабостью сердца, как вы признались, и вместе с тем силой ума; в иные минуты вы так мало напоминаете женщину, что это страшит меня. В другие же минуты вы бываете так очаровательны, что я благословляю Небо и вас.
И галантный кардинал заключил эту любезность поцелуем.
– Ну перестанем говорить об этом, – сказал он.
"Хорошо, – прошептала про себя Жанна, – но, кажется рыба клюнула".
Сказав только что: "Перестанем говорить об этом" – кардинал между тем первый вернулся к этой же теме.
– Так вы думаете, что Бёмер сделал новую попытку? – спросил он.
– Вместе с Боссанжем, – невинным голосом подтвердила г-жа де Ламотт.
– Боссанжем? Погодите-ка, – сказал кардинал, точно что-то соображая, – кажется, Боссанж – его компаньон?
– Да, такой высокий, худой.
– Вот-вот.
– И живет он…
– Где-то на набережной Железного Лома или на Школьной набережной, право, не знаю… Во всяком случае в окрестностях Нового моста.
– Нового моста, да, вы правы… Я прочла их имена над дверью одного дома, проезжая мимо в карете.
"Ну-ну, – сказала себе Жанна, – рыба клюет все сильнее и сильнее".
Жанна не ошибалась: крючок был проглочен весьма глубоко.
На другой день, выйдя из маленького домика в Сент-Антуанском предместье, кардинал приказал вести себя прямо к Бёмеру. Он рассчитывал остаться неузнанным, но Бёмер и Боссанж были придворными ювелирами и поэтому при первых же произнесенных им словах стали величать его монсеньером.
– Ну да, я монсеньер, – сказал кардинал, – но если вы меня узнали, то примите, по крайней мере, предосторожности, чтобы другие не узнали меня.
– Монсеньер может быть спокоен. Мы ожидаем ваших приказаний, монсеньер.
– Я приехал к вам затем, чтобы купить бриллиантовое ожерелье, которые вы показывали королеве.
– Мы поистине в отчаянии, монсеньер, но вы опоздали.
– Как так?
– Оно продано.
– Этого не может быть, так как еще вчера вы его снова предлагали ее величеству.
– Которая снова отказалась от него, монсеньер, и поэтому прежняя сделка остается в силе.
– А с кем была заключена сделка? – спросил кардинал.
– Это секрет, монсеньер.
– Слишком много секретов, господин Бёмер.
И кардинал встал.
– Но, монсеньер…
– Я полагал, сударь, – продолжал кардинал, – что ювелир французского двора должен быть довольным, продав эти чудесные камни во Франции. Вы предпочитаете Португалию… Как вам угодно, господин Бёмер.
– Монсеньеру все известно! – воскликнул ювелир.
– Что же вы видите в этом удивительного?
– Но если монсеньеру все известно, значит, он узнал это не иначе как от самой королевы!
– А если бы и так? – спросил г-н де Роган, не оспаривая предположения, льстившего его самолюбию.
– О, это многое меняет, монсеньер.
– Объяснитесь, я не понимаю.
– Монсеньер позволит говорить совершенно свободно?
– Говорите.
– Так вот: королева хочет иметь наше ожерелье.
– Вы думаете?
– Мы уверены в этом.
– А в таком случае почему она не покупает его?
– Потому что она отказалась принять его от короля, а изменить свое решение, за которое ее величество слышала столько похвал, значило бы проявить каприз.
– Королева выше всяких толков.
– Да, когда дело идет о народе или о придворных. Но когда дело касается мнения короля…
– Король, как вам известно, собирался подарить королеве это ожерелье.
– Конечно; но он поспешил выразить королеве свою благодарность, когда она отказалась от него.
– Так что же вы заключаете из всего этого, господин Бёмер?
– Что королева желала бы иметь ожерелье, но так, чтобы казалось, что не она покупала его.
– Ну, вы ошибаетесь, – отвечал кардинал. – Дело вовсе не в этом.
– Очень жаль, монсеньер, потому что это единственная уважительная причина для нас нарушить слово, данное господину послу Португалии.
Кардинал задумался.
Как бы ни была искусна игра дипломатов, дипломатия купцов всегда ее превосходит… Прежде всего потому, что дипломат почти всегда торгуется о ценностях, которыми не обладает; купец же держит, сжимает в когтях желанную вещь, и купить ее у него, даже дорого, – почти то же, что ограбить его.
– Сударь, – сказал кардинал де Роган, видя, что находится во власти этого человека, – предполагайте, если хотите, что королеве желательно иметь это ожерелье.
– Это меняет все дело, монсеньер. Я могу нарушить все заключенные сделки, раз дело идет о том, чтобы отдать предпочтение королеве.
– За сколько вы продаете это ожерелье?
– За полтора миллиона ливров.
– Как должна быть произведена уплата?
– Португалец должен был уплатить мне задаток, а я отвез бы сам ожерелье в Лиссабон, чтобы получить остальную сумму.
– Такой способ уплаты у нас не практикуется, господин Бёмер, но задаток вы получите; конечно, в разумных пределах.
– Сто тысяч ливров.
– Их можно найти. А остальное?
– Ваше высокопреосвященство хотели бы отсрочки? – сказал Бёмер. – При поручительстве вашего высокопреосвященства это возможно. Но ведь отсрочка влечет за собой убыток, потому что, заметьте, монсеньер, при такой крупной операции цифры растут совершенно произвольно. Проценты на полтора миллиона ливров, считая по пяти на сто, составляют семьдесят пять тысяч ливров, а пять процентов равносильны разорению для нас, купцов. Десять процентов – вот самое меньшее, на что можно согласиться.
– Значит, по вашим подсчетам, это составило бы полтораста тысяч?
– Да, монсеньер.
– Договоримся, что вы продаете это ожерелье за миллион шестьсот тысяч ливров, господин Бёмер, и разделим уплату остальных полутора миллионов ливров на три взноса в годичный срок. Согласны?
– Монсеньер, мы теряем на такой сделке пятьдесят тысяч ливров.
– Не думаю, сударь. Если бы вам предстояло завтра получить полтора миллиона ливров, вы оказались бы в затруднительном положении: ювелир не покупает земель такой стоимости.
– Нас двое, монсеньер: мой компаньон и я.
– Согласен; но все равно вам будет гораздо удобнее получать по пятьсот тысяч ливров каждую треть года, то есть по двести пятьдесят тысяч ливров на каждого.
– Монсеньер забывает, что бриллианты не принадлежат нам. О, если бы они были наши, то мы были бы достаточно богаты для того, чтобы не беспокоиться ни о платежах, ни о размещении поступающих средств.
– А кому же они принадлежат?
– Чуть ли не десяти кредиторам: мы покупали эти камни по отдельности. За один мы должны в Гамбурге, за другой в Неаполе; за один в Буэнос-Айросе, за два в Москве. Наши кредиторы ждут продажи ожерелья, чтобы получить свои деньги. Только прибыль, которую мы получим, будет нашей собственностью. Но увы, монсеньер, с тех пор как это несчастное ожерелье находится в продаже, то есть вот уже два года, мы потеряли двести тысяч ливров в виде процентов. Судите же, в выигрыше ли мы?
Кардинал де Роган прервал Бёмера.
– Кстати, – сказал он, – ведь я еще не видел ожерелья.
– Правда, монсеньер, вот оно.
И Бёмер со всеми осторожностями показал драгоценное украшение.
– Великолепно! – воскликнул кардинал, с любовью дотрагиваясь до застежки, которая прикасалась к шее королевы.
Когда, наконец, его пальцы насытились поисками симпатических токов, которые могли остаться на камнях ожерелья, он сказал:
– Итак, сделка заключена?
– Да, монсеньер, и я сейчас же отправляюсь в посольство, чтобы взять назад свое слово.
– Я не знал, что в Париже сейчас находится португальский посол.
– Да, монсеньер; господин да Суза сейчас здесь: он приехал инкогнито.
– Для переговоров об этом деле, – сказал кардинал, смеясь.
– Да, монсеньер.
– О, бедный Суза! Я его хорошо знаю. Бедный Суза!
И кардинал снова расхохотался.
Господин Бёмер почел долгом присоединиться к веселью своего клиента.
И, глядя на футляр с ожерельем, они долго потешались над португальцем.
Господин де Роган собрался уезжать. Бёмер остановил его:
– Монсеньер, угодно ли вам будет сообщить мне, как мы будем производить расчет?
– Да очень просто.
– Через управляющего монсеньера?
– Нет, нет; никого, кроме меня. Вы будете вести дело только со мной.
– А когда?
– Завтра же.
– И сто тысяч ливров?..
– Я привезу их сюда завтра.
– Хорошо, монсеньер. А векселя?
– Я подпишу их здесь завтра.
– Прекрасно, монсеньер.
– И так как вы любите секреты, господин Бёмер, то хорошенько запомните, что в ваших руках находится один из важнейших.
– Монсеньер, я понимаю это и буду достоин вашего доверия, так же как и доверия ее величества королевы, – тонко добавил тот.
Господин де Роган покраснел и вышел, смущенный, но счастливый, как всякий человек, который разоряется под влиянием сильной страсти.
На другой день г-н Бёмер с важным видом отправился в португальское посольство.
В ту минуту как он собирался постучать в дверь, г-н де Босир, первый секретарь, принимал счета от г-на Дюкорно, правителя канцелярии, а дон Мануэл да Суза, посол, объяснял новый план действий своему сообщнику, камердинеру.
С тех пор как Бёмер посетил в последний раз улицу Жюсьен, здесь многое преобразилось.
Весь персонал, высадившийся, как мы видели, из двух почтовых карет, разместился в соответствии со степенью нужности каждого и теми функциями, которые предстояло ему выполнять в доме нового посла.
Надо сказать, что сообщники, поделив между собой роли, прекрасно ими разыгрываемые, собираясь вскоре их сменить, могли сами охранять свои интересы, что всегда придает бодрость духа, даже когда приходится исполнять самые тяжелые обязанности.
Господин Дюкорно, очарованный сообразительностью всех этих слуг, одновременно восхищался тем, что новый посол был так мало заражен национальными предрассудками, что набрал весь штат исключительно из французов, начиная с первого секретаря и кончая камердинером.
Вот почему, проверяя счета с г-ном де Босиром, он затеял разговор, восхваляя за это главу посольства.
– Видите ли, фамилия да Суза, – сказал Босир, – не принадлежит к тем закоснелым португальцам, которые придерживаются образа жизни четырнадцатого столетия: таких вы много встретите в наших провинциях. Да Суза – дворяне-путешественники с миллионным состоянием; они, если бы пожелали, могли бы стать где-нибудь королями.
– Но у них не появляется такого желания, – тонко заметил г-н Дюкорно.
– К чему им это, господин правитель канцелярии? Разве, обладая известным числом миллионов и знатным именем, они не равны королям?
– О, какое у вас философское мировоззрение, господин секретарь, – сказал с удивлением Дюкорно. – Я никак не ожидал услышать эти максимы равенства из уст дипломата.
– Мы составляем среди дипломатов исключение, – ответил Босир, досадуя на себя за вырвавшееся у него несвоевременное замечание. – Не будучи вольтерьянцами или армянами на манер Руссо, мы знакомы все-таки с философией и знаем о естественных теориях неравенства сословий и способностей людей.
– А знаете, – с жаром воскликнул правитель канцелярии, – все-таки счастье, что Португалия – небольшое государство!
– Почему это?
– А потому, что, имея таких лиц во главе правления, она очень скоро стала бы великой, сударь.
– О, вы льстите нам, дорогой правитель канцелярии. Нет, мы занимаемся философской политикой. Это красиво выглядит, но малоприменимо. Однако довольно об этом. Итак, вы говорите, что в кассе сто восемь тысяч ливров?
– Да, господин секретарь, сто восемь тысяч ливров.
– И никаких долгов?
– Ни денье.
– Вот образцовый порядок! Позвольте мне ведомость выдачи денег, пожалуйста.
– Вот она. А когда представление ко двору, господин секретарь? Должен вам сказать, что в квартале это стало предметом любопытства, бесконечных толков и, я бы сказал, чуть не беспокойства.
– А!
– Да, время от времени вокруг посольства прохаживаются люди, которые очень хотели бы, конечно, чтобы двери у нас были стеклянными.
– Люди?.. – спросил Босир. – Местные жители?
– И другие. Так как миссия у господина посла секретная, то вы понимаете, что полиция, наверное, сразу займется выяснением ее целей.
– Я тоже думал об этом, – сказал Босир, достаточно встревоженный.
– Посмотрите, господин секретарь, – сказал Дюкорно, подводя Босира к решетчатому окну, выходившему на срезанный угол одного из флигелей дома. – Посмотрите; видите ли вы на улице этого человека в грязном коричневом балахоне?
– Вижу.
– Как он смотрит сюда, а?
– Действительно. Кто это, как вы полагаете?
– Откуда мне знать… Может быть, шпион господина де Крона.
– Возможно.
– Между нами, господин секретарь, господин де Крон далеко уступает в способностях господину де Сартину. Вы знавали господина де Сартина?
– Нет, сударь, нет!
– О, тот десять раз уже разгадал бы вашу тайну. Правда, вы принимаете предосторожности.
В эту минуту раздался звонок.
– Господин посол зовет меня, – поспешно сказал Босир, которого этот разговор начинал несколько беспокоить.








