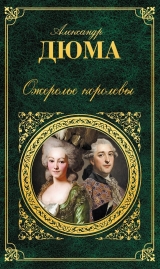
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 61 страниц)
– То есть…
– Да, когда я не буду больше зависеть от ваших благодеяний, вы не станете подозревать, что я жду от ваших визитов каких-то выгод. Тогда ваши чувства ко мне станут более возвышенными. Я от этого только выгадаю, монсеньер. Да и вы ничего не потеряете.
Она снова встала, так как нарочно перед тем уселась, чтобы прочитать мораль с большей торжественностью.
– Этим, – ответил кардинал, – вы ставите меня в невыносимое положение.
– Как так?
– Вы запрещаете мне ухаживать за вами!
– Меньше всего на свете. Разве ухаживать за женщиной – значит непременно становиться перед нею на колени и целовать ей руки?
– Тогда прямо к делу, графиня. Каким же образом вы позволите мне ухаживать за вами?
– Так, чтобы это не противоречило моим вкусам и обязанностям.
– О, вы избрали две самые неопределенные области на свете.
– Вы напрасно прервали меня, монсеньер, так как я собирались добавить к сказанному еще и третью.
– Что же именно, великий Боже?
– И так, как подскажут мне мои прихоти.
– Я погиб.
– Вы отступаете?
Кардинал находился в эту минуту более во власти чар задорной соблазнительницы, нежели под влиянием своих тайных мыслей.
– Нет, – сказал он, – я не отступлю.
– Ни перед моими обязанностями?
– Ни перед вашими вкусами и прихотями.
– А доказательства?
– Говорите, чего вы желаете?
– Я хочу поехать сегодня вечером на бал в Оперу.
– Это ваше дело, графиня… Вы свободны как ветер, и я не вижу, что бы вам могло помешать отправиться на этот бал.
– Минуту. Вы узнали только половину моего желания… Другая половина заключается в том, чтобы и вы поехали со мною.
– Я! В Оперу! О, графиня!
И кардинал сделал быстрое движение, которое было бы совершенно естественно для обыкновенного смертного, но для Рогана, да еще в сане кардинала, должно было выражать крайнее удивление.
– Вот как вы стараетесь угодить мне? – спросила г-жа де Ламотт.
– Кардиналы не ездят на балы в Оперу, графиня; это так же невозможно для меня, как для вас пойти… в курительную.
– Кардиналы также и не танцуют, не правда ли?
– О нет!
– Ну, а как же я читала, что кардинал Ришелье танцевал сарабанду?
– Перед Анной Австрийской – да… – вырвалось у принца.
– Перед королевой, это правда, – повторила Жанна, глядя на него пристально. – Ну и вы, может быть, сделали бы это для королевы…
Принц, при всей своей ловкости и самообладании, не мог скрыть выступившей у него при этих словах краски на лице.
Сжалилась ли лукавая женщина над его смущением или сочла более удобным для себя не оставлять его долго в замешательстве, но она поспешила добавить:
– Как же мне, которой вы расточаете свои уверения, не быть оскорбленной, видя, что вы ставите меня ниже королевы, когда у вас просят только одного: поехать со мною скрытым от всех взоров под домино и маской. Оказав мне эту любезность, за которую я так буду вам признательна, вы помогли бы мне сделать громадный, измеряемый уже не вашими пресловутыми туазами шаг на том пути, о котором мы говорили.
Кардинал, довольный тем, что так дешево отделался, а в особенности обрадованный постоянными победами, которых хитрая Жанна позволяла ему как будто добиваться после каждой его ошибки, бросился к графине и пожал ей руку.
– Для вас, – сказал он, – я готов на все, даже на невозможное.
– Благодарю вас, монсеньер… Человек, который идет ради меня на такую жертву, – мой драгоценный друг. Я вас освобождаю от этой неприятной обязанности теперь, когда вы согласились на нее.
– Нет, нет, только тот может требовать себе вознаграждения, кто сделал свое дело. Графиня, я еду с вами, но в домино.
– Мы поедем по улице Сен-Дени, около Оперы; я в маске войду в магазин и куплю вам костюм, вы переоденетесь в карете.
– Графиня, а знаете, это будет очаровательный вечер!
– О монсеньер, ваша доброта ко мне так безгранична, что приводит меня в полное смущение. Но мне пришло в голову: может быть, в вашем доме, в особняке Роган, ваше сиятельство найдет домино, которое будет более в вашем вкусе, чем то, которое мы собираемся купить?
– Вот непростительное коварство, графиня! Если я еду на бал в Оперу, то верьте одному…
– Чему?
– Что я буду так же удивлен, увидев себя там, как и вы, когда ужинали вдвоем с другим мужчиной, а не с вашим мужем.
Жанна поняла, что на это нечего возразить, и только поблагодарила его.
К дверям домика подъехала карета без гербов на дверцах, приняла двух беглецов и крупной рысью понеслась к бульварам.
XXIIНЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ОПЕРЕ
Опера, этот парижский храм развлечений, сгорела в июне 1781 года.
Двадцать человек погибло под развалинами. И так как это несчастье случалось во второй раз за восемнадцать лет, то постоянное место ее расположения – Пале-Рояль – стало казаться роковым для веселящихся парижан, и королевским ордонансом театр был перемещен в другой квартал, подальше от центра.
Для людей, живших по соседству с ней, театральное здание – целый город, полный холста и некрашеного дерева, картона и красок, – всегда служило источником беспокойства. Целая и невредимая, Опера воспламеняла сердца финансистов и аристократов, в ее залах смешивались люди различных званий и имущественного положения. Но загоревшаяся Опера могла уничтожить целый квартал, даже целый город. Для этого было достаточно одного порыва ветра.
Выбранное для новой Оперы место находилось у ворот Сен-Мартен. Король, озабоченный тем, что его добрый город Париж так долго останется без этого театра, стал грустен, как это бывало всякий раз, когда в город не подвозили зерно или когда цена на хлеб превышала семь су за четыре фунта.
Нужно было видеть, как были выбиты из колеи все старые аристократы, все молодые судейские, все офицеры и все финансисты, не знавшие теперь, на что употребить время после обеда; нужно было видеть, как блуждают по бульварам бесприютные божества – от танцора кордебалета до примадонны.
Чтобы утешить короля, а отчасти и королеву, их величествам представили архитектора г-на Ленуара, который обещал невиданные чудеса.
Этот милейший человек был полон новых планов; он предложил столь совершенную систему вентилируемых коридоров, что в случае пожара никому не грозила опасность задохнуться там от дыма. Он спроектировал восемь больших дверей, не считая пяти больших окон в первом этаже, которые находились так близко от земли, что даже самые трусливые могли выпрыгнуть из них прямо на бульвар, не боясь сломать себе шею.
Взамен дивного зала Моро и живописи Дюрамо г-н Ленуар предлагал здание с фасадом в девяносто шесть футов, выходившим на бульвар. Фасад этот должны были украшать восемь кариатид, опирающихся на столбы; три входные двери; между ними – восемь колонн, покоящихся на цоколе; а вдобавок – барельеф над капителями и балкон с тремя окнами, украшенными архивольтами.
Сцена должна была иметь тридцать шесть футов в ширину, зрительный зал – семьдесят два фута в длину и восемьдесят четыре фута в ширину от одной стены до другой.
Фойе должны были быть украшены зеркалами и отделаны с благородной простотой.
Во всю ширину зала, под оркестром, г-н Ленуар предусмотрел пространство в двенадцать футов для огромного резервуара и двух комплектов насосов, к которым должно было быть приставлено двадцать солдат французской гвардии.
Наконец, в довершение всего, для того чтобы выстроить зрительный зал, архитектор просил семьдесят пять дней и семьдесят пять ночей, и ни одного часа больше или меньше.
Последний пункт показался хвастовством, и над этим первое время очень смеялись. Но король произвел с г-ном Ленуаром расчеты и согласился на все его условия.
Архитектор принялся за работу и сдержал слово. Зал был окончен к назначенному сроку.
Но тогда публика, которая никогда ничем не бывает довольна, рассудила, что зал весь деревянный, а иначе и нельзя было выстроить его так быстро, и что, следовательно, пребывание в новом здании небезопасно. В этот театр, окончания которого все ждали с таким страстным нетерпением, что при постройке его следили чуть ли не за кладкой каждого бревна, – в здание, которое росло на глазах парижан, причем каждый заранее намечал себе в нем место, теперь, когда оно было окончено, никто не захотел войти. Самые отчаянные смельчаки и безумцы взяли билеты на первое представление оперы Пиччинни "Адель из Понтьё", но при этом написали и свои завещания.
Видя это, архитектор в отчаянии обратился к королю, который подал ему блестящий совет.
– Трусливые люди во Франции, – сказал его величество, – это те, кто платят. Они скорее готовы дать вам десять тысяч ливров ренты и задыхаться в переполненном зале, но не хотят рисковать задохнуться под обрушившимся потолком. Оставьте же их в покое и пригласите публику храбрую, но которой нечем платить. Королева подарила мне дофина: город ликует от восторга. Объявите, что для ознаменования радостного события – рождения моего сына – Опера откроет свои двери бесплатным представлением, и если две с половиной тысячи жителей, которые весят около трехсот тысяч фунтов, окажутся в ваших глазах недостаточным мерилом для испытания прочности постройки, то попросите всех этих молодцов немножко поплясать. Вы ведь знаете, господин Лоран, что вес увеличивается в пять раз при падении предмета с высоты четырех дюймов. Ваши две с половиной тысячи храбрецов представят собой нагрузку в полтора миллиона фунтов, если вы заставите их танцевать. Устройте им после спектакля бал.
– Ваше величество, благодарю вас, – сказал архитектор.
– Но сначала хорошенько подумайте: ведь вашему зданию это будет тяжеловато.
– Ваше величество, я ручаюсь за свою постройку и сам пойду на этот бал.
– А я, – ответил король, – обещаю вам приехать на второе представление.
Архитектор последовал совету. "Адель из Понтьё" была исполнена перед тремя тысячами простолюдинов, которые хлопали с еще большим воодушевлением, чем королевские особы.
Эти же люди охотно согласились потанцевать после спектакля и повеселились вволю. И вес их при этом увеличился в десять, а не в пять раз.
В зале ничто даже не шелохнулось.
Если и можно было опасаться несчастья, то на следующих представлениях, потому что трусливая знать стала переполнять этот зал до отказа. Туда – три года спустя после открытия Оперы – отправились на бал г-н кардинал де Роган и г-жа де Ламотт.
Вот те краткие предварительные объяснения, которые мы должны дать читателю. Теперь вернемся к героям нашего рассказа.
XXIIIБАЛ В ОПЕРЕ
Бал был в полном разгаре, когда кардинал Луи де Роган и г-жа де Ламотт прокрались незаметно в зал; по крайней мере, прелат старался проскользнуть как можно незаметнее в тысячную толпу домино и всевозможных масок.
Скоро толпа их окружила со всех сторон, и они потонули в ней, как на глазах гуляющих у берега реки исчезают в сильном водовороте маленькие волны, подхваченные и унесенные ее течением.
Два домино, насколько это было возможно в такой толкотне, старались, держась бок о бок, общими усилиями противостоять напору толпы, но, увидев, что это им не удается, решили отойти под ложу королевы, где толпа была не так густа и где стена могла служить опорой.
То были черное и белое домино: одно высокое, другое среднего роста; одно скрывало мужчину, другое – женщину. Он сильно размахивал руками, а она поворачивала голову то вправо, то влево.
Эти маски, по-видимому, были поглощены очень оживленным разговором. Прислушаемся к нему.
– Я вам говорю, Олива, что вы ждете кого-то, – повторял мужчина. – Ваша голова вертится, как флюгер, во все стороны, но не по воле ветра, а вслед за каждым встречным.
– Ну и что из этого?
– Как что из этого?
– Да, что же удивительного в том, что моя голова вертится? Разве я здесь не для того, чтобы смотреть?
– Но вы не только вертите своей головой, вы кружите ее и другим.
– А для чего же ездят в Оперу, сударь?
– По тысяче причин.
– Да, но это мужчины. А женщины приходят сюда только с одной целью.
– С какой?
– С той, о которой вы только что говорили: вскружить как можно больше голов. Вы меня повезли на бал в Оперу, и вам остается только покориться.
– Мадемуазель Олива!
– О, не повышайте голоса. Вы знаете, что я этого не боюсь; а главное, оставьте привычку называть меня по имени. Ничего не может быть неприличнее, как называть людей по имени на балу в Опере.
Черное домино сделало гневный жест, но его остановило внезапно появившееся голубое домино, довольно дородное, высокое и представительное на вид.

– Ла-ла, сударь, – сказало оно, – предоставьте же своей даме веселиться, как она того хочет. Какого черта! Середина Поста бывает не каждый день, и не каждый раз в середине Поста удается попасть на бал в Опере!
– Не вмешивайтесь не в свое дело, – грубо ответило черное домино.
– Сударь, – продолжало голубое домино, – запомните раз навсегда, что немножко вежливости никогда не портит дела.
– Я вас не знаю, – отвечало черное домино, – на кой же мне черт церемониться с вами?
– Вы меня не знаете, может быть, но…
– Но что?
– Но я знаю вас, господин де Босир.
Услышав свое имя, черное домино, так свободно произносившее имена других, сильно вздрогнуло, что было видно по заколыхавшимся складкам его шелкового капюшона.
– О, не бойтесь, господин де Босир, – продолжала маска, – я не тот, за кого вы меня принимаете.
– А за кого я вас принимаю, черт побери? Разве вы не довольствуетесь тем, что угадываете имена, и хотите еще угадывать и мысли?
– А почему бы и нет?
– Так угадайте-ка, о чем я думаю. Я никогда не видел волшебника, и мне, право, доставит удовольствие познакомиться хотя бы с одним.
– О нет! То, что вы от меня требуете, слишком просто, чтобы оправдать титул, который вы мне так легко даровали.
– Но скажите все же.
– Нет, придумайте что-нибудь еще.
– Мне довольно и этого. Угадывайте!
– Вы этого хотите?
– Да.
– Ну, хорошо! Вы приняли меня за агента господина де Крона.
– Господина де Крона?
– Черт возьми, вам ведь это имя хорошо известно. Да, господина де Крона, начальника полиции.
– Сударь…
– Потише, дорогой господин Босир; право, можно подумать, что вы хотите схватиться за шпагу.
– Конечно, я и ищу ее.
– Дьявольщина! Какая у вас воинственная натура!
Успокойтесь, дорогой господин Босир, вы оставили ее дома, и хорошо сделали. Поговорим же о чем-нибудь другом. Позвольте мне предложить руку госпоже?
– Руку госпоже?
– Да, вашей даме. Ведь это, кажется, принято на балах в Опере или вы думаете, что я только что приехал из Ост-Индии?
– Конечно, это принято, но когда на это согласен кавалер дамы.
– Иногда, дорогой господин Босир, достаточно и согласия одной дамы.
– И надолго вы просите у меня ее руки?
– О, дорогой господин Босир, вы слишком любопытны: может быть, на десять минут, может быть, на час, а может быть, и на всю ночь.
– Полноте, сударь, вы, смеетесь надо мной.
– Отвечайте: да или нет, дорогой господин? Уступаете ли вы мне руку вашей дамы?
– Нет.
– Ну-ну, не прикидывайтесь таким злым.
– Это почему?
– Потому что вы и так в маске; бесполезно надевать на себя еще и другую.
– Послушайте, сударь…
– Ну вот, вы опять сердитесь, а между тем вы были так кротки еще недавно.
– Где это?
– На улице Дофины.
– На улице Дофины! – воскликнул Босир в недоумении.
Олива громко расхохоталась.
– Замолчите, сударыня! – сказал ей сквозь зубы человек в черном домино.
– Я ничего не понимаю из того, что вы говорите, – продолжал Босир, обращаясь к голубому домино. – Если вам угодно совать нос в мои дела, делайте это честно, сударь!
– Но, дорогой господин Босир, мне кажется, ничего не может быть честнее правды? Не так ли, мадемуазель Олива?
– Как, – воскликнула она, – вы и меня знаете?
– Разве этот господин не назвал недавно ваше имя во всеуслышание?
– А правда, – сказал Босир, возвращаясь к разговору, – заключается в том…
– В том, что в ту минуту, как вы собирались убить эту бедную даму – а час тому назад вы собирались это сделать, – вас остановил звон двух десятков луидоров…
– Довольно, сударь.
– Хорошо; но уступите мне руку вашей дамы, если с вас довольно.
– О, я прекрасно вижу, – пробормотал Босир, – что эта дама и вы…
– Что эта дама и я?
– Вы сговорились.
– Клянусь вам, что нет.
– Можно ли сказать такое? – воскликнула Олива.
– И к тому же… – начало голубое домино.
– Что к тому же?
– Если бы мы и сговорились, то только для вашей же пользы.
– Когда что-нибудь утверждают, это надо доказать, – дерзко заявил Босир.
– Охотно.
– Я очень желал бы знать…
– Я вам докажу, – продолжало голубое домино, – что ваше присутствие здесь настолько же вредно для вас, настолько ваше отсутствие было бы для вас выгодно.
– Для меня?
– Да, для вас.
– Каким же образом, скажите на милость?
– Вы ведь состоите в некоей академии, не так ли?
– Я?!
– Не сердитесь, дорогой господин де Босир, я говорю не о Французской академии.
– Академия, академия… – проворчал кавалер мадемуазель Олива.
– Да, улица Железной Кружки, подвал. Не так ли, дорогой господин Босир?
– Тише!
– Ба!
– Тише, тише! Какой вы неприятный человек, сударь!
– Не нужно так говорить!
– Почему?
– Черт возьми! Да потому, что вы сами не верите тому, что говорите. Но вернемся к этой академии.
– Ну?
Незнакомец в голубом домино вынул из кармана великолепные часы, осыпанные бриллиантами, на которые тотчас же устремились пылавшие, как два угля, глаза Босира.
– Ну? – повторил он.
– Через четверть часа в вашей академии на улице Железной Кружки, дорогой господин де Босир, будут обсуждать маленький проект, который может принести два миллиона франков двенадцати действительным членам. А вы один из них, не правда ли, господин де Босир?
– И вы тоже, если только…
– Договаривайте.
– Если только вы не сыщик.
– Право, господин де Босир, я вас считал умным человеком, но с грустью вижу, что вы глупец. Если бы я служил в полиции, то уже двадцать раз мог бы вас задержать за дела менее почтенные, чем та двухмиллионная спекуляция, о которой будут говорить в академии через несколько минут.
Босир на минуту задумался.
– Черт меня возьми, если вы не правы! – сказал он, но тотчас же спохватился:
– А, сударь, так вы посылаете меня на улицу Железной Кружки!
– Да, я вас посылаю на улицу Железной Кружки.
– И я знаю зачем.
– Скажите.
– Чтобы меня там арестовали… Но я не так прост.
– Вы опять говорите глупости.
– Сударь!
– Конечно. Ведь если бы я мог сделать то, что вы говорите, если бы я к тому же смог узнать, что за козни собираются строить в вашей академии, стал бы я просить у вас разрешения побеседовать с госпожой? Ни в коем случае. Я бы немедленно приказал вас арестовать, и мы с этой дамой избавились бы от вас. А я, наоборот, действую исключительно мягкостью и убеждением, дорогой господин де Босир: это мой девиз.
– Послушайте, – воскликнул вдруг Босир, оставляя руку Олива, – это вы сидели на софе этой дамы два часа тому назад? Ну, отвечайте!
– На какой софе? – спросило голубое домино, которое Олива слегка ущипнула за мизинец. – Что касается софы, мне известна только софа господина Кребийона-сына.
– Ну да мне это безразлично, – продолжал Босир, – ваши доводы хороши, вот все, что мне нужно. Я говорю – хороши, но можно было бы сказать – даже превосходны. Возьмите же руку моей дамы, и если вы хотите навлечь беду на честного человека, пусть будет вам стыдно!
Голубое домино громко рассмеялось, услышав эпитет "честного", которым так снисходительно наделил самого себя Босир.
– Спите спокойно, – сказал он ему, хлопнув его по плечу. – Посылая вас туда, я вам делаю подарок, по крайней мере, в сто тысяч ливров, так как, не пойди вы сегодня в академию, вас, согласно обычаю ваших товарищей, исключили бы из дележа, тогда как, отправившись туда…
– Ну так и быть, попытаю счастья, – пробормотал Босир и, сделав пируэт, раскланялся и исчез.
Голубое домино завладело рукой мадемуазель Олива, оставшейся свободной после исчезновения Босира.
– Ну вот мы и вдвоем, – сказала Олива. – Я не мешала вам интриговать этого бедного Босира сколько душе угодно, но предупреждаю вас, что меня труднее будет сбить с толку, так как я вас знаю. Если вы хотите продолжать в том же роде и со мной, то придумайте что-нибудь поинтереснее, а не то…
– Я не знаю ничего более интересного, чем ваша история, милая мадемуазель Николь, – сказало голубое домино, прижимая к себе полную ручку своей дамы, тихо вскрикнувшей, когда она услышала это имя, сказанное ей собеседником на ухо.
Правда, она тотчас же пришла в себя, как особа, которую нельзя застать врасплох.
– О Боже мой, что это за имя? – спросила она. – Николь? Речь идет обо мне? Не хотите ли вы, случайно, называть меня этим именем? Так вы потерпите кораблекрушение, едва выйдя из порта, вы налетите на первую же скалу. Меня зовут не Николь.
– Теперь, я знаю, да, теперь вас зовут Олива. Имя Николь слишком отдавало провинцией. В вас – и это мне хорошо известно – две женщины: Олива и Николь. Мы в свое время поговорим об Олива, но сначала побеседуем о Николь. Разве вы забыли то время, когда отзывались на это имя? Не верю. Милое дитя мое, раз вы молоденькой девушкой носили это имя, оно навсегда останется с вами – если не явно, то, по крайней мере, в глубине вашей души, – каково бы ни было другое, которое вы вынуждены были принять, чтобы забыть о прежнем. Бедная Олива! Счастливая Николь!
В эту минуту целый поток масок нахлынул, как бурные волны, на наших собеседников, и Николь, или Олива, принуждена была против воли еще теснее прижаться к своему кавалеру.
– Взгляните, – сказал он ей, – на эту пеструю толпу, на парочки под капюшонами, прижимающиеся друг к другу, чтобы жадно ловить слова любезности или любви. Посмотрите на эти группы людей, которые сходятся и расходятся, одни со смехом, другие с упреками. У всех у них, может быть, столько же имен, сколько и у вас, и я многих удивил бы, назвав их по именам, которые они сами помнят, но думают, что они забыты другими.
– Вы сказали: "Бедная Олива"!
– Да.
– Вы, значит, не считаете меня счастливой?
– Трудно быть счастливой с таким мужчиной, как Босир.
Олива вздохнула.
– Я и несчастлива! – сказала она.
– Но вы все-таки любите его?
– В разумных пределах.
– Если вы его не любите, то бросьте его.
– Нет.
– Почему же?
– Потому что, как только я его брошу, сейчас же буду жалеть о нем.
– Будете жалеть?
– Боюсь, что да.
– А как же можно сожалеть о пьянице, игроке, о человеке, который вас бьет, о плуте, который достоин того, чтобы его когда-нибудь колесовали на Гревской площади?
– Вы, может быть, не поймете того, что я скажу вам.
– Ничего, скажите все-таки.
– Я буду сожалеть о том шуме, который он поднимает вокруг меня.
– Я должен был бы сам догадаться об этом. Вот что значит провести молодые годы с молчаливыми людьми.
– Вы знаете о моей юности?
– Прекрасно знаю.
– Неужели, милейший мой господин? – сказала Олива со смехом, недоверчиво покачав головой.
– Вы сомневаетесь?
– О, я не сомневаюсь, а убеждена, что вы ничего не знаете.
– Так поговорим о вашей молодости, мадемуазель Николь.
– Поговорим; но предупреждаю вас, что я не буду вам отвечать.
– О, в этом нет нужды.
– Ну, я слушаю.
– Хорошо. Я не буду говорить о вашем детстве, так как это время жизни не в счет, а прямо о юности с того момента, когда вы заметили, что Бог дал вам сердце, чтобы любить.
– Любить кого?
– Чтобы любить Жильбера.
При этих словах, при звуке этого имени по всему телу молодой женщины пробежала дрожь, и голубое домино почувствовало, как она трепещет.
– О, – сказала она, – откуда вы это знаете, великий Боже?
И она разом остановилась, с невыразимым волнением устремив через прорези маски свои глаза на голубое домино.
Но голубое домино хранило молчание.
Олива, или, вернее, Николь, вздохнула.
– Ах, сударь, – сказала она, не стараясь более сдерживаться, – вы произнесли имя, которое пробуждает во мне так много воспоминаний. Вы, значит, знаете этого Жильбера?
– Да, раз я говорю вам о нем.
– Увы!
– Это был прелестный юноша, клянусь честью! Вы любили его?
– Он был красив… нет… не то… но я его находила красивым. Он был очень умен и равен мне по рождению. Но нет, вот тут я очень ошибаюсь. Если Жильбер захотел бы, ни одна женщина не была бы равной ему.
– Даже…
– Даже кто?
– Даже мадемуазель де Та…
– О, я знаю, что вы хотите сказать, – прервала его Николь, – вы, я вижу, прекрасно осведомлены, сударь. Да, он любил девушку более высокого происхождения, чем бедная Николь.
– Вы видите, что я остановился.
– Да, да, вы знаете ужасные тайны, сударь, – сказала, вздрогнув, Олива, – а теперь…
И она взглянула на незнакомца, точно стараясь прочесть что-нибудь на его лице сквозь маску.
– Что с ним стало?
– Я думаю, вы сами могли бы это сказать скорее, чем кто-либо другой.
– Почему это, великий Боже?
– Потому что, если он последовал за вами из Таверне в Париж, то вы, в свою очередь, последовали за ним из Парижа в Трианон.
– Да, это правда, но прошло уже десять лет, и я говорю вам не о том времени. Я говорю о десяти годах, которые протекли с тех пор, как я убежала, а он исчез. Боже мой, за десять лет может столько случиться!
Голубое домино хранило молчание.
– Прошу вас, – настаивала Николь почти с мольбой в голосе, – скажите мне, что сталось с Жильбером? Вы молчите, вы отворачиваетесь. Может быть, эти воспоминания вас оскорбляют, печалят?
Голубое домино, однако, не отвернулось, а опустило голову, как будто бремя воспоминаний было слишком для него тяжелым.
– Когда Жильбер любил мадемуазель де Таверне… – начала Олива.
– Потише произносите имена, – сказало голубое домино. – Разве вы не заметили, что я их не произношу вовсе?
– Он был так влюблен, – продолжала со вздохом Олива, – что каждое дерево в Трианоне знало о его любви…
– Ну, а вы его больше не любили?
– Наоборот, любила сильнее, чем когда-либо; эта любовь и погубила меня. Я красива, горда и, когда захочу, умею быть дерзкой. Я скорее готова положить голову на плаху, чем допустить, чтобы про меня сказали, будто я покорно склоняю ее.
– У вас мужественное сердце, Николь.
– Да было когда-то… в то время, – сказала со вздохом молодая женщина.
– Этот разговор вас огорчает?
– Нет, наоборот, мне приятно мысленно вернуться в свою молодость. Жизнь наша напоминает реку: самая мутная начинается из чистого источника. Продолжайте же и не обращайте внимания на случайный вздох, вылетевший из моей груди.
– О, – сказало голубое домино, и его маска слегка дрогнула, как бы от появившейся на его губах улыбки, – о вас, Жильбере и еще об одном лице я знаю, бедное дитя мое, только то, что вы знаете сами.
– В таком случае, – воскликнула Олива, – скажите мне, почему Жильбер исчез из Трианона? И если вы мне это скажете…
– …то вы убедитесь в чем-то? В таком случае я вам ничего не скажу, а вы будете убеждены в этом еще сильнее.
– Почему?
– Спросив меня, почему Жильбер покинул Трианон, вы совсем не хотели получить подтверждение чему-то. Нет, вы хотели услышать нечто, о чем вы не знаете, но узнать очень хотите.
– Правда.
Но вдруг Олива вздрогнула еще сильнее, чем прежде, и судорожно схватила руки господина в голубом домино.
– Боже мой, Боже мой! – воскликнула она.
– Что с вами?
Николь решилась, по-видимому, отогнать от себя мысль, так взволновавшую ее.
– Ничего.
– Нет, вы хотели у меня что-то спросить.
– Да, скажите мне совершенно откровенно, что стало с Жильбером?
– Разве вы не слышали, что он умер?
– Да, но…
– Ну да. Он умер.
– Умер? – с сомнением переспросила Николь и тотчас же продолжала, вздрогнув так же сильно, как минутой раньше. – Ради Бога, сударь, окажите мне одну услугу…
– Две, десять, сколько вам угодно, дорогая Николь.
– Я вас видела у себя два часа тому назад… Не правда ли, это были вы?
– Конечно.
– Два часа тому назад вы не старались прятать от меня свое лицо…
– Нисколько; я, напротив, старался, чтобы вы хорошенько разглядели меня.
– О, глупая я, глупая, ведь я не смотрела на вас! Глупая, безумная женщина! Настоящая женщина, как говорил Жильбер.
– Однако оставьте в покое ваши чудесные волосы. Пожалейте себя.
– Нет. Я хочу себя наказать за то, что смотрела на вас и не видела.
– Я вас не понимаю.
– Знаете ли, о чем я вас попрошу?
– Попросите.
– Снимите маску.
– Здесь? Это невозможно.
– О! Вы боитесь вовсе не того, что вас увидят другие. Там, за колонной, в тени галереи, вас не увидит никто, кроме меня.
– В таком случае что же удерживает меня?
– Вы боитесь, что я вас узнаю.
– Меня?
– И того, что я крикну: "Это вы, это Жильбер!"
– Вы и вправду сказали о себе: "Безумная, безумная женщина!"
– Снимите маску.
– Ну, так и быть, но при одном условии.
– Согласна на него заранее.
– Я хочу, чтобы и вы сняли свою маску…
– Я сниму ее. А если не сниму, то вы сорвете ее с меня.
Незнакомец не заставил дольше упрашивать себя: он прошел в темный уголок, указанный ему молодой женщиной, и там, сняв маску, остановился против Олива, которая с минуту не сводила с его лица глаз.
– Увы, нет, – сказала она, топнув ногой и стискивая руки так крепко, что ногти вонзились в ладони. – Увы, вы не Жильбер.
– А кто же я?
– Что мне за дело, раз вы не он!
– А если бы это был Жильбер? – спросил незнакомец, снова надевая маску.
– Если бы это был Жильбер!.. – страстно воскликнула молодая женщина.
– Да.
– Если бы он мне сказал: "Николь, вспомните о Таверне-Мезон-Руж". О, тогда!..
– И тогда?
– Для меня больше бы не существовало бы Босира.
– Я вам ведь сказал, милое дитя, что Жильбер умер.
– Ну что же? Может быть, это и к лучшему, – сказала со вздохом Олива.
– Да, Жильбер вас не полюбил бы, несмотря на всю вашу красоту.
– Вы хотите сказать, что Жильбер презирал меня?
– Нет, он скорее боялся вас.
– Возможно. Во мне была частица его души, а он себя знал так хорошо, что боялся меня.
– Значит, как вы сами это сказали, лучше, что он умер.
– К чему повторять мои слова? В ваших устах они меня оскорбляют. Почему же лучше, что он умер, скажите?
– Потому что теперь, дорогая Олива, – вы видите, я оставляю в покое Николь, – потому что теперь, дорогая Олива, перед вами будущее: счастливое, богатое, блестящее!
– Вы думаете?
– Да, если вы твердо решитесь на все, чтобы достичь того, что я обещаю вам.
– О, будьте покойны.
– Но не надо больше вздыхать, как вы вздохнули только что.
– Хорошо. Я взгрустнула о Жильбере, а так как на свете нет двух Жильберов и мой Жильбер умер, то я не буду больше грустить.
– Жильбер был молод, у него были все достоинства и недостатки молодости. А теперь…
– А теперь Жильбер так же молод, как и десять лет тому назад.
– Конечно, если он умер.
– Вы видите, он умер; такие, как он, не стареют, а умирают.
– О юность! – воскликнул незнакомец. – О мужество, о красота! Вечные семена любви, героизма и преданности! Тот, кто теряет вас, теряет поистине саму жизнь! Юность – это рай, небо, это все! То, что Бог дает нам потом, все это лишь жалкое вознаграждение за прошедшую юность! Чем щедрее он посылает свои дары людям, когда их молодость прошла, тем больше считает себя обязанным возместить им эту потерю. Но ничто – великий Боже! – не может заменить те сокровища, которые молодость расточала человеку.








