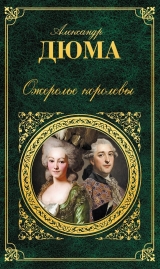
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 61 страниц)
– Жильбер думал то же самое, что вы так хорошо выразили словами, – сказала Олива. – Но довольно об этом.
– Да, поговорим о вас.
– Будем говорить о чем вам угодно.
– Почему вы убежали с Босиром?
– Потому, что я хотела уйти из Трианона, и мне нужно было бежать с кем-нибудь. Я не могла долее оставаться в роли женщины, отвергнутой Жильбером, женщиной на крайний случай.
– Десять лет хранить верность только из-за гордости, – сказало голубое домино. – Как вы дорого заплатили за это суетное чувство!
Олива рассмеялась.
– Я знаю, над чем вы смеетесь, – сказал незнакомец серьезным тоном. – Вы смеетесь над тем, что человек, который имеет претензию все знать, обвиняет вас в том, что вы десять лет хранили верность, тогда как вы не подозревали за собою такого смешного качества. Боже мой, если говорить про верность физическую, бедная вы моя, то я знаю, что ее не было. Да, я знаю, что вы были в Португалии с Босиром, пробыли там два года и оттуда отправились в Индию, но уже без Босира, с капитаном фрегата, который прятал вас в своей каюте и потом забыл на суше в Чандернагоре, собираясь отплыть обратно в Европу. Я знаю, что вы имели два миллиона рупий на расходы в доме одного наваба, который держал вас за тремя решетками. Я знаю, что вы бежали от него, перелезши через эти решетки, для чего воспользовались как лестницей плечами одного невольника. Я знаю также, что вы вернулись во Францию, в Брест, богатой, так как унесли с собой два прекрасных жемчужных браслета, два бриллианта и три крупных рубина; что в гавани ваш злой гений, как только вы высадились на берег, сейчас же столкнул вас с Босиром, который чуть не лишился чувств, увидев вас, загорелую и исхудавшую, какой вы вернулись во Францию, бедная изгнанница!
– О! – воскликнула Николь, – но кто же вы, Боже мой? Откуда вы знаете все это?
– Я знаю, наконец, что Босир увез вас, уверив вас в своей любви, потом продал ваши драгоценности и довел вас до нищеты. Я знаю, что вы его любите или утверждаете это, по крайней мере, и так как любовь есть источник всех благ, то вы должны быть самой счастливой женщиной на свете!
Олива склонила голову, прижала руку ко лбу, и по ее пальцам скользнули две слезы, две жемчужины, быть может более ценные, чем жемчужины на ее браслетах, но которые, увы, никто бы не согласился купить у Босира.
– И эту женщину, столь гордую и счастливую, – сказала она, – вы купили сегодня вечером за пятьдесят луидоров.
– Я знаю, что это слишком ничтожная сумма, сударыня, – сказал незнакомец с такой изысканной вежливостью, с которой говорит порядочный человек даже с очень низко павшей куртизанкой.
– Напротив, она слишком велика для меня, сударь; и меня очень удивило, клянусь вам, что такую женщину, как я, могут еще оценить в пятьдесят луидоров.
– Вы стоите гораздо больше, и я докажу вам это. О, не отвечайте мне ничего, так как вы не понимаете меня… И к тому же… – добавил незнакомец, склоняясь к ней.
– К тому же?
– Я в эту минуту нуждаюсь в полном вашем внимании.
– В таком случае мне надо молчать.
– Нет, напротив, разговаривайте со мной.
– О чем?
– О чем хотите, Боже мой! Говорите какие-нибудь пустяки, это безразлично, лишь бы мы казались занятыми разговором.
– Хорошо; но вы очень странный человек.
– Дайте мне вашу руку, и пройдемся.
И они двинулись между группами людей по залу, причем она грациозно выпрямила свою тонкую талию, красиво подняла кверху свою головку, изящную даже под капюшоном, и слегка изогнула шею, гибкую даже в домино, производя всей своей фигурой впечатление на знатоков, с жадностью смотревших на каждое ее движение. В то время галантных волокит любой мужчина на балу в Опере следил взглядом за поступью женщины с таким же вниманием и интересом, как теперь некоторые любители следят за бегом породистой лошади.
Олива осмелилась было через несколько минут задать своему кавалеру какой-то вопрос, но он остановил ее.
– Молчите, – сказал незнакомец, – или говорите что хотите и сколько хотите, но не заставляйте меня отвечать. Только, разговаривая, измените голос, держите голову высоко и проводите веером по шее.
Она повиновалась.
В эту минуту наша парочка проходила мимо группы благоухавших духами мужчин. В центре ее стоял какой-то господин, очень элегантный, стройный и изящный, который говорил что-то своим трем собеседникам, по-видимому почтительно слушавшим его.
– Кто этот молодой человек? – спросила Олива. – Что за прелестное жемчужно-серое домино!
– Это господин граф д’Артуа, – отвечал незнакомец, – но ради Бога, не разговаривайте больше.
Часть вторая
IБАЛ В ОПЕРЕ (Продолжение)
В ту минуту, как Олива, пораженная громким именем, которое голубое домино назвало ей, повернулась, чтобы лучше рассмотреть графа д’Артуа, стараясь в то же время держаться как можно прямее, согласно несколько раз повторенному ее кавалером наставлению, два других домино, освободившись от пристававшей к ним болтливой и шумной группы масок, вышли из толпы и направились в проход за креслами партера, где не было скамеек.
Это место представляло собой нечто вроде пустынного островка, куда толпа выбрасывала время от времени отдельные парочки, оттесняя их от центра зала к его окружности.
– Прислонитесь к этой колонне, графиня, – тихо сказал чей-то голос, звук которого произвел, по-видимому, сильное впечатление на голубое домино.
Почти одновременно с этим высокое оранжевое домино, с решительной поступью и осанкой, выдававшими в нем скорее какого-нибудь слугу, чем галантного придворного, отделилось от толпы и, подойдя к голубому домино, шепнуло:
– Это он.
– Хорошо, – отвечало голубое домино и жестом разрешило ему удалиться.
– Ну, милый дружок, – продолжало голубое домино на ухо Олива, – мы сейчас немножко позабавимся.
– Очень рада, потому что вы уже дважды огорчали меня: первый раз, отняв у меня Босира, который всегда заставлял меня смеяться, а второй раз, заговорив о Жильбере, который столько раз заставлял меня плакать.
– Я буду для вас и Жильбером и Босиром, – торжественно заявило голубое домино.
– О! – вздохнула Николь.
– Поймите меня: я не прошу вас полюбить меня, а прошу вас согласиться на ту жизнь, которую я создам вам. Я буду исполнять все ваши прихоти, лишь бы вы время от времени исполняли мои. И вот вам одна из них.
– В чем же она заключается?
– Это черное домино, которое вы видите, – один немец, мой приятель.
– А!
– Коварный друг, отказавшийся ехать со мной на бал под предлогом мигрени.
– И которому вы также сказали, что не поедете?
– Именно.
– С ним дама?
– Да.
– Кто она?
– Я не знаю. Вы не возражаете, если мы подойдем поближе? Я хочу, чтобы вас приняли за немку; поэтому не открывайте рта, а не то он отгадает по вашему произношению, что вы чистокровная парижанка.
– Прекрасно. И вы будете интриговать его?
– Будьте уверены. Начните же с того, что показывайте мне на него кончиком вашего веера.
– Так?
– Да, прекрасно, и говорите мне при этом что-нибудь на ухо.
Олива повиновалась с безропотностью и пониманием, приведшими ее спутника в восторг.
Черное домино, на которое она указывала, стояло к залу спиной, беседуя со своей дамой. Глаза последней сверкали из-под маски; она заметила жест Олива.
– Смотрите, монсеньер, – тихо сказала она, – вот две маски, которых мы, по-видимому, интересуем.
– О, не бойтесь, графиня: нас невозможно узнать. Позвольте же мне, раз мы с вами на пути к гибели, позвольте мне еще раз повторить вам, что я не встречал женщины с более обворожительной талией, с более пламенным взглядом; позвольте мне сказать вам…
– Все, что говорится под маской?
– Нет, графиня, все, что говорится под…
– Не договаривайте, вы погубите свою душу… И к тому же нам грозит еще большая опасность – быть подслушанными нашими соглядатаями.
– Этими двумя соглядатаями! – воскликнул взволнованным голосом кардинал.
– Да, они решились наконец подойти к нам.
– Хорошенько измените свой голос, графиня, если нас заставят сказать что-нибудь.
– А вы, монсеньер, ваш.
Действительно, к ним подходили Олива и голубое домино. Последнее обратилось к кардиналу.
– Маска, – сказало оно и тотчас нагнулось к Олива, которая утвердительно кивнула головой.
– Что тебе нужно? – спросил кардинал, изменив голос.
– Моя дама, – отвечало голубое домино, – поручила мне предложить тебе несколько вопросов.
– Так говори скорее, – сказал г-н де Роган.
– Ваши вопросы будут, должно быть, очень нескромными, – пропищала тоненьким голосом г-жа де Ламотт.
– Они будут настолько нескромны, что ты не услышишь их, любопытная, – продолжало голубое домино и снова нагнулось к уху Олива, которая продолжала ту же игру.
Затем незнакомец обратился к кардиналу на безупречном немецком языке со следующим вопросом:
– Монсеньер, вы влюблены в вашу спутницу?
Кардинал вздрогнул.
– Вы, кажется, сказали "монсеньер"? – спросил он.
– Да, монсеньер.
– В таком случае вы ошибаетесь: я не тот, за кого вы меня принимаете.
– О нет, господин кардинал: не запирайтесь, это бесполезно. Если бы я лично и не знал вас, дама, кавалером которой я являюсь, поручает мне сказать вам, что она тоже узнала вас.
Он нагнулся к Оливе и тихо сказал ей:
– Кивните утвердительно головой и повторяйте кивок каждый раз, как я пожму вашу руку.
Та сделала утвердительный жест.
– Вы удивляете меня, – начал совершенно сбитый с толку кардинал. – Кто же дама, которую вы сопровождаете?
– О монсеньер, я полагал, что вы уже узнали ее. Ведь она-то узнала вас. Правда, что ревность…
– Госпожа ревнует меня! – воскликнул кардинал.
– Этого мы не сказали, – отвечал незнакомец с некоторой надменностью в голосе.
– Что вам такое говорят? – с живостью спросила г-жа де Ламотт, которой очень не нравился этот диалог на немецком, непонятный для нее.
– Ничего, ничего.
Госпожа де Ламотт нетерпеливо топнула ногой.
– Сударыня, – обратился тогда к Олива кардинал, – скажите, прошу вас, одно только слово, и я обещаю вам узнать вас по этому одному слову.
Господин де Роган говорил по-немецки, Олива не поняла ни слова и нагнулась к голубому домино.
– Заклинаю вас, сударыня, – воскликнул незнакомец, – не говорите ничего!
Эта таинственность еще больше разожгла любопытство кардинала.
– Пожалуйста, – добавил он, – одно слово по-немецки! Ведь это не скомпрометирует вас.
Голубое домино, которое тем временем делало вид, что выслушивает приказания Олива, тотчас же отвечало:
– Господин кардинал, вот подлинные слова моей дамы: "Тот, чья мысль не бодрствует неусыпно, чье воображение не заполнено ежечасно образом любимого существа, тот не любит, он не должен говорить о любви".
Кардинал был поражен смыслом этих слов. Он выразил всем своим существом высшую степень удивления, почтительности и восторженной преданности. Затем его руки сами собой опустились.
– Это невозможно, – пробормотал он по-французски.
– Что такое невозможно? – воскликнула г-жа де Ламотт, жадно заинтересовавшаяся единственными понятыми ей словами из всего разговора.
– Ничего, сударыня, ничего.
– Монсеньер, вы, право, заставляете меня играть очень жалкую роль, – сказала она обиженным тоном и отняла у кардинала свою руку.
Последний не только не удержал ее, но, казалось, даже не заметил ее жеста, так он был поглощен дамой-нем-кой.
– Сударыня, – сказал он ей, по-прежнему стоявшей прямо и неподвижно в своей атласной броне, – слова, сказанные мне вашим кавалером от вашего имени… это немецкие стихи, которые я прочел в одном доме, кажется знакомом вам?
Незнакомец пожал руку Олива.
"Да", – подтвердила она кивком головы.
Кардинал вздрогнул.
– А дом этот, – нерешительно начал он, – не назывался ли Шёнбрунн?
"Да", – кивнула Олива.
– Они были написаны на столике вишневого дерева золотой заостренной палочкой, написаны одной августейшей рукой?
"Да", – кивнула Олива.
Кардинал замолчал. В его душе, казалось, все перевернулось. Он зашатался и протянул руку, чтобы найти точку опоры.
Госпожа де Ламотт наблюдала в двух шагах за этой странной сценой.
Рука кардинала легла на руку голубого домино.
– И вот их продолжение, – сказал он. – "Но тот, кто видит повсюду предмет своей любви, кто угадывает его присутствие в цветке, в благоухании, под непроницаемым покровом, – тот может молчать: его голос звучит у него в сердце, и для того, чтобы быть счастливым, ему достаточно быть услышанным другим сердцем".
– Э, да здесь говорят по-немецки! – воскликнул вдруг свежий, молодой голос в приблизившейся к кардиналу группе масок. – Посмотрим-ка, что там такое. Вы понимаете по-немецки, маршал?
– Нет, монсеньер.
– А вы, Шарни?
– Да, ваше высочество.
– Господин граф д’Артуа! – сказала Олива, прижимаясь к голубому домино, так как четыре маски довольно бесцеремонно прижались к ней.
Тем временем в оркестре гремели фанфары, а пыль от паркета и пудра от причесок поднимались радужным облаком над сверкающими люстрами, золотившими этот туман, благоухающий амброй и розой.
Приближаясь, кто-то из четырех масок толкнул голубое домино.
– Осторожнее, господа! – повелительным тоном сказал незнакомец.
– Сударь, – отвечал принц, не снимая маски, – вы видите, что нас толкают. Извините нас, сударыни.
– Уедем, уедем, господин кардинал, – сказала тихо г-жа де Ламотт.
Но в эту минуту чья-то невидимая рука смяла и отбросила назад капюшон Олива, шнурки маски развязались, она упала, и черты лица молодой женщины мелькнули на секунду в полумраке, образуемом тенью нависающего над партером яруса.
Голубое домино испустило крик притворного беспокойства; Олива – крик ужаса.
Три-четыре удивленных возгласа раздались в ответ.
Кардинал едва не лишился чувств. Если бы г-жа де Ламотт не поддержала его в эту минуту, то он упал бы на колени.
Волна масок, нахлынувшая на них, увлекла за собой графа д’Артуа и разлучила его с кардиналом и г-жой де Ламотт.
Голубое домино с быстротой молнии опустило капюшон Олива и подвязало маску, потом подошло к кардиналу и пожало ему руку.
– Вот непоправимое несчастье, сударь, – сказало оно при этом. – Вы видите, что честь этой дамы в ваших руках.
– О, сударь, сударь… – пробормотал принц Луи с поклоном.
Он провел по лбу, на котором выступили крупные капли пота, платком, дрожавшим у него руке.
– Уедем скорее, – сказало голубое домино Олива.
И они исчезли.
"Теперь я знаю, что кардинал счел невозможным, – сказала себе г-жа де Ламотт; – он принял эту даму за королеву, и вот какое действие произвело на него это сходство. Хорошо… Это нелишне заметить".
– Вы ничего не имеете против того, чтобы уехать с бала, графиня? – спросил ослабевшим голосом г-н де Роган.
– Как вам будет угодно, монсеньер, – спокойно отвечала Жанна.
– Я не вижу здесь ничего интересного, а вы?
– О, я более тоже ничего не вижу.
И они с трудом стали прокладывать себе дорогу среди беседующих масок. Кардинал, который был высокого роста, смотрел во все стороны, отыскивая скрывшееся видение.
Но голубые, красные, желтые, зеленые и серые домино мелькали у него в глазах, окутанные светлым туманом, и цвета их сливались для него в одну сплошную радугу. На расстоянии для бедного сеньора все казалось голубым, но вблизи оказывалось иным.
В таком состоянии он сел в карету, ожидавшую его со спутницей.
Карета катилась уже целых пять минут, а прелат еще не сказал Жанне ни слова.
IIСАПФО
Госпожа де Ламотт, которая сохраняла полное душевное равновесие, вывела прелата из его мечтательного состояния.
– Куда меня везет эта карета? – спросила она.
– Графиня, – воскликнул кардинал, – не бойтесь ничего… Вы поехали на бал из своего дома, и карета вас привезет туда же.
– К моему дому? В предместье?
– Да, графиня. К дому, слишком маленькому для того, чтобы вместить столько очарования!
И с этими словами принц схватил руку Жанны и согрел ее галантным поцелуем.
Карета между тем остановилась перед домиком, в котором должно было попробовать уместиться столько очарования.
Жанна легко выпрыгнула из экипажа, кардинал собирался последовать ее примеру.
– Не стоит, монсеньер, – тихо сказал ему этот демон в образе женщины.
– Как, графиня, вы считаете, что мне не стоит провести с вами несколько часов?
– Но ведь надо же спать, монсеньер, – заметила Жанна.
– Я надеюсь, что вы найдете у себя в доме несколько спален, графиня.
– Для себя – да, но для вас…
– А для меня нет?
– Нет еще, – сказала она таким милым и задорным тоном, что отказ ее был равносилен обещанию.
– В таком случае, прощайте, – отвечал кардинал, которого эта игра так сильно задела за живое, что он на минуту забыл о происшествии на балу.
– До свидания, монсеньер.
"Право, такой она мне больше нравится", – сказал себе кардинал, усевшись в карету.
Жанна одна вошла в свой новый дом.
Шестеро слуг, сон которых был прерван стуком молотка выездного лакея, выстроились в ряд в вестибюле.
Жанна оглядела их с тем видом спокойного превосходства, который не всякому богачу дает даже его богатство.
– А горничные? – спросила она.
– Две женщины ожидают госпожу в спальне, сударыня, – почтительно ответил один из лакеев, выступив вперед.
– Позовите их.
Слуга повиновался. Несколько минут спустя появились две женщины.
– Где вы спите обыкновенно? – спросила их Жанна.
– Но… мы еще не знаем, – отвечала старшая из них. – Мы будем спать, где госпоже будет угодно приказать.
– Ключи от помещений?
– Вот они, сударыня.
– Хорошо, сегодняшнюю ночь вы проведете вне дома.
Женщины с изумлением взглянули на свою хозяйку.
– Ведь у вас есть где переночевать?
– Конечно, сударыня, но теперь несколько поздно; однако если сударыне угодно быть одной…
– Эти господа проводят вас, – добавила графиня, отпуская жестом шестерых лакеев, которые были этим более довольны, чем горничные.
– А… когда мы должны вернуться? – робко спросил один из них.
– Завтра в полдень.
Шесть слуг и две горничные на мгновение переглянулись и затем, повинуясь повелительному взгляду Жанны, направились к двери.
Жанна проводила их и спросила, перед тем как запереть дверь:
– Остался ли в доме кто-нибудь еще?
– Бог мой! Нет, сударыня, никого. Но хозяйка остается одна, всеми покинутая. Это немыслимо. Нужно, чтобы хоть одна женщина охраняла вас, оставаясь в лакейской, в буфетной – словом, где-нибудь.
. – Мне никого не нужно.
– Может вспыхнуть пожар, госпоже может сделаться дурно…
– Спокойной ночи, идите себе. А вот вам, чтобы было чем отметить вступление на службу ко мне, – добавила она, вынув кошелек.
Радостный шепот, выражавший благодарность прошедших строгую школу лакеев, был их единственным ответом, их, так сказать, последним словом. Все исчезли, поклонившись ей чуть не до земли.
Жанна прислушалась, стоя у двери: они говорили друг другу, расходясь, что судьба послала им необыкновенную хозяйку.
Когда гул голосов и шум шагов замолкли в отдалении, Жанна задвинула засов и воскликнула торжествующим голосом:
– Одна! Я здесь одна и у себя!
Она зажгла канделябр в три свечи и заперла – также на засов – массивную дверь передней.
Тогда началась немая и оригинальная сцена, которая живо заинтересовала бы одного из тех ночных соглядатаев, которых фантазия поэтов заставляет летать над городами и дворцами.
Жанна обозревала свои владения, она любовалась – комната за комнатой – всем домом, в котором всякая мелочь приобрела для нее огромное значение с той минуты, как эгоистическое чувство собственника сменило в ней любопытство постороннего посетителя.
Первый этаж с хорошо проконопаченными стенами и с деревянной отделкой заключал в себе ванную комнату, службы, столовые, три гостиные и два кабинета для приемов.
Обстановка этих обширных комнат не была так богата, как у Гимар, и не так нарядна, как у друзей г-на де Субиза, но дышала роскошью аристократического дома. Она была не нова, но дом понравился бы Жанне меньше, если бы был меблирован заново исключительно для нее.
Все эти старинные дорогие вещи, утратившие свою прелесть в глазах модниц: чудные шкафчики из резного черного дерева, люстры с хрустальными жирандолями, с золочеными разветвлениями в виде лилий и воткнутыми в их середину розовыми свечами; часы в готическом стиле тонкой чеканной работы и с эмалевыми украшениями; вышитые китайские ширмочки; огромные японские вазы, наполненные редкими цветами; стенная живопись Буше и Ватто – все это повергало новую владелицу в неизъяснимый восторг.
Вот на камине два вызолоченных тритона держат снопы коралловых ветвей с висящими на них вместо плодов самыми разнородными образчиками богатой фантазии тогдашнего ювелирного искусства. Дальше, на золоченом столике с белой мраморной столешницей, огромный селадоновый слон с сапфировыми подвесками в ушах несет башню с флаконами духов.
Книги для женского чтения в тисненных золотом переплетах и с цветными миниатюрами блестели на этажерках розового дерева с вызолоченными арабесками по уголкам. Мебель, целиком обитая тончайшими тканями с улицы Гобеленов – чудо искусства и терпения, стоившее при покупке на самой мануфактуре сто тысяч ливров, – занимала маленькую гостиную, серую с золотом, в которой каждое панно было расписано Верне или Грёзом. Рабочий кабинет был украшен лучшими портретами Шардена и наиболее выдающимися терракотовыми скульптурами Клодиона.
Все говорило не о той лихорадочной торопливости, с которой богатый выскочка спешит осуществить фантазии – свои собственные или своей любовницы, – но о долгом, длившемся столетия терпеливом труде собирателей, которые прибавляли к сокровищам отцов новые сокровища для своих детей.
Жанна сделала сначала общий обзор своих владений, пересчитала число комнат, а затем принялась внимательно разглядывать все вещи.
Атак как домино и корсет мешали ей, то она вошла к себе в спальню, быстро разделась и накинула стеганый пеньюар.
Это было прелестное одеяние, которому наши матери, не очень щепетильные, когда нужно было именовать используемые ими вещи, дали такое название, что мы не решаемся написать его.
Полуобнаженная, слегка вздрагивая под атласом, складки которого ласкали ей грудь и стан своими мягкими прикосновениями, она стала смело подниматься по лестнице, сама освещая себе дорогу и уверенно ступая своими сильными и изящными ножками, красивые контуры которых виднелись из-под короткого платья.
Чувствуя себя совершенно свободной благодаря полному одиночеству и зная, что ей нечего опасаться ничьих нескромных взоров – будь то даже взоры лакея, – она носилась из комнаты в комнату, ничуть не заботясь, что гуляющие из двери в дверь сквозняки десять раз за десять минут приподнимали пеньюар, нескромно выставляя напоказ ее прелестное колено.
Когда же, собираясь открыть какой-нибудь шкаф, она поднимала руку и из-под распахнувшегося пеньюара можно было видеть до самой подмышки ее белое круглое плечо, окрашенное сверкающим отблеском огня в те золотистые тона, которые можно так часто встретить у Рубенса, тогда невидимые духи, спрятавшиеся за драпировками и притаившиеся за живописью простенков, справедливо могли торжествовать, завладев такой очаровательной гостьей, воображавшей, что она стала их хозяйкой.
Осмотрев все, обессилев и задохнувшись от долгой беготни, во время которой свечи ее канделябра сгорели на три четверти, Жанна вернулась в свою спальню, затянутую голубым атласом с вышитыми на нем крупными фантастическими цветами.
Она все видела, все сосчитала, все обласкала взглядом и прикосновением; ей осталось только восхищаться самой собой. Она поставила канделябр на столик севрского фарфора с золотой решеткой, и вдруг глаза ее остановились на мраморном Эндимионе – изящной, дышавшей чувственной негой статуэтке Бушардона, изображавшей юношу, опьяненного любовью и падающего на пьедестал из красновато-коричневого порфира.
Жанна плотно закрыла двери, опустила портьеры, задернула толстые занавеси и снова стала перед статуэткой, пожирая глазами этого красавца, возлюбленного Фебы, которая одарила его прощальным поцелуем перед тем, как возвратиться на небо.
Угли в камине горели красноватым пламенем и согревали комнату, где жило все, кроме наслаждения.
Но вот Жанна почувствовала, что ноги ее мало-помалу все глубже уходят в пушистый ковер, что они дрожат и подгибаются под ней; какая-то сладкая истома – но не усталость и не сонливость – стесняла ей грудь и смыкала веки, словно нежное прикосновение возлюбленного. Какой-то странный жар – но не от горевшего в камине огня – охватывал ее всю с головы до ног, и по жилам ее пробегал электрический ток, зажигая в ней жгучее желание того, что у животных называется чувственным наслаждением, а у людей – любовью.
Находясь во власти этих странных ощущений, Жанна вдруг увидела себя в трюмо, стоявшем позади Эндимиона. Ее пеньюар соскользнул с плеча на ковер, и тонкая батистовая рубашка, которую более тяжелый пеньюар увлек за собой в своем падении, спустилась до половины ее белых и округленных рук.
Два черных, томных глаза, горевших жаждой наслаждения, поразившей ее до глубины сердца, смотрели на Жанну из зеркала. Она нашла себя красивой, почувствовала молодой, полной страсти и решила, что из всего окружавшего ее, ничто, даже сама Феба, не было столь достойно любви, как она. Тогда она подошла к скульптуре, чтобы посмотреть, не оживет ли Эндимион и не бросит ли богиню для смертной.
Этот экстаз опьянил ее, она склонила голову себе на плечо, вся объятая каким-то новым для нее ощущением сладостного трепета, прикоснулась губами к своему телу, не отрывая взгляда от глаз, притягивающих ее к себе в зеркале; но глаза ее неожиданно затуманились, голова со вздохом опустилась на грудь, и Жанна, погруженная в глубокий сон, упала на кровать, занавеси которой тотчас же сомкнулись над ней.
Свеча, фитиль которой плавал в растопленном воске, в последний раз ярко вспыхнула и затем разом потухла, распространив в воздухе тонкую струю аромата.








