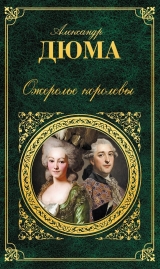
Текст книги "Ожерелье королевы"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 61 страниц)
Некоторое время в зале царило взволнованное молчание. Король сиял от удовольствия, королева улыбалась и, казалось, была в нерешительности, г-н де Шарни стоял, опустив глаза, а Филипп, от которого не ускользнуло волнение королевы, наблюдал, встревоженный и недоумевающий.

– Ну, – сказал наконец король, – пойдемте же, господин де Сюфрен, побеседуем; я умираю от нетерпения услышать ваши рассказы и доказать вам, как много я думал о вас.
– Ваше величество, столько милости…
– Вы увидите мои карты, господин бальи; вы увидите, что я в своих заботах о вас предусмотрел или угадал все этапы вашей экспедиции. Идемте, идемте.
Сделав несколько шагов и увлекая за собой г-на де Сюфрена, король вдруг обернулся к королеве.
– Кстати, мадам, – сказал он, – как вам известно, я приказал построить стопушечный корабль. Я решил изменить имя, которым хотел бы назвать его. Вместо того, что было нами задумано, мы…
Мария Антуанетта, немного пришедшая в себя, угадала мысль короля с полуслова.
– Да, – сказала она, – мы назовем его "Сюфрен", и я буду его восприемницей вместе с господином бальи.
Среди присутствующих раздались шумные, до сих пор сдерживаемые возгласы: "Да здравствует король! Да здравствует королева!"
– И да здравствует "Сюфрен"! – прибавил с исключительной деликатностью король, так как никто не смел крикнуть "Да здравствует господин де Сюфрен" в его присутствии, между тем, как самые щепетильные приверженцы этикета вполне могли кричать "Да здравствует корабль его величества!"
– Да здравствует "Сюфрен"! – с восторгом подхватило все собрание.
Король сделал благодарственный жест, выразив удовлетворение тем, что его мысль была так хорошо понята, и увел бальи к себе.
XIIГОСПОДИН ДЕ ШАРНИ
Как только король скрылся, все находившиеся в зале принцы и принцессы сгруппировались вокруг королевы.
Бальи де Сюфрен знаком приказал своему племяннику ожидать его, и тот, поклонившись в знак повиновения, остался в той же группе, где мы его видели.
Королева, обменявшись с Андре несколькими многозначительными взглядами, почти не теряла из виду молодого человека и всякий раз, посмотрев на него, говорила себе: "Это он, бесспорно". На что мадемуазель де Таверне отвечала пантомимой, не позволявшей королеве питать никаких сомнений и означавшей: "Боже мой, да, ваше величество; это он, это, конечно, он!"
Филипп, как мы уже сказали, видел озабоченность королевы и смутно чувствовал если не ее причину, то значение.
Тот, кто любит, никогда не ошибается относительно ощущений тех, кого он любит.
Он угадывал, что королева взволнована каким-то странным, таинственным происшествием, не известным никому, кроме нее и Андре.
Королева действительно была смущена и прятала лицо за веером. Это она, заставлявшая обыкновенно всех опускать глаза!
Между тем как Филипп спрашивал себя, к чему приведет эта озабоченность ее величества, и, чтобы убедиться, что Куаньи и Водрёй не причастны к тайне, вглядывался в лица этих господ, которые спокойно беседовали с г-ном де Хага, нанесшим визит в Версаль, в зал вошел человек, облаченный в величественное кардинальское одеяние и сопровождаемый офицерами и прелатами.
Королева узнала г-на Луи де Рогана и, как только заметила его в противоположном конце зала, немедленно отвернула голову, даже не стараясь скрыть того, что брови ее недовольно сдвинулись.
Прелат пересек зал, никому не кланяясь, и подошел прямо к королеве, перед которой и склонился скорее как светский человек перед женщиной, чем как подданный, приветствующий королеву.
Затем он обратился к ее величеству с изысканно-любезным приветствием, но королева едва повернула голову, пробормотала два-три слова, полных ледяной официальности, и продолжила разговор с г-жой де Ламбаль и г-жой де– Полиньяк.
Но принц Луи, казалось, вовсе не заметил сухого приема королевы. Покончив со своими поклонами, он неторопливо и с грацией истинного придворного обернулся к теткам короля, с которыми вступил в продолжительную беседу, так как, согласно обычному при дворе принципу маятника, он встретил с их стороны столь же ласковый прием, насколько прием королевы был холоден.
Кардинал Луи де Роган был в полном расцвете лет; у него была внушительная наружность и благородная осанка; черты лица его дышали умом и мягкостью. Его тонкий рот обличал хитрость, а руки были замечательно красивы. Несколько облысевший лоб свидетельствовал о любви к веселой жизни или к наукам: и правда, в принце де Рогане уживалось и то и другое.
Он пользовался успехом у женщин, которым нравилась его любезность – без слащавости и не бьющая на эффект. Его щедрость была всем известна. Действительно, он ухитрялся считать себя бедным, имея миллион шестьсот тысяч ливров дохода.
Король любил его за ученость; королева же, напротив, ненавидела его.
Причины этой ненависти никто никогда в точности не знал, но она могла быть истолкована двояко.
Во-первых, в качестве посла в Вене принц Луи, как говорили, писал королю Людовику XV о Марии Терезии письма, полные иронии, чего Мария Антуанетта никогда не могла простить этому дипломату.
Во-вторых – что было по-человечески понятно и более правдоподобно, – посол во время переговоров по поводу брака юной эрцгерцогини с дофином упоминал будто бы в письме все тому же Людовику XV, читавшему вслух это письмо за ужином у г-жи Дюбарри, о каких-то обидных для самолюбия молодой женщины, которая была тогда очень худа, подробностях ее телосложения.
Эти нападки будто бы сильно задели Марию Антуанетту, которая не могла при этом открыто признать себя их жертвой и дала себе слово рано или поздно покарать автора.
В основе всего этого, конечно, лежала политическая интрига.
В свое время место посла в Вене было отнято у г-на де Бретейля для г-на де Рогана.
Господин де Бретейль, будучи слишком слаб, чтоб открыто бороться с принцем, прибегнул тогда к тому, что называется в дипломатии ловкостью. Он добыл себе копии или даже подлинники писем прелата, который был тогда послом, и, положив на одну чашу весов действительные услуги, оказанные дипломатом, а на другую – некоторую враждебность его к австрийскому императорскому дому, нашел в дофине сообщницу, поклявшуюся погубить когда-нибудь принца де Рогана.
Эта ненависть медленно тлела и делала положение кардинала при дворе очень затруднительным.
Всякий раз как он видел королеву, он встречал тот ледяной прием, который мы постарались описать. Но, или чувствуя себя достаточно сильным, чтобы пренебречь этой ненавистью, или повинуясь непреодолимому чувству, Луи де Роган все прощал Марии Антуанетте и не пропускал ни единой возможности приблизиться к ней. А способов поступать так у него было много, так как принц Луи де Роган при дворе занимал должность великого раздавателя милостыни.
Кардинал никогда не жаловался и ничего не рассказывал о своих огорчениях от холодности королевы. Утешение он находил в тесном кружке своих друзей, среди которых выделялся немецкий офицер барон де Планта, которому он поверял свои секреты. Прибегал он к этому тогда, когда придворным дамам, которые не относились по примеру королевы к Рогану неприязненно, не удавалось развлечь его.
Кардинал своим появлением бросил темную тень на веселую картину, рисовавшуюся воображению королевы. Поэтому, как только он удалился, лицо Марии Антуанетты снова прояснилось.
– Знаете ли, – сказала она принцессе де Ламбаль, – что поступок этого молодого офицера, племянника господина бальи, относится к числу самых замечательных в эту войну? Как, кстати, его зовут?
– Господин де Шарни, если не ошибаюсь, – отвечала принцесса. – Не так ли, мадемуазель де Таверне? – спросила она, обернувшись к Андре.
– Шарни, да, ваше высочество, – отвечала Андре.
– Господин де Шарни, – продолжала королева, – должен сам рассказать нам этот эпизод, не пропуская ни одной подробности. Пусть его отыщут. Он еще здесь?
Один офицер вышел из группы и поспешил исполнить приказание королевы.
В это же время королева, кинув вокруг себя взгляд, заметила Филиппа и со своим обычным нетерпением обратилась к нему:
– Господин де Таверне, поищите же.
Филипп вспыхнул: у него, может быть, мелькнула мысль, что он должен был предугадать желание королевы. Он отправился на поиски этого счастливца-офицера, с которого не сводил глаз с той самой минуты, как тот был представлен королю. Поэтому поиски не были трудными и минуту спустя г-н де Шарни явился между двумя гонцами королевы.
При его приближении круг разомкнулся и королева могла таким образом рассмотреть наружность г-на де Шарни с большим вниманием, чем накануне.
Это был молодой человек лет двадцати семи-двадцати восьми, стройный и высокий, широкоплечий, хорошо сложенный. Лицо его, дышавшее умом и добротой, принимало необыкновенно энергичное выражение, когда он широко раскрывал свои большие синие глаза с вдумчивым взглядом.
Что было особенно удивительно в человеке, только что вернувшемся из похода в Индию, – у него был настолько же белый цвет кожи, насколько кожа Филиппа была смугла; его красивая гибкая шея была такого же белого цвета, как и охватывавший ее галстук.
Подойдя к группе, в центре которой находилась королева, он ничем не выдал, что знаком с ней самой или с мадемуазель де Таверне.
Окруженный офицерами, которые засыпали его вопросами, он вежливо отвечал им, казалось даже забыв о том, что недавно говорил с королем и что королева сейчас смотрит на него.
Эта вежливость, эта сдержанность могли только еще более привлечь к нему внимание королевы, так умевшей ценить деликатное поведение людей.
Мало того, что г-н де Шарни хотел, и совершенно резонно, скрыть от других свое удивление при виде дамы, ехавшей с ним в наемной карете; верхом порядочности было бы оставить, если возможно, и ее в неведении того, что он узнал ее.
Глаза Шарни, выражавшие некоторую вполне уместную застенчивость и смотревшие совершенно просто, поднялись на королеву только тогда, когда она обратилась к нему с речью.
– Господин де Шарни, – сказала она, – эти дамы полны желания, желания вполне естественного, и я сама разделяю его, узнать про тот эпизод с кораблем во всех подробностях. Расскажите нам о нем, прошу вас.
– Ваше величество, – отвечал молодой моряк среди глубокой тишины, – я умоляю вас не из скромности, но из чувства человечности избавить меня от этого рассказа. То, что я сделал в качестве лейтенанта "Сурового", одновременно со мной хотели сделать десять офицеров, моих товарищей; я опередил их, вот и вся моя заслуга. Придавать моему поступку настолько важное значение, чтобы делать из него рассказ, достойный внимания вашего величества, невозможно, и благородное сердце королевы должно понять это.
Бывший командир "Сурового" – храбрый офицер, однако в тот день он совершенно потерял голову. Увы, ваше величество, как вы, вероятно, слышали от самых отважных людей, никто не может быть смелым всегда. Ему было достаточно десяти минут, чтобы прийти в себя; наша решимость не сдаваться дала ему возможность одуматься, и мужество снова вернулось к нему; с этой минуты он выказал более отваги, чем все мы. Поэтому-то я умоляю ваше величество не переоценивать моих заслуг: это значило бы совершенно убить этого бедного офицера, который ежечасно оплакивает теперь свое минутное умопомрачение.
– Хорошо, хорошо! – сказала королева, тронутая и сиявшая от радости, так как слышала вокруг себя одобрение, вызванное благородными словами молодого офицера. – Хорошо, господин де Шарни, вы честный человек, таким я и знала вас.
При этих словах королевы офицер поднял голову, и чисто юношеская краска залила его лицо; его взгляд перебегал почти с испугом от королевы к Андре. Он опасался порыва этой великодушной и отважной в своем великодушии натуры.
Действительно, испытание г-на де Шарни еще не кончилось.
– Пусть же будет известно вам всем, – продолжала неустрашимая королева, – что этот молодой офицер, этот незнакомец, недавно покинувший борт корабля, уже был нам прекрасно известен до того, как сегодня вечером нам его представили, и он заслуживает, чтобы все женщины узнали его и прониклись к нему уважением.
Все поняли, что королева хочет говорить, хочет рассказать какую-то историю, из которой всякий мог потом что-нибудь почерпнуть и приукрасить по-своему. Поэтому присутствующие тесно сомкнулись вокруг ее величества и слушали затаив дыхание.
– Вообразите себе, сударыни, – начала королева, – что господин де Шарни настолько же снисходителен к женщинам, насколько безжалостен к англичанам. Мне рассказывали про него историю, которая, заранее объявляю это вам, по-моему, делает ему честь.
– О, ваше величество! – пробормотал молодой офицер.
Нетрудно догадаться, что слова королевы и присутствие того, к кому они были обращены, только усилили общее любопытство, и по зале пронесся легкий шум.
Шарни, на лбу которого выступили капли пота, готов был отдать год жизни, чтобы в эту минуту находиться еще в Индии.
– Вот как было дело, – продолжала королева. – Две знакомые мне дамы задержались в городе и очутились в очень затруднительном положении в большой толпе. Обе они подвергались большой опасности. В это время случайно, или, вернее, к счастью, мимо проходил господин де Шарни. Он раздвинул толпу и взял под свое покровительство обеих дам, которые были ему совершенно незнакомы и общественное положение которых определить было довольно трудно, а затем сопровождал их очень далеко, кажется, на расстояние десяти льё от Парижа.
– О, ваше величество, вы преувеличиваете, – сказал со смехом Шарни, успокоенный формой, в которую королева облекла свой рассказ.
– Ну, скажем, пяти льё, и не будем больше спорить об этом, – прервал его граф д’Артуа, внезапно вмешиваясь в разговор.
– Хорошо, брат мой, – согласилась королева, – но всего приятнее то, что господин де Шарни не попытался узнать имена двух дам, которым он оказал услугу, что он высадил их в том месте, где они указали ему, и уехал, даже не повернув головы, а они воспользовались его покровительством, не испытав при этом ни малейшего беспокойства.
Послышались возгласы восхищения, и двадцать дам разом осыпали похвалами Шарни.
– Это благородно, не правда ли? – продолжала королева. – Рыцарь Круглого стола не мог бы поступить лучше.
– Это несравненно! – подхватили все хором.
– Господин де Шарни, – сказала в заключение королева, – король, без сомнения, отблагодарит господина де Сюфрена, вашего дядю; я, со своей стороны, также желала бы что-нибудь сделать для племянника этого великого человека.
И она протянула ему руку.
Между тем как Шарни, побледнев от счастья, прикасался к ней губами, Филипп, бледный от душевной муки, постарался скрыться за широкими занавесями гостиной.
Андре также побледнела, хотя не могла знать о тех переживаниях, какие испытывал ее брат.
Граф д’Артуа прервал эту сцену, которая могла бы быть очень интересной для наблюдателя.
– А, брат мой, – сказал он громко графу Прованскому, – идите же, идите. Вы пропустили прекрасное зрелище: прием господина де Сюфрена. Поистине это была минута, которую никогда не забудут сердца французов. Как могли вы пропустить это, отличаясь всегда такой удивительной пунктуальностью?
Месье скривил губы, рассеянно поклонился королеве и ответил какой-то незначащей фразой.
Затем тихо спросил у г-на де Фавраса, капитана своей гвардии:
– Каким образом он попал в Версаль?
– Монсеньер, – отвечал тот, – я сам вот уже целый час стараюсь разрешить эту загадку, и все безуспешно.
XIIIСТО ЛУИДОРОВ КОРОЛЕВЫ
Теперь, когда мы познакомили наших читателей с главными действующими лицами этой истории или напомнили о них, теперь, когда мы ввели читателей и в маленький домик графа д’Артуа, и во дворец Людовика XVI в Версале, мы снова просим их перенестись в тот дом на улице Сен-Клод, на пятый этаж которого входила королева с Андре де Таверне.
Как только королева уехала, г-жа де Ламотт, как мы уже знаем, радостно принялась считать и пересчитывать сто луидоров, так чудесно свалившихся ей с неба.
Пятьдесят красивых двойных луидоров, по сорока восьми ливров, разложенных на жалком столике и блестевших при свете лампы, своим аристократическим присутствием, казалось, заставляли убогую обстановку этого чердака выглядеть еще более жалкой.
После удовольствия иметь г-жа де Ламотт не знала большего удовольствия, как показывать. Обладание чем-то не имело для нее никакой цены, если оно не возбуждало в ком-нибудь зависти.
Ей за последнее время было крайне неприятно, что служанка была свидетельницей ее бедности, поэтому она поспешила сделать ее свидетельницей своего богатства.
Она позвала г-жу Клотильду, остававшуюся в передней, и при этом повернула лампу таким образом, чтобы свет ее прямо падал на сверкающее на столе золото.
– Подойдите сюда и взгляните, – сказала г-жа де Ламотт, когда Клотильда вошла в комнату.
– О, сударыня! – воскликнула старуха, всплеснув руками и вытянув шею.
– Вы беспокоились о своем жалованье? – спросила графиня.
– О, сударыня, я никогда не говорила вам ни слова об этом. Я только спросила, когда вы смогли бы заплатить, и не удивительно – ведь я ничего не получала уже целых три месяца.
– Как вы думаете, хватит тут денег, чтобы расплатиться с вами?
– Господи Иисусе! Сударыня, если бы у меня было столько денег, то я бы считала себя обеспеченной на всю жизнь.
Госпожа де Ламотт посмотрела на старуху, пожав плечами с выражением неизъяснимого презрения.
– Счастье, – сказала она, – что некоторые люди помнят об имени, которое я ношу, между тем как те, кто должен был бы помнить, о нем забывают.
– А на что вы употребите все эти деньги? – спросила Клотильда.
– На всё.
– Прежде всего, сударыня, на мой взгляд, необходимо купить кухонную утварь, так как, находясь при деньгах, вы, вероятно, теперь будете давать обеды.
– Тсс! – прервала ее г-жа де Ламотт. – Стучат.
– Вы ошибаетесь, сударыня, – возразила старуха, не любившая беспокоиться.
– Я вам говорю, что стучат.
– А я уверяю вас, что…
– Подите взгляните.
– Я ничего не слыхала.
– Да, вот недавно вы тоже ничего не слышали… Ну, а если бы эти дамы так и ушли?
Этот довод показался Клотильде убедительным, и она направилась к двери.
– Слышите? – воскликнула г-жа де Ламотт.
– Да, правда, – отвечала старуха. – Иду, иду.
Госпожа де Ламотт поспешила собрать со стола пятьдесят двойных луидоров и сунула их в ящик.
– Ну, Провидение, пошли мне еще сотню луидоров, – пробормотала она, задвигая ящик.
Эти слова были сказаны ею с выражением такого неверия и такой алчности, которые заставили бы улыбнуться Вольтера.
В это время старуха открыла входную дверь и в передней послышались мужские шаги.
Вошедший обменялся с Клотильдой несколькими словами, которые графине не удалось уловить.
Затем дверь снова закрылась, шаги затихли внизу лестницы, и старуха вошла с письмом в руке.
– Вот, – сказала она, подавая его своей хозяйке.
Графиня внимательно оглядела почерк, конверт и печать.
– Это приходил слуга? – спросила она, подняв голову.
– Да, сударыня.
– В ливрее?
– Нет.
– Значит, обычный серокафтанник?
– Да.
– Я знаю этот герб, – продолжала г-жа де Ламотт, снова принимаясь разглядывать печать. – Девять золотых ромбов по красному полю, – сказала она, поднеся печать к лампе. – Кому же он принадлежит?
Она напрасно старалась найти ответ на это в своих воспоминаниях.
– Посмотрим, что это за письмо, – пробормотала она и, осторожно вскрыв конверт, чтобы не попортить печати, прочла:
"Сударыня, особа, к которой Вы обращались с просьбой, может видеть Вас завтра вечером, если Вам будет угодно открыть свои двери".
– И все?
И графиня снова напрягла свою память.
– Я писала стольким лицам, – сказала она. – Кому же именно? Да всем. Кто это отвечает мне: мужчина или женщина? Почерк ничего не говорит… он невыразительный… настоящий почерк секретаря. Слог? Слог покровительственный, заурядный и устарелый. "… Особа, к которой Вы обращались с просьбой…", – повторила она. – Эти слова имеют преднамеренный унизительный оттенок. Вероятно, это пишет женщина. "… Может видеть Вас завтра вечером, если Вам будет угодно открыть свои двери". Женщина бы сказала: «Будет Вас ждать завтра вечером». Это писал мужчина. А между тем ведь пришли же эти дамы, а они, должно быть, очень знатные особы! Подписи нет… У кого же в гербе девять золотых ромбов? О, – воскликнула она, – да я совсем с ума сошла! Роганы, конечно! Да, я писала господину де Гемене и господину де Рогану; один из них мне отвечает, очень просто… Но герб не разделен на четыре части: письмо это от кардинала. А, кардинал де Роган, дамский любезник, волокита и честолюбец! Он придет к госпоже де Ламотт, если она откроет свои двери! Хорошо; он может быть спокоен: двери будут ему открыты… А когда? Завтра вечером.
Она задумалась.
– Даму-благотворительницу, дающую сто луидоров, можно принять на чердаке; ее ноги могут стынуть на моем холодном полу; она может мучиться на моих стульях, жестких, как решетка святого Лаврентия, только без огня. Но князь Церкви, будуарный завсегдатай, победитель сердец! Нет, нет… Нищая, которую боится навестить такой священник, должна быть окружена еще большей роскошью, чем иные богачи. Да, завтра, госпожа Клотильда, – сказала она, повернувшись к своей служанке, только что приготовившей ее постель, – не забудьте разбудить меня пораньше.
И графиня, желая на свободе отдаться своим мыслям, сделала старухе знак оставить ее одну.
Госпожа Клотильда раздула огонь, который был прикрыт золой для того, чтобы придать помещению более убогий и жалкий вид, закрыла дверь и удалилась в маленькую каморку, где она спала.
Жанна де Валуа, вместо того чтобы спать, всю ночь строила разные планы. Она делала какие-то заметки карандашом при свете ночника, а затем, обдумав во всех подробностях свой завтрашний день, часам к трем ночи забылась сном, от которого, согласно полученному приказанию, ее разбудила на рассвете г-жа Клотильда, спавшая не больше своей хозяйки.
К восьми часам графиня уже закончила свой туалет; она надела изящное шелковое платье и шляпу, отделанную с большим вкусом.
Обутая, как подобало знатной даме и вместе с тем красивой женщине, налепив себе мушку около левого глаза, она послала за ручной тележкой на стоянку этих экипажей, то есть на улицу Капустного Моста.
Графиня предпочла бы нанять портшез, но за ним надо было посылать слишком далеко.
Тележка, которую вез здоровенный овернец, должна была доставить графиню на Королевскую площадь, где под аркадами южной стороны, в первом этаже старинного заброшенного дома жил метр Фенгре, драпировщик и обойщик, державший подержанную и новую мебель для продажи и сдачи внаем.
Овернец быстро доставил свою клиентку с улицы Сен-Клод на Королевскую площадь.
Через десять минут после выхода из дома графиня уже высадилась у складов метра Фенгре, где мы ее вскоре увидим занятой разглядыванием и выбором мебели в обширном, напоминавшем музей помещении, которое мы постараемся описать в общих чертах.
Пусть читатель вообразит себе каретный сарай длиной приблизительно в пятьдесят футов, шириной в тридцать и высотой в семнадцать; на стенах выставлены обои времен Генриха IV и Людовика XIII; с потолка, едва заметного из-за множества подвешенных к нему предметов, свисали люстры с жирандолями XVII столетия рядом с чучелами ящериц, церковными лампадами и летучими рыбами.
На полу лежали груды ковров и дорожек, стояла всевозможная мебель с витыми колонками и четырехугольными ножками; резные буфеты из дуба; времен Людовика XV консоли на золоченых подставках; диваны, обитые розовым дама или утрехтским бархатом; кровати, широкие кожаные кресла, какие любил Сюлли; шкафы из черного дерева с выпуклыми панно и медными багетами; столы Буля со столешницами из эмали или фарфора; доски для игры в триктрак; туалетные столики, снабженные всем необходимым; комоды с инкрустациями в виде музыкальных инструментов или цветов.
Кровати из розового дерева или дуба, на постаментах или с балдахинами, занавеси всех родов, всевозможных рисунков и материй – все это перемешивалось, сливалось и перепутывалось в полумраке помещения. Здесь были клавесины, спинеты, арфы; систры на столике; чучело собаки Мальборо с глазами из эмали; белье всякого рода; платья, висевшие рядом с бархатными мужскими костюмами; рукоятки стальные, серебряные, перламутровые; факелы, портреты предков, гризайли, гравюры в рамках и всевозможные подражания Верне (он был тогда в моде), тому Верне, которому королева говорила так остроумно и мило:
– Решительно, господин Верне, во Франции только вы один можете делать дождь и хорошую погоду.








