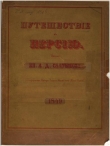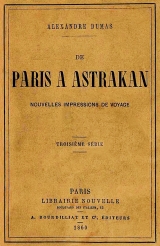
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 52 страниц)
– О, дорогой месье С…, ― сказал я, ― конечно, вы полагаете, что я неспособен на такую жестокость, не правда ли?
– Да, я так думаю, и поэтому обратился к вам.
– Вы и увидите Рим, и выпьете ваш стаканчик рейнского вина, и съедите ваш кусок говядины после вашего супа; пойдемте со мной.
– С удовольствием следую за вами.
– Великолепно.
Мы направились к мессье Пловдену и Франку, которые открыли мне кредит; я распорядился отсчитать доброму пастору С… 100 римских экю и пальцем указал ему на дорогу в Рим.
Он бросился ко мне в объятья, плача от радости.
– Чего уж, ― сказал я ему, ― счастливого пути, и не забывайте меня в ваших молитвах.
– Разве добрые сердца нуждаются в молитве за них? ― ответил он. ― Добрые сердца сами за себя говорят. Я буду думать о вас и любить вас; не просите меня больше ни о чем.
И он уехал.
Двумя годами позже я побывал в Кельне вместе с тобой, ты помнишь об этом, мое дорогое дитя? Я отправился с визитом к пастору С… Как он и говорил, его дом найти было не трудно. Я вошел без того, чтобы обо мне доложили. От нежданной радости он вскрикнул. Затем в некотором смятении:
– Вы, очень надеюсь, пришли не за тем, чтобы потребовать назад ваши сто римских экю? ― спросил он.
– Нет, только спросить, видели ли вы Рим, и как вам понравился Рим.
Он поднял глаза к небу.
– Какой город! ― сказал он. ― И если вдуматься, то это вам я обязан тем, что сподобился увидеть его, прежде чем умереть.
Он обнял меня.
– Входите, ― пригласил он, ― входите, я вам кое-что покажу.
Я пошел за ним с тем же доверием в Кельне, с каким он пошел за мной во Флоренции.
Он ввел меня в спальню, и показал на мой портрет между портретами Гюго и Ламартина.
– А это! ― обратился я к нему. ― Почему эти мессье в рамках, а я без?
– Потому что вы ― в кадре моего сердца, ― оказал он.
Таковы два воспоминания, которые связаны для меня с городом Кельном, и которые ты очень захочешь вставить по месту и вместо того, что встречается, между прочим, в моих «Путевых очерках о Рейне». Ты верно полагаешь, что и на этот раз в Кельне моей первой заботой было повторить оба визита. Увы! Антон-Мария Фарина, славный молодой человек, перевязать рану которого я помогал в 1814 году, умер год назад в возрасте 70 лет. А мой друг С…, турист, уехал из Кельна в близлежащий городок, где получил церковный приход с жалованием на 200 франков больше. Пусть один с миром покоится в могиле, пусть другой радуется жизни в своем доме священника!»
* * *
«Берлин
23 июня
Прибыв на станцию железной дороги на Берлин в четыре часа пополудни, мы застали опередившего нас Дандре в жаркой дискуссии с железнодорожными служащими, представляющими собачий департамент. Решительно, наша свора стала камнем преткновения. Именно о ней вот так мы и подумали сначала; но на этот раз вопрос стоял ни о Душке, Мышке и Шарике, а о Синьорине.
На этот раз, чтобы защититься от врагов, с которыми свела дорога, Дандре решил объявить всех животных ― от морды до хвоста, рискуя омрачить в дальнейшем их путешествие боксом для четвероногих. Это было чудесно, поскольку собачий вопрос мучил, и потому что без всякого труда удалось приобрести билеты на Душку, Мышку и Шарика; но за собаками, за Шариком шла киса Синьорина. При имени Синьорина с указанием ее расы и пола служащий раскричался.
– Кошки не ездят, ― отрезал он.
– Как так! Кошки не ездят? ― начал настаивать Дандре.
– Нет, ― подтвердил служащий.
– Но собаки же отлично путешествуют.
– Собаки ― другое дело.
– А почему не путешествовать кошкам, раз едут собаки?
– Потому, ― ответил служащий, ― потому что… потому что на кошек нет тарифа; а раз на них нет тарифа, они не должны разъезжать.
Пруссаки не предусматривали кошку-пассажира. И правда, кошка была новой разновидностью пассажира, открытой графом Кушелевым и классифицированной Дандре. Она рождается на юге, а когда встречается с русскими семьями, к которым привязывается, эмигрирует на север. Так случилось и с Синьориной, хотя в Кельне ― колонии Агриппины, городе трех королей и 11 тысяч девственниц ей объявили, что кошки не ездят. Понадобилось бежать к начальнику вокзала, который вначале был слегка ошеломлен просьбой, однако, после совета со своей администрацией, ее удовлетворил в порядке исключения, подчеркнув, что и в самом деле тариф никоим образом не распространяется на кошек, но, как ему кажется, было бы противозаконным принести Синьорину в жертву ведомственному упущению и применить к ней строгую меру, уподобляемую, на его взгляд, политическому изгнанию, и поэтому она может ехать дальше, при условии, что будет оплачена как собака. И еще: поскольку на кошек нет тарифа и в инструкции ничего не сказано о том, могут ли они стеснить пассажиров, он решил, что Синьорина может остаться в корзине, а корзина поедет в вагоне, где едет Луиз.
После Синьорины ― Черепаха. К счастью, несмотря на заботу, с какой ее обложили салатом в коробке из-под варенья, Черепаха не подавала ни единого признака жизни; служащие вертели ее так и сяк, но в любом положении она не шевельнулась; ее объявили мертвой и приравняли к раковине, то есть просто к любопытной безделице.
Заметь мимоходом: в стороне Гумбольдтов и Циммерманов кошки расцениваются как собаки, а черепахи зачислены в ряд безделушек. Об этой новой классификации, с которой ты ознакомишь нашего друга Изидора Жоффруа Сент-Илера, я рассказываю тебе впервые.
К удовольствию пассажиров, всех оформленных и легализованных кошек, собак и черепах мы увидели в наших вагонах, и поезд, что только и ждал окончания нашей научной дискуссии, отправился в путь. И не спрашивай, дорогой друг мой, есть ли что-нибудь из примечательного на дороге от Кельна до Берлина; была такая жестокая, и обильно пропыленная жарища, что мы вынуждены были задернуть занавески в нашем купе и искать возможных развлечений, погружаясь в самих себя. Уступки, которые каждый, находясь в одинаковом положении, делал обществу, продолжались до десяти вечера, а тогда уж каждый из нас пожелал своему соседу доброй ночи и старался уснуть, отрешившись от всего. Ты знаешь, как я использую дорогу в этом отношении. От той ночи у меня остались только два довольно пустых воспоминания. Первое ― шербет с земляникой, исчезающе-дивный на вкус, что передал мне Хоум и что произвел на меня впечатление. Второе ― вкруговую летящий по занавескам вагона ведьмин шабаш, исполняемый зайцами; но, может быть, эта картина была навеяна моей последней поездкой в Маннгейм, когда в течение всего дня слева и справа от дороги, по которой двигался наш локомотив, я наблюдал целый легион этой живности, предающейся самым фантастическим скачкам.
О, Германия, Германия! Обетованная земля для охотников и влюбленных!
Ночь миновала, настал день, и мы проснулись погребенными, как жители Помпей, под слоем песка. Каждый из нас проделал в нем дыру, открыл глаза, взглянул на соседа и ну хохотать над ним. Комплименты делались после.
Графиня по-маршальски щедро была разукрашена пылью, и кто бы мог подумать, что пыль ей так к лицу.
В 11 утра прибыли в Берлин. Мы нашли там экипажи, которые ожидали нас у станционной платформы, и завтрак, приготовленный в «Римском» отеле. Дело в том, что Миссам не останавливался в Кельне и, приехав сюда на шесть часов раньше нас, все организовал.
Нашей первой, кричащей просьбой было: нельзя ли помыться? Оказалось, можно, в самом отеле. Ванные комнаты располагались в подвальном этаже, где царила приятная прохлада.
Я решил абсолютно ни с кем не встречаться в Берлине и сохранить королевское инкогнито ― меньше всего на свете, чтобы выразить презрение городу Фридриха II, но потом, несмотря на английские пластыри и diachylum (лат.) доктора, фурункул, что рос на моей скуле, достиг таких размеров, что в таком состоянии я не хотел никому показываться на глаза.
Едва я устроился в ванной, как в дверь постучали, и с той же знакомой тебе интонацией упавшего голоса, с какой по 60 раз на день в Париже повторяю одно и то же слово, я его выкрикнул:
– Войдите!
Гарсон воспользовался разрешением, появился на пороге и подал мне визитную карточку. В Берлине уже знали о моем приезде! Какой тайный гонец, какой почтовый голубь или пассажир, какой электрический телеграф меня предал? Несомненно, об этом должна была мне теперь рассказать поданная визитная карточка. Я прочел: «Александр Дюнкер, книготорговец». Книготорговец, это ― почти член семьи; нет нужды церемониться. Я крикнул вторично:
– Войдите!
Месье Дюнкер вошел.
Если ты когда-нибудь будешь в Берлине, не жди, когда он придет тебя повидать, сам беги к нему, и ты найдешь столь же любезного, сколько ученого чичероне[34]34
Чичероне (итал.) ― гид, экскурсовод.
[Закрыть]. Не считая того, что он говорит по-французски, как ты и я, чем нельзя пренебрегать, когда находишься в столице Пруссии и не знаешь ни слова по-немецки.
Он узнал о моем приезде ― понятия не имею, каким образом ― и пришел предоставить себя в мое распоряжение, чтобы осмотреть город. Я выставил ему свой фурункул. Но месье Дюнкер заметил, что с момента его появления здесь мой фурункул из безобразного обращается в любопытное приложение к знаменитости, и я, не желая отнимать у берлинцев возможность увидеть эту достопримечательную деталь, обещал достойному книготорговцу, что зайду за ним в два часа в его магазин, и мы ― Муане, он и я ― прошагаем город вдоль и поперек.
В два часа мы были в его магазине.
Я настаиваю на первом визите в Новый Музей, где Кольбах увлечен росписью своей шестой фрески; месье Дюнкер был весьма расположен откликнуться на нашу просьбу еще и потому, что это он издает гравюры этих фресок. Будь на моем месте Теофиль Готье с присущим ему восхитительным талантом писать о пластическом искусстве, он рассказал бы тебе все шесть фресок ― от альфы до омеги; я же только прошелся вдоль них в туфлях, которые жали, и все, что запомнилось, так это то, что они прекрасны, и что немецкая, в частности, берлинская школа, лучшая в настенной живописи. Великолепные фигуры, главным образом, олицетворяют Архитектуру, Поэзию, Живопись и Музыку. Возможно, я сделаю легкое замечание месье Кольбаху, но такое легкое, какое человек его таланта мог бы обратить к своей выгоде.
На его фреске «Архитектура» две крылатые фигуры, несущие: одна ― Парфенон, другая ― кафедральный собор Страсбурга, однотипны. Это нам представляется ошибкой не только художественной и археологической, но еще и религиозной. Каждая из двух этих фигур должна выражать характер своего сооружения: одна должна быть гением, вторая ― ангелом.
Лестница привела нас в греческий салон. Под крышей музея встретились великие по цене современные фрески и великие по красоте античные статуи. Но, увы! Как и везде, античный музей сблизился с музеем современным только для того, кажется, чтобы показать несоразмерно низкий уровень мастерства скульпторов наших дней против искусства мастеров Греции.
Сегодня скульптор изучает строение тела в анатомическом театре два-три года. Так же хорошо, как врач, он знает, где располагаются двуглавая и дельтовидная мышцы, где «дамский портной» ― «le couturier» (фр.). Ему известен хитроумный, механизм, с помощью которого разводятся лучевая и локтевая кости. Тем не менее, несмотря на все это, когда через какое-то усилие нужно показать мускулы, взбухающие под кожей, он ― не скульптор, за исключением Микеланджело, который не ошибается ни местом расположения мускула, ни в оценке его роли.
Греки, напротив, не знали научной анатомии; у этих апостолов красоты считалось святотатством кромсать человека, после смерти. Гиппократ рассказывает нам, что, стремясь получить хоть какое-нибудь понятие о нашем телосложении, он сам вынужден был ходить за войсками и на полях сражений по страшным ранам на мертвецах, нанесенных обоюдоострыми мечами и боевыми топорами, изучать внутреннее строение человеческого тела.
Такой же запрет, после греков, наложили христиане; исходя из иных мотивов, почти все рабы, почти все несчастные, почти все, кто принадлежал к угнетенным классам общества, рассматривали смерть не как трагедию, а как освобождение. Поэтому среди них считалось преступлением искать у смерти средство продлевать жизнь. Раб или другой несчастный никогда не умирает до срока.
Ну вот, несмотря на невежество в области мускулатуры, античный мир дает нам Лаокоона, Умирающего гладиатора, Борцов, Геркулеса Фарнезского, Точильщика и двадцать, сотню, тысячи других шедевров. Какая золотая жила эта Греция, которая при Перикле избавляет от расходов Афины, Коринф, Сиракузы; при Августе ― Рим, Александрию, Неаполь, Торонто, Арль, Геркуланум, Помпеи; а при Наполеоне ― Париж, Лондон, Мадрид, Вену, Петербург, Берлин ― весь мир!
Теперь, где же истоки совершенного мастерства у Праксителя, Фидия, Клеомена и двух десятков других, неизвестных скульпторов, оставивших нам настоящий лес шедевров и целую армию мраморных фигур? Ведь трех вещей ― изображения по-древнему обнаженной натуры, инстинктивного чувства на прекрасное, запоминающихся форм ― невозможно встретить в современном искусстве. Что ты хочешь! В наших руках пар, электричество, железные дороги, воздушные шары и газеты, чего не было у древних: не получается владеть всем одновременно. Есть у нас и монумент Фридриху Великому работы скульптора Рауха, но, хотя и превозносимый, особенно берлинцами, он не идет ни в какое сравнение с простой конной статуей Бальбуса (Заики), найденной в Геркулануме и принадлежащей уже не греческому, а римскому искусству.
Что касается самого Берлина, я не могу сказать тебе лучше того, что сказано о нем в моем франко-германском путеводителе:
«Берлин, столица Пруссии, насчитывает 13000 домов и 480000 душ, включая гарнизон, силы которого ― 16000 солдат. Этот город, один из самых значительных и упорядоченных по застройке в Европе, имеет четыре лье в окружности; в городе три сотни улиц, в том числе Фридрихштрассе длиной 4220 шагов и прогулочная аллея Унтер-дер-Линден длиной 2088 и шириной 170 футов, в начале которой находится королевский замок ― 460 футов в длину, 100 футов в высоту ― с 420-ю окнами».
Ну, хорошо, друг мой, задался ли ты теперь правомерным вопросом? Неужто в городе окружностью четыре лье, с 13 тысячами домов, тремястами улиц, одна из которых тянется на 4220 шагов, я не смог найти для себя комнату и кровать?.. Однако это ― истинная правда.
В восемь часов вечера, когда я уже должен был, вернее, когда мы, Муане и я, уже должны были отправиться просить гостеприимства у короля Пруссии, который, располагая замком в 460 футов в длину и высотой 100 футов, очевидно, нам не отказал бы, но моя мысль остановилась вдруг на этой, такой прохладной ванной и на этом, таком широком ложе в ней, где утром, по приезде, мы провели один из сладостных часов. Я спросил, заняты ли ванные и пусты ли в них ложа. После отрицательного на первый и положительного ответа на второй вопрос, я велел отнести вниз два матраса и четыре простыни и соорудить для каждого из нас постель на ложах в ванных комнатах. Вот каким образом, дорогое дитя мое, к великому изумлению припозднившихся берлинцев, которые созерцают меня через подвальную отдушину, что служит мне окном, я пишу тебе из ванной, где прошу бога погрузить меня в ванну сна, столь же освежающую, как та водная, что я принял этим утром.
Завтра утром мы едем в Штеттин, где будем послезавтра по расписанию. Если Балтика нам друг, то я напишу тебе с борта парохода, который возьмет нас до Санкт-Петербурга.
А придется тебе поехать в Берлин, остановиться в «Римском» отеле, и для тебя не найдется номера, проси ванную № 1: решительно, там лучше всего.
Доброго вечера и спокойной ночи».
* * *
«Между Данией и Курляндией
Борт парохода «Владимир»
25 июня
Мой дорогой мальчик!
Балтика, хотя она, как и подобает морю Севера, тусклая и серая, спокойна как зеркало; и я могу выполнить обещание, что дал тебе в последнем письме, а вернее ― самому себе: написать тебе с борта парохода.
Два паровых судна ходят из Штеттина в Санкт-Петербург, это ― «Орел» и «Владимир». Мы на борту лучшего из них ― «Владимира».
Владимир, именем которого названо наше судно, насколько могу припомнить, находясь посреди Балтики без словаря и биографической литературы, был одним из трех сыновей Святослава ― великого князя России; в удел от отца, несомненно ― по праву старшего, он получил Новгород, надменный девиз которого гласил: «Кто осмелится бороться с Господом и Господином Великим Новгородом?»
История расскажет тебе, как Владимир стал Великим; я ограничусь тем, что расскажу тебе, как он стал Святым.
Сначала, подобно Ромулу, он убил своего брата, что удвоило его долю. Затем он сделал женами шесть женщин и завел 800 наложниц, прямо-таки число царя Соломона. Среди шести жен находилась полоцкая княгиня Рогнеда, семью которой он истребил, а саму взял силой, чтобы заставить ее выйти за него замуж. От шести жен и 800 наложниц у него было 12 детей, на 38 меньше, чем у Приама: действительно, у Приама только от Гекубы их родилось 19. Но все 12 детей Владимира тоже были сыновьями; по всей вероятности, он позабыл сосчитать дочерей.
Ты помнишь Эль-Мокрани, с которым мы встречались в Алжире по нашим финансовым делам, и которого я спросил:
– Сколько у тебя сыновей?
– Трое.
– А дочерей?
– Не знаю.
Владимир походил на Эль-Мокрани. Только он не был мусульманином, как Мокрани.
Ему предложили четыре религии; как ты справедливо полагаешь, человек, начавший с убийства своего брата и насилия над княжнами, имеющий шесть жен и 800 наложниц ― эклектик в вопросах культа. Но Владимир решил поступить хитро.
Первой ему предложили мусульманскую религию. Владимир покачал головой.
– Не желаю религии, ― сказал он, ― которая запрещает вино ― необходимый русским, веселящий их напиток.
Как следствие, он отверг магометанство.
Ему предложили католицизм; но он во второй раз покачал головой. Его смущал папа.
– Очень хочу, ― сказал он, ― почитать отца небесного, но не желаю признавать бога на земле.
Ему предложили иудаизм. Но неофит ответил:
– Не вижу здравого смысла оказаться среди бродяг, наказанных небом, и делить с ними кару за преступление, которого я не совершал.
Наконец, ему предложили греческую религию.
Не знаю, какие ее достоинства были приняты во внимание, но знаю, что он ее принял. А поскольку Владимир не умел вершить дела наполовину, то, едва он приобщился к новой вере, как в угоду новому богу разоблачил прежних богов, которым до сих пор поклонялся, велел своим стражам хлестать их кнутами и, привязав к хвостам лошадей, волочь их к Днепру. Затем, чтобы благодать, таким чудесным образом коснувшаяся его, распространилась на его подданных, распорядился поднять все свои племена, словно войска, согнать их на берега рек, и, тесня толпу за толпой, крестить их там, нарекая по десять тысяч человек разом именем одного святого. Все эти труды были вознаграждены, и сын Святослава пополнил календарь именем нового святого: святого Владимира.
Познакомив тебя не только с нашим пироскафом, но еще и со святым, чье имя он носит, представлю теперь тебе некоторых из тех, кого мы повстречали на палубе. Сначала ― княгиню Долгорукую и трех ее сыновей, самому старшему из которых всего 16 лет. Княгиня выглядит на 50, полагаю, это наложили печать заботы оградиться от тягот путешествия, и ей самое большее 35-40 лет. Она женщина очень образованная, скорее, суровая, нежели милая, но становится, конечно, привлекательной, когда соглашается не быть суровой.
Долгорукие ― Veliki Knias [Великие Князья], так уж вышло; они ведут родословную от Рюрика и называются Долгорукими, то есть Longue-Main (фр.), по прозвищу одного из своих предков. Все равно, что Артаксеркс ― сын Kcepкca. Другой из их предков ― князь Григорий, по прозванию le Bosquet [Роща], защищал Троицу, монастырь св. Сергия, в 1608―1610 годах от 30 тысяч поляков и казаков под командованием четырех героев: Сапеги, Лисовского, Тышкевича и Константина Вишневецкого; наконец, в 1624 году княжна Долгорукая вышла замуж за царя Михаила Романова, основателя правящей ныне династии.
Князь Яков Долгорукий был другом и советчиком царя Петра I. Однажды на глазах у сената он разорвал царский указ, который показался ему несправедливым. Несдержанный по натуре, Петр бросился на него со шпагой в руке.
– Убей меня, ― сказал ему князь Яков, ― и ты станешь Александром, а я Клитом[35]35
Клит (?―328 год до н. э.) ― полководец и друг Александра Македонского, спасший ему жизнь в битве при реке Гранике (334 год до н. э.), сам был убит Александром во время пирушки.
[Закрыть].
Петр, вразумленный этими словами, обнял его и, целуя, попросил прощения.
Еще один князь, Иван Долгорукий, был близким другом Петра II ― внука Петра I. Когда императрица Анна поднялась на трон и уступила свою власть тому самому мерзавцу Бирону, который за время своего фаворитства истребил 11 тысяч человек, князь Иван с семьей был сослан в Сибирь, потом, через девять лет, возвращен из ссылки, чтобы подвергнуться четвертованию. После этого княгиня Наталия, его жена, отправилась в Киев, где постриглась в монахини. Только накануне, прежде чем произнести слова обета, она поднялась на обрывистую кручу Днепра и там эта прекрасная мученица, променявшая, чтобы последовать за мужем в Сибирь, весь блеск чрезмерного богатства на нищенскую хижину, сняла с пальца свое обручальное кольцо и бросила его в реку. Она пережила мужа на 30 лет и 30 лет молилась за того, кого любила.
В наше время в семье Долгоруких три выдающихся личности: князь Николай Долгорукий, в прошлом губернатор Лифляндии и теперешний наместник в Малороссии; князь Илья, начальник главного штаба императорской артиллерии; и князь Василий, на счету которого успешное исполнение ряда дипломатических и военных миссий.
После княгини Долгорукой ― как женщину, мы представили ее первой ― назовем князя Петра Трубецкого: он ехал из Парижа с депешами; если он вернется в Париж, постарайся с ним встретиться каким-нибудь образом: он еще молодой человек, выглядит на 33-34 года; изысканный союз души и тела. Мало кто знает так хорошо, как он, большой вопрос отмены крепостного права, который сейчас обсуждается, и, хотя ему самому деревни дают миллион дохода, никто в дискуссии не настроен более либерально, чем он.
Трубецкие принадлежат к самой старой русской знати; они ведут род от Ольгерда ― великого герцога литовского, сына великого Гедимина, отца знаменитого Ягайло (Ягеллона). Фамилия Трубецкие происходит от названия города Трубчевска, где они были суверенами.
Князь Дмитрий, один из их пращуров, входил в число самых блестящих руководителей войны за независимость в начале XVII века, когда Россия боролась с поляками ― хозяевами Москвы и проникновением католицизма, который, естественно, вела за собой их победа.
После изгнания поляков, в Москве ближе к концу 1612 года собрался большой совет империи, чтобы избрать царя ― будущего родоначальника новой династии. Были предложены три кандидата: князь Дмитрий, князь Мстиславский и князь Пожарский. Князь Дмитрий, который командовал казаками и частью армии, не сумел сколотить большинства. Мстиславский, выдвинутый боярами, сказал тому, кто захотел его услышать:
– Не желаю трона; грозятся меня на него посадить, но по мне лучше постричься в монахи.
Пожарский, наконец, идол, каким в одночасье стал он в глазах нации, большинства посадов и армии, вряд ли сознавая до конца причину своего глубокого отвращения к верховной власти, твердо от нее отказался.
И вот тогда ― а то, что здесь я говорю о князе Трубецком, в свое время потребуется для разговора о Петре Великом ― боярин Федор Шереметев, женатый на двоюродной сестре Михаила Романова, предложил избрать последнего, то есть того, кто в свои только-только 16 лет и при мягком покладистом характере легко позволил бы облечь свое правление в конституционные формы. Комбинация удалась, и 21 февраля 1613 года, после трехдневных сражений, которым некоторые предавались в самой законодательной палате, Михаил Романов был избран царем.
Таким образом, если у князя Трубецкого нет ни единого царя среди предков, то есть в роду один из тех, кто имел честь оспаривать трон наряду с фамилией, правящей и сегодня.
После двух лиц, которых я только что тебе назвал, самым примечательным на судне ― за исключением нас, как понимаешь, ― был английский турист, который явился с берегов Голубого Нила, где он охотился на крокодила, слона и гиппопотама, и который, уж все за один раз, ехал в Торнио[36]36
Торнио ― финский портовый городок на границе со Швецией.
[Закрыть], чтобы увидеть солнце в полночь. Известно, что в этом северном крае Европы солнце не заходит за горизонт всю ночь с 23-го на 24 июня. Любопытно, что он едет сюда вторично.
Первый раз он оказался на месте не то слишком поздно, не то слишком рано: взобрался на вершину горы Ава-Сакса, где совершался этот астрономический эксперимент. В 10 часов вечера разбитый усталостью, измотанный и сокрушенный, там он заснул, наказав слуге ― человеку, который умел считать, разбудить его в полночь. Слуга преданно устремил глаза на часы. За пять минут до полуночи:
– Милорд! ― громко позвал он. ― Милорд, проснитесь! Полночь!
Милорд не отвечал; можно было бы подумать, что он умер, если бы один недостаток, которому он был подвержен, не констатировал бы присутствие жизни. Он храпел. Слуга потряс его.
– Ох, Джон, ― сказал англичанин, ― не мешай спать.
– Но вы меня просили вас разбудить… но это последний день… но завтра уже будет поздно.
– Ох, я вернусь сюда в следующем году, ― сказал англичанин.
И он проспал всю ночь, если все-таки можно назвать так те 12 часов с 23-го на 24 июня, в течение которых солнце не заходило. Он не смог вернуться туда, как говорил, в следующем году, но возвращался теперь, три года спустя, чтобы выполнить обещание, данное самому себе. Как всегда, его сопровождал верный Джон.
Я дал ему свой адрес, и он обещал написать мне 25 июня в Париж, до востребования, о том, что увидит, и о впечатлении, какое произведет на него этот спектакль. Муане нарисовал всех нас группой на палубе «Владимира». Англичанин ― тот, кто направил подзорную трубу в сторону Дании в надежде увидеть тень отца Гамлета.
Но вернемся в Штеттин и к нашему путешествию.
Вот город, где не посоветовал бы тебе никогда останавливаться и даже ― посылать туда свой портрет; и, однако же, твоему портрету там было бы лучше, чем тебе: ему не понадобилось бы там укладываться спать. Какие постели, мой бедный мальчик! Короче, ты их знаешь: жесткий диван с простыней и коротким стеганым одеялом, нижняя простыня стирается время от времени, одеяло ― никогда. К счастью, нам нужно было провести там только одну ночь, но длилась она бесконечно.
Ровно в 11 часов пароход двинулся в путь, скользя по Одеру между его зелеными, как изумруд, берегами, усеянными скоплениями домов с красными крышами. Это в высшей степени напоминает Нормандию.
Через пять-шесть часов плавания мы вышли на простор Балтики; еще час-два, и мы уже могли видеть берега Померании, которые мало-помалу медленно понижались до уровня моря и начали в него уходить с первыми тенями ночи.
Забыл тебе сказать, что через пару часов, после посадки, нас угостили обедом, ей-богу, довольно приличным.
Проезд и питание на линии Штеттин ― Санкт-Петербург каждому стоит 232 франка. Говорю тебе это для памяти и потому, что ты человек обстоятельный. В целом из Парижа в Санкт-Петербург можно проехать за 400 франков, включая расходы на кров и питание. Значит, на лье пути приходится около десяти су; ты видишь, что это абсолютно не разорительно.
В девять часов пили чай. После чая пошли на палубу ― беседовать до полуночи. Мы дышали впервые после отъезда из Парижа. Однако надо было на что-то решаться; русские дрожали от холода из-за погоды, грозившей дождем, а многие пассажиры и в том числе графиня велели постелить им на палубе.
Дождь начался около двух часов, и, как поется в песне, не знаю, какого поэта, для белых баранов настала пора возвращаться; меня разбудил шум, что подняли они, наполняя овчарню. Море было неспокойным.
Я подумал, что самое время поступить так же, как наш англичанин на горе Ава-Сакса, то есть не открывать больше глаза этой ночью. Мое решение было таким твердым, что я открыл их снова только в семь часов утра.
Утренний туалет завершен, я поднялся на палубу. Первое, что увидел, был Хоум, бледный как смерть. Всю ночь он поддерживал прямую связь с Балтикой.
К счастью, восстановилась хорошая погода, немного бледное солнце уже поднималось над горизонтом, и море было огромным и голым. Пробуждаясь, каждый из нас с удовольствием воспринимал свое положение пассажира; плаванье из Штеттина в Санкт-Петербург не настолько долгое, чтобы успели его возненавидеть.
С намерением познакомиться ко мне подошел высокий, красивый, молодой блондин 26-28 лет. Так как рядом не было никого, кто нас представил бы друг другу, он назвал себя; это был князь Галицын [Голицын].
Les Galitzin ― Галицыны происходят из самой старой русской знати. Эту фамилию должно писать, не так, как пишу я, но ― Galitsyne. Второй сын Гедимина, основатель династии Ягеллонов (Ягайло) был родоначальником и князей Хованских, Галицыных и Куракиных. И лучше сразу писать так, как пишется имя или, скорее, их фамилия от слова galitsa ― галица, то есть gantelet (фр.) ― латная перчатка. Их дом ― самый многочисленный из княжеских домов России. Поэтому, чтобы разобраться между собой, они нумеруются.
– Вы пронумерованы как фиакры, ― сказал однажды русский император одному из них.
– Да, sir, и как короли, ― ответил тот.
Князь Галицын ― великий охотник от бога, и мы беседовали об охоте, пока я не спустился вниз написать тебе, с чем, как видишь, я добросовестно расквитался… Пардон, друг мой, ненадолго оставляю тебя; слева, вроде бы, показалась земля. Должно быть, это остров Готланд».
* * *
«Море
Между Швецией и островом Даго
День тот же
Действительно, как я и предполагал, это был остров Готланд; довольно четко он обозначился силуэтами гор слева по борту; на нем еще не отразилась приплюснутость планеты у полюсов. Географически говоря, это была шведская земля, которая и должна была принадлежать Швеции; но дважды датчане, эти люди Севера, которые вызывали самые горькие слезы из глаз умирающего Шарлеманя, завоевывали остров, будучи не в силах его удержать.
Как он был открыт и присоединен к Швеции, это теряется во мраке времен.
Есть одно предание, слабый луч, подобный лучу маяка, утонувшего в густом тумане, которое ставит готландцев впереди этого авангарда морей Севера.
Как Делос, Готланд был плавающим островом; только по вечерам он погружался в воду и отправлялся спать в морскую глубину. Один человек по имени Тилвар пристал к его берегу и развел там костер. Остров, впервые обрадованный этим светом, больше не осмеливался плавать, из страха его погасить, и мало-помалу пустил корни, которые вросли в морское дно. Тогда ободренный Тилвар обосновался там с сыном Хафдом и снохой Хтвитой-Стжерной (Белым Парусом), у которых были сыновья Гуди, Графпер и Гунфин. Они поделили между собой остров, но потомков стало слишком много для того, чтобы остров их мог прокормить, и треть их эмигрировала: смешалась с населением островов Фаро и Даго и через Россию распространилась до Греции.