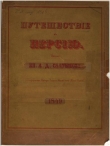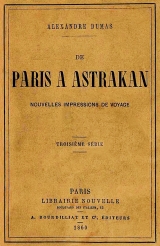
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 52 страниц)
На последнем этапе поездки по Финляндии мне приходилось 2-3 раза пить кофе; на почтовой ли станции, в плохих ли отелях, где мы ели, кофе всегда был превосходным, чудесно приготовленным, заправленным очень лакомыми сливками, которым пастбища Финляндии придают совершенно особенный вкус.
Утром следующего дня мы уехали в Сердоболь, где остановились только для замены лошадей; выехали из Сердоболя по длинной насыпи, берущей начало от крайних домов города; слева лежало озеро, справа были гранитные скалы, полосатые от очень изящных и от желобообразных борозд, напоминающих резьбу колонн. К несчастью, я был слишком посредственным геологом, чтобы уделить этим бороздам то внимание, какого, возможно, они заслуживают.
Через 15 верст, на протяжении которых дорога не показала ничего примечательного, кроме финских крестьянок, торгующих превосходной земляникой в самодельных корзинах, объявилась станция Отсоис; два жареных цыпленка, о вывозе которых из Сердоболя я позаботился, свежие яйца и земляника, орошенные чаем и кофе со сливками, составили издержки отличного завтрака.
Покидая Отсоис, обнаружили, было, Ладогу, но вскоре опять потеряли ее из виду, чтобы предаться изумительно живописной и неровной дороге; она почти целиком выскреблена в гранитных горах, иной раз таких тесных, что дорога представляет собой узкий проход как раз для телеги, и если бы встретился другой экипаж того же вида, то там повторились бы сцены с Эдипом и Лаийем[176]176
Лаий ― царь Фив, муж Иокасты и отец Эдипа, персонаж трагедии Софокла «Царь Эдип», датированной примерно 425 годом до н. э.; в младенчестве удаленный от родителей, чтобы не сбылось роковое пророчество, Эдип его осуществил: убил отца и женился на матери, не ведая, что творит.
[Закрыть]. Одна из скал имела такое сходство с разрушенным замком-крепостью, что только с расстояния в полкилометра прояснилась ошибка, в которую все мы впали. Добавим, что горы покрыты великолепными лесами, и мы смогли увидеть вблизи действие упомянутых ранее пожаров. Ветер гнал огонь к северу, то есть в наиболее густые глубины леса, что давало возможность пожару продолжаться довольно долго. Мы отметили довольно странную особенность: огонь передавался не от дерева к дереву, а шел по земле; смолистый хворост помогал разрастаться пожару, который продвигался вперед как лава, охватывал снизу деревья и двигался дальше; через несколько мгновений, когда соки дерева, по всей вероятности, были испарены, оно начинало потрескивать и искриться, кора светилась, и огонь, поднимаясь снизу, набрасывался на ветви и пожирал их; иногда оголенный ствол оставался стоять как сухое мертвое дерево, но оно было лишь углем и золой и от толчка концом трости валилось и рассыпалось в прах.
Насколько помню, мы легли спать на почтовой станции Мансильда.
От Мансильды до Кроненборга пейзаж посредственный; но вот Кроненборг оставлен позади, вновь появляются гранитные горы самых фантастических форм; большая крутизна и обрывы наводили на мысль, что вот-вот окажемся в одном из самых гористых кантонов Швейцарии.
Справа остались два-три озера, сияющие как зеркала из полированной стали в зеленом обрамлении. За пунктом замены лошадей Поксуйлялка мы вновь встретились с Ладогой и по мосту въехали на небольшой остров, где расположен город Кексгольм[177]177
Кексгольм ― в начале XIV века на острове между двумя рукавами реки Вуоксы была построена крепость Корела или Старая крепость; в 1581―1595 и 1611―1710 годах ею владела Швеция; в XVII веке была построена Новая крепость, от которой сохранились остатки каменных ворот и почти полностью ― южный равелин; крепость возвращена России при Петре I, в XVIII веке Кексгольм стал местом ссылки; в 1948 году переименован в город Приозерск.
[Закрыть]. Там землянику предлагали еще чаще, и при въезде в город можно было подумать, что мы прибыли создать конкуренцию между торговцами ягодами страны.
В Кексгольме оставались полдня частью из-за усталости, частью из любопытства: нужно заметить, что нас пленила чистота улиц с деревянными почти сплошь двухэтажными домами ― и только по обе стороны. Кексгольм, как и Шлиссельбург, ― старая шведская крепость. В саму крепость попадают через широкий ров, над которым высится вал с бастионами. Два жилых корпуса, один кирпичный и разрушенный, восходящий к шведам, и другой ― деревянный и пустующий, датированный эпохой императора Александра, образуют ряд и в результате уединенности и запустения придают глубоко тоскливый вид этому комплексу, военная архитектура которого довольно курьезна. Мы пересекали крепость во всем ее охвате без остановки, так как не было никакого прижившегося в ней исторического предания, и прибыли к потайному проходу к озеру. Перед нами на островке возвышались руины некогда укрепленного замка. Когда-то крепость с замком связывал мост; но замок обрушился, сочли бесполезным поддерживать мост в исправном состоянии, который больше никуда не вел, разве только к камням, и мост стал непроезжим. Наш гид, которого я беспощадно расспрашивал, отважился тогда рассказать нам историю одного государственного преступника, умершего при шведах в этом форту, после долгого заключения; но память бравого гида была затянута такими тучами, что вскоре я потерял надежду увидеть просвет в его рассказе. Претендовал он также на то, что слышал от отца, который все здесь обошел и осмотрел, будто недра башни изрыты подземельями и каменными мешками, где оставались еще кольца, цепи и инструменты для пыток. За что купил, за то и продаю эти справки и очень остерегаюсь брать на себя за них какую-либо ответственность.
Мы спали в Кексгольме, и должен сказать, что кровати или, вернее, канапе постоялого двора заставили нас сожалеть о скамьях почтовой станции.
На следующий день на расстоянии ружейного выстрела от города нам встретились лагуны озера Пихлавази; лагуны разделены проточными водами реки Хаапапавези. Мы озадачились с некоторым беспокойством, как переплыть два километра воды в телеге, и удивились, что начальник почты не удосужился предупредить нас об этом обстоятельстве; но наше беспокойство оборвалось разом; правда, оно уступило место другому. Из строения барачного типа вышли шестеро; из них четверо схватили наших коней за горло [под уздцы], двое бросились на паром, подогнали его к берегу и, несмотря на наши возражения и даже крики, вкатили на паром нашу телегу, и мы оказались отправленными в плаванье. Что и говорить, все было сделано очень быстро. Это был почти тот же способ, каким Ганнибал грузил своих слонов на Роне. В какой-то момент сходство стало бы более разительным, сумей мы, как они, двигать ушами. Но наши перевозчики, балансируя присущим каждому из них весом, выровняли паром и, отталкиваясь шестами от песчаного дна, двинули его вперед, несмотря на течение, с довольно приличной скоростью.
Грядет день, когда Россия обретет достаточно большое население, чтобы на этих лагунах создать вторую Венецию, и ничего не будет легче этого, так как начало ей уже положено. Высота некоторых из множества островов, доминирующих над озерной, в своем роде, поверхностью, увеличена домами, магазинами, церквями. Другие острова служат опорой фортам, прикрытым с флангов массивными башнями с зубчатым верхом или верхом с бойницами.
Хватило 15-20 минут плавания, чтобы нас препроводили из Кексгольма на противоположный берег озера, где мы снова заполучили сушу: не выходя из телеги. Рубль платы, таковы издержки этого живописного путешествия, которое поселилось в моем разуме на положении мечты.
Мы покинули лагуны, чтобы въехать в лес, местами опустошенный такими же пожарами, что уже видели, и отданный там земледелию. Хлеба, похоже, взросли превосходно, колосились и желтели.
С прибытием на пункт замены лошадей Найдерма [Нойдерма] мы были поражены нарядом женщин, который отличался от национального финского костюма. В этот наряд входят голубая юбка с широкой ярко-красной лентой понизу, облегающий талию белый казакин, и, наконец, красный платок, обрамляющий лицо и завязанный под подбородком.
Такой головной убор красивых украшает, а некрасивых безобразит.
Выезжая со станции Мивиниами [Кивиниеми], встретились с рекой Вуоксой, образующей самый большой знаменитый водопад Иматру, вероятно, единственный, какой есть в России. Вышла ли река из берегов или находилась в естественном состоянии? Во всяком случае, она затопила долины на своем пути. Край оставался лесным и гористым, только примешалась одна характерная деталь.
По мере нашего приближения к Магре [Мегре], стали попадаться семейства диких свиней. Первых, что я увидел под деревом ― в притоне для вепрей, взял на прицел. Велел остановить телегу и тотчас послал им пулю, но тут заметил, что на одном из животных надет треугольный ошейник из трех палок, связанных по концам, чтобы, видимо, мешал ему пролезать в огород.
Через несколько верст, свиньи стали так обычны и так фамильярны, что кучер был вынужден поднимать их с середины дороги ударом кнута. К такому квартированию они питают слабость, несомненно, по причине гравия, менее мягкого, но более теплого, чем лесной мох. Без меры предосторожности, предпринимаемой кучером, мы могли бы, очевидно, раздавить одного из этих сибаритов.
После станции Кутяткино, последней перед Санкт-Петербургом, дорога раздваивается. Та, что направо, ведет в Выборг; та, что налево ― в Санкт-Петербург.[178]178
Уточненный маршрут на почтовых ― Сердоболь, Реускала, Лахенпохья, Ихаланоя, Кроненборг, Пукканиеми, Кексгольм, Гепогарью, Нойдерма, Кивиниеми, Мегре, Коркомяки, Лемболова, Дранишникова, Санкт―Петербург.
[Закрыть]
Вскоре мы пересекли Большую Невку по монументальному мосту, который построил в 1811 году наш компатриот Бетанкур, проследовали Аптекарским островом, оставили позади маленькую речку Карповку и через Петербургский остров въехали во вторую столицу всея Руси.
С прибытием на виллу Безбородко мы застали ее охваченной революцией. Графиня, очень хорошая наездница и очень хороший кучер, выезжала все эти дни либо верхом, либо в тильбюри. В день нашего возвращения она выехала в тильбюри в сопровождении одной из подруг. На довольно крутом спуске она увидела перед собой корову, что улеглась посреди дороги и наслаждалась теплым гравием с негой, равной блаженству свиней Магры [Мегре].
Менее нас осведомленная о нравах четвероногих, она подумала, что корова поднимется с приближением экипажа; ничего этого корова не сделала; графиня натянула правую вожжу, чтобы объехать зад животного, и сделала это с той же ловкостью, с какой участники олимпийских игр огибают spina (лат.) ― терновый куст. Но чего графиня не заметила, было то, что вместо того, чтобы подвернуть к себе, корова сладострастно и во всей красе вытянула хвост поперек дороги. Колесо тильбюри наехало на коровий хвост. Та, ощутив поражение, нанесенное ее приложению, вскочила, исторгнув ужасный рев; лошадь испугалась, понесла и, несмотря на всю сноровку жокея, опрокинула графиню и ее спутницу в канаву.
К счастью, обе дамы выбрались из нее, получив несколько царапин; как хорошо, что, после 10-дневного отсутствия, мы провели последнюю ночь в Санкт-Петербурге, как прежде ― в пении и музыке до четырех часов утра.
Свою 55 годовщину я отметил между Валаамом и Сердоболем.
Москва
На следующий день, 3-го августа, в восемь часов утра мы сели в московский поезд и покинули Санкт-Петербург.
Русские железные дороги довольно плохо организованы, однако, имеют преимущество перед нашими, это ― ватерклозеты, устроенные в определенном месте.
От Санкт-Петербурга до Москвы 800 верст (200 лье). На них уходит 26 часов езды, тогда как, чтобы добраться от Парижа до Марселя, требуется 18. На восемь часов меньше и на 20 лье больше; этого маленького расчета достаточно, надеюсь, чтобы констатировать преимущество наших железных дорог перед русскими. Медленность в продвижении тем более неприятна, что дорога от Санкт-Петербурга до Москвы ― то долгая степь, то нескончаемый лес, и ни малейшего холма, который придал бы ей живописный вид. Единственное, что явилось нас развеять, был один из тех ужасающих пожаров, которые пожирают целые лье лесов.
Мы услышали вдруг, что наша машина гудит изо всех сил своей железной груди, затем движение, очень осторожное до тех пор, ускорилось до такой степени, что можно было подумать, будто машина взбесилась; вслед за этим мы ощутили сильный жар; и вот на всем пространстве, какое удалось охватить взором, увидели пламя справа и слева.
Пересекали самый центр пожара. Зрелище было тем более великолепно, что наступала ночь, а поскольку поезд шел так скоро, мы ничего не упустили из величия спектакля. Только если декорация была прекрасной, то зал был жарким, и несколько вентиляторов не были бы бесполезными. Уверен, что воздух накалился, несмотря на быстроту следования, до 60 градусов. Мы должны были проехать таким образом 8-10 верст, по меньшей мере, за 6-8 минут.
Я знакомился с гарью, не пришлось бы возобновить это знакомство через несколько дней, так как, возможно, в искусстве несгораемости ее разнесет далеко. В этих обстоятельствах я принял положенные мне градусы и приобрел право войти в ад без нового экзамена.
Мы миновали станцию Вышний Волочек, что на полпути между Москвой и Санкт-Петербургом; она имеет ту особенность, что является местом встречи воров и скупщиков краденого двух столиц. Когда значительная кража совершена в Санкт-Петербурге, вор тут же едет в Вышний Волочек, где находит покупателя из Москвы. Когда важная кража совершена в Москве, вор поступает так же, находит на той же станции скупщика краденого из Санкт-Петербурга, и круг замыкается.
На следующий день в 10 часов утра мы прибыли в Москву. Женни, предупрежденная телеграфной депешей, прислала за нами Дидье Деланжа, доверенное лицо Нарышкина, с коляской; он ожидал нас в здании вокзала.
Коляской управлял элегантный русский кучер в маленькой шляпе с павлиньим пером и завернутыми полями, в черном рединготе, застегнутом сверху донизу, в шелковой рубахе, в панталонах с напуском, заправленных в большие сапоги, и с восточным поясом.
На этот раз мы были в самой, что ни на есть, коренной России, то есть в настоящей, а не фальшивой России, как Санкт-Петербург.
Москва, после Константинополя, ― самый большой город, или, лучше сказать, ― самая большая деревня Европы; ибо Москва с ее парками, бараками, озерами, садами, огородами, съедобными воронами[179]179
Съедобные вороны ― намек на бедствия Наполеона в Москве.
[Закрыть], курами, ее хищными птицами, планирующими над домами, скорей всего, ― огромная деревня, нежели большой город. Черта города измеряется десятью французскими лье; площадь ― 16 120 800 квадратных туаз[180]180
Туаза ― старинная французская мера длины.
[Закрыть].
Все то, что говорят об основании Москвы князем Олегом, вымысел. Ее достоверное начало датируется XII веком. В 1147 году Юрий Долгорукий[181]181
Юрий Долгорукий (90-е годы XI века ― 1157) ― великий князь Киевский и Суздальский, шестой сын Владимира Мономаха, встретился с Новгород-Северским князем Святославом Ольговичем в поселении Москов (Москова); это время первого упоминания о Москве считается временем ее основания.
[Закрыть], сын Владимира Мономаха, имел резиденцию в Киеве, первой столице русских сюзеренов. Доверил Владимирское и Суздальское княжества сыну Андрею, прозванному Боголюбским[182]182
Андрей Боголюбский (ок. 1111―1174) ― сын Юрия Долгорукого, посаженный князем в Вышгороде (под Киевом), самовольно покинул Вышгород и в 1155 году обосновался во Владимире; в 1157 году, после смерти отца, стал князем Владимирским, Ростовским и Суздальским; в его правление Владимиро-Суздальское княжество достигло значительного могущества и стало сильнейшим на Руси.
[Закрыть], и пожелал пойти во Владимир, чтобы туда его водворить. На его пути находилась Москва, малозначащая река, но лежащая среди очаровательных холмов. Он переправился через нее, поднялся на один из холмов и с удовольствием осмотрел оттуда местность.
Этот холм ― то самое место, где построен Кремль.
Этот холм и окрестные равнины были собственностью некого Этьенна Кучко, сына Иванова [боярина Стефана Ивановича Кучки]. Конечно, восхищение великого князя его владением инстинктивно не понравилось Этьенну; он отказался воздать почести великому князю, на которые тот, как полагал, имел право. Поэтому великий князь Юрий, гордость которого была уязвлена, велел схватить Кучко и бросить его в пруд, где он утонул. Неожиданный поворот дела поверг семью покойного в такую печаль, что Юрий, тронутый ею, отправил сыновей и дочь, оставшихся без отца, к Андрею, поручая их его заботам, и продолжил свой путь во Владимир. Улита, так звали дочь Кучко, была красива; великий князь женил на ней своего сына; затем, посетив княжества, повернул назад, в Киев. Возвращался той же дорогой. Снова ехал берегом реки Москвы, снова забрался на полюбившийся холм и приказал на нем строить город.
Этот город был назван Москвой (которую мы переделали в Moscou) по названию реки [Moskova (фр.)], над которой он возвысился.
В России ничего не стоит построить город, важно его населить. На своем смертном ложе Юрий вспоминал как сладкую грезу свое стояние на холме и, узнав, что, по его распоряжениям, там построили некоторое количество домов, посоветовал своему бодрствующему сыну их заселить. Эта рекомендация имела силу приказа для сына, который заслужил прозвание Боголюбского. Его резиденция находилась во Владимире, это правда; но, желая вызвать у русских стремление к развитию и процветанию нового города, он велел построить в центре нового города каменную церковь, поместил там образ мадонны, что был прислан из Константинополя в Киев и, говорили, писан св. Лукой, украсил церковь золотыми турелями, выделил земли на ее содержание и назвал ее Успенской, то есть церковью Успения Богородицы.
Благосостояние нового города, несомненно, росло бы, если бы Андрей, кого набожность отдалила от жены, не был убит ею и ее семьей, которая отомстила сыну за прошлое убийство, совершенное его отцом.
Москва с тех пор была заброшена, а потом разграблена и предана огню монголами. Все исчезло в дыму того первого пожара, и только в 1238 году замечают, что вновь появляется московский князь, а в 1280 году ― что город возрождается.
Даниил, младший из сыновей Александра Невского, того, кто жизнь провел, чтобы сражаться с подданными, побеждать и прощать их, и которого гений сделал великим, а добродетели святым, Даниил унаследовал владения на Москве-реке, то есть захваченные Юрием у Кучко, кого он велел утопить. Он нашел город, основанный Юрием, сильно обезлюдевшим или, скорее, более не существующим. Нынешнее место Кремля было укрыто густыми лесами, и среди них остров на болоте, во что, вероятно, обратился пруд, где утопили Кучко, служил пристанищем анахорету, живущему в аромате святости; Даниил обратил уединенную хижину в церковь Преображения, окружил остров частоколом и построил там себе дворец. Затем основал монастырь, где и был погребен.
Его сын жил в Москве, предпочитая ее Владимиру и Суздалю, и поэтому получил прозвание Московитского [Московского].
Дмитрий, прозванием Донской обязанный своей победе над татарами, частокол Кремля, поставленный Даниилом, заменил стеной, способной остановить монголов, в этом поясе укреплений приютил патриарха ― св. Алексия, который построил Чудову церковь. Наконец, жена князя, Евдокия, построила там знаменитый монастырь Вознесения Христа, где приняла пострижение, где была похоронена, и где 35 великих княжон и царевен, погребенных, как и она, образуют своеобразный двор мертвых.
При Иване III, сыне Василия Васильевича, Москва начала становиться, благодаря своим богатствам и памятным сооружениям, царицей русских городов. Он обогатил свою фаворитку Москву за счет грабежей Великого Новгорода, расширил пояс укреплений, окружил город новой стеной, защищенной массивными остроконечными башнями с зелеными и раззолоченными кровлями из фаянсовой черепицы; украсил одну из башен образом Спасителя, который поместил над воротами, названными, благодаря этому образу, Святыми вратами, к которым ни один русский не подойдет, не осенив себя крестным знамением, и под которыми никто не пройдет, не сняв шапки; распорядился построить Успенский собор, оставив сыну, Василию IV, заботу продолжить его труды и построить в Кремле, входя под благословение св. Иоанна Крестителя, существующую ныне метрополию, прославленную своей колокольней, увенчанной тем знаменитым крестом Ивана Великого, о котором думали, что он из чистого золота, который французы сняли при отступлении и вынуждены были бросить, не знаю, в какой реке.
При Иване IV, Грозном, был построен, наряду с другими красящими город сооружениями, храм Покрова, в просторечии именуемый «Василием Блаженным», о котором поговорим дальше.
Пусть меня простят, что я посвятил несколько страниц основанию и развитию Москвы. Для нас Москва ― город легендарный; она пережила одну из катастроф, какие несли лишь Камбиз[183]183
Камбиз или Камбуджия (?―522 до н.э.) ― древнеперсидский царь в 530―522 годах из династии Ахеменидов, сын Кира II; в 525 году до н.э. завоевал Египет, в битве при Пелусии взял в плен фараона Псамметиха III и основал новую ― XXVII династию фараонов; в 524 году вторгся в страну Куш и потерпел поражение; в 522 году отправился на подавление восстания Гауматы, в пути умер при загадочных обстоятельствах.
[Закрыть] и Аттила[184]184
Аттила (?―453) ― вождь гуннского союза племен в 434―453 годах, завоеватель; потерпел поражение в битве на Каталаннских полях Галлии в 451 году.
[Закрыть]; она ― крайняя точка, куда, водрузив знамя на храмах Феба[185]185
Храмы Феба (Аполлона) на Юге ― древние греческие и римские храмы в Египте.
[Закрыть] на Юге, Франция ринулась водружать свое знамя на Севере. Вся наша революционная и имперская эпопея, самая большая со времен Александра [Македонского] и Цезаря, заключена между именем Бонапарт, начертанном на Фебских пилонах, и именем Наполеон, выбитом на руинах в Кремле.
Итак, не надо удивляться, если мое сердце забилось при проезде по городу Юрия Долгорукого. Может быть, его удары учащало также желание увидеть двух добрых друзей.
Женни ожидала нас у ворот Петровского парка; Нарышкин ― на крыльце, где он проводил смотр своих лошадей, что было его занятием и утехой каждое утро. Нарышкин, говорим это мимоходом, имеет лучший табун в России; он один владеет породой от эталонного жеребца-производителя, принадлежавшего Григорию Орлову[186]186
Порода лошадей Григория Орлова ― орловская рысистая, легкоупряжная, с наследственно закрепленной способностью к легкой рыси; выведена в начале XIX века в Воронежской области (Хреновский конный завод), под руководством владельца завода А. Г.Орлова, скрещиванием арабской, мекленбургской и других пород; масти ― серая, вороная, гнедая и реже ― рыжая; рекордная резвость: 1600 метров за 2 минуты 2,25 секунды (1938 год).
[Закрыть]; русскую кличку эталона, к сожалению, мне не вспомнить, ее французский перевод ― le Brave [Смелый, Отважный].
Наше появление приветствовали криками радости; этому не верили. Нарышкин сразу приостановил ревю. Женни потащила нас за собой, показать наше размещение.
Очаровательный особнячок, объединенный с основной виллой изгородью из сирени и садом, полным цветов, целиком был нам представлен, и быстренько заново меблирован, по нашему замыслу. Неслыханная роскошь в Москве, каждый из нас имел кровать. Все маленькие хлопоты о комфорте и туалете, на какие способна женщина по части уюта, были расточительно рассеяны по комнатам нашей очаровательной хозяйкой. Было очевидно, что нас хотели удерживать как можно дольше; к сожалению, каждый наш день был на счету; я спешил в Нижний Новгород ради знаменитой ярмарки, на которую Европа и Азия направляют представителей.
Наш визит, восклицания и благодарности прервал звонок, возвестивший о завтраке. Мы направились в главный жилой корпус, где я встретил повара с коленкоровым колпаком в руке. Этот кулинар, хотя и лучший, чем у Кушелева, был русским, что не минус, поваром, то есть существом, замешанным на предубеждениях. Что ― правда, то в своей оппозиции к французской кухне он чувствовал поддержку Нарышкина, который в своем качестве потомственного боярина предпочитал кухню d’Ivan le Terrible ― Ивана Ужасного [Ивана Грозного] или, если хотите, ужасную кухню Ивана. Но Нарышкин склонялся перед долгом гостеприимства, и было условлено, что на всем протяжении моего пребывания в Петровском парке сеньор Кутузов ― наш повар, как видите, носил знаменитую фамилию ― освобождался только от меня. Он меня тоже ждал, чтобы выразить мне свою преданность и оказать уважение, как сеньор своему сюзерену. Мы уже были знакомы по Санкт-Петербургу, что делало унижение для него менее болезненным. Только одна серьезная, если не непреодолимая преграда стояла между крепостным и господином. Крепостной не знал ни слова по-французски, господин ― по-русски. Договорились, что наша хозяйка спустится с высот кокетства ― на которых, должен признать, вне замков и вилл, зимних и летних, где царит, она построила свое обычное жилище ― служить для нас переводчицей.
Я сделал свои замечания по завтраку, который был лучше, чем мог ожидать от русского повара; но я без удержу хвалил осетра, приготовленного в пряном бульоне и съеденного холодным без какой-либо иной приправы, кроме хрена. Если у меня когда-нибудь будет повар, то это единственное блюдо, которое я позволил бы ему заимствовать из русской кухни.
После завтрака мне предложили любую прогулку, какую ни предпочел бы. Выезжает или не выезжает, Нарышкин всегда держит в 50 шагах от крыльца экипаж, запряженный четверкой лошадей; эти кони, выстроенные фронтом, как кони триумфальной колесницы, и образующие веер, производят, надо сказать, шикарный эффект. Но я заявил, что не поеду днем и что мой первый визит в этот вечер желательно нанести в Кремль, чтобы увидеть его в свете луны. Решили, что я хозяин, и мне повинуются. Нарышкин сделал поклон головой, как и другие, один поднялся в свой экипаж о четырех конях и отправился в клуб. Мы проводили его взглядом, удаляющегося во всем величии, блестящего как Аполлон, следующий в солнечной колеснице. Затем, когда он исчез за углом живой изгороди, а в Петровском парке были лишь такие изгороди, мы бросились, как дети на каникулах, на траву газона, которую только что скосили.
У меня есть несколько хороших житейских воспоминаний, из них воспоминания о свободе, нежности, дружбе проходят передо мною в грустные часы. Петровский парк ― одно из таких. Спасибо добрым и дорогим друзьям, которым я этим обязан!
День прошел, как если бы часы были секундами. Наступил вечер, поднялась луна, мягкий и влюбленный свет разлился в природе: настал час, выбранный мною, час выезда, час отправляться смотреть Кремль. Я был очень вдохновлен решением увидеть Кремль таким образом. Зримые объекты подвержены, очевидно, воздействиям дня, солнца, часа и еще более – окружения, в каком они находятся.
Отлично, Кремль увиден этим же вечером в нежном свете, купающимся в дымке, кажущимся мне со шпилями, устремленными к звездам, как стрелы минаретов, с дворцом феи, который не описать ни пером ни кистью.
Счастливый! роскошное слово, что редко выходит из уст человека, и буквы которого заимствованы из алфавита ангелов.
Чтобы помочь мне получить некоторые любопытные сведения, Нарышкин пригласил позавтракать с нами начальника полиции Schetchinsky ― Щечинского. Мы сидели за столом примерно 10 минут, когда офицер полиции, растерянный, не представившись, вошел и произнес одно-единственное слово:
– Ognek ― Огонек!
Начальник полиции вскочил с места.
– Что там такое? ― спросил я.
– Огонь! ― разом сказали Нарышкин и Женни.
Огонь в Москве ― не редкий случай, но это всегда серьезное происшествие. На 11 тысяч домов Москвы только 3500 каменных, остальные деревянные; мы говорим о самом городе. Как Санкт-Петербург считает свои годы по наводнениям, так Москва ― по пожарам. Стоит сказать, что пожар 1812 года был самым ужасным. С пригородами Москва насчитывает до 20 тысяч домов. Если верить автору «Истории уничтожения Москвы в 1812 году», то 13800 домов были обращены в пепел, 6000 едва выстояли.
Моим сердцем овладело желание присутствовать на великолепном и страшном спектакле.
– Где пожар? ― спросил я начальника полиции.
– В двух верстах отсюда, в Калужской [части].
― Можете вы взять меня с собой?
– Если обещаете не медлить ни минуты.
– Едем.
Я кинулся к шляпе; мы побежали к двери. Тройка начальника полиции, в упряжке сильные черные кони, ожидала нас ― мы сели.
– Брюхом к земле! ― крикнул месье Щечинский.
Гонец, что прибыл предупредить, уже был в седле; он дал шпоры своему коню и исчез как молния. Мы пустились за ним. До поездки с начальником полиции на расстояние этих двух верст, я не имел понятия о скорости, которой может достичь экипаж, если его мчит галоп трех коней. У меня был момент не страха, но испуга; перехватило дыхание. Наши лошади, поскольку несли по загородной дороге со щебеночным покрытием, окутали нас пылью; но на каменной мостовой Москвы они буквально обдали нас искрами. Я цеплялся за железный поручень дрожек, чтобы не быть выброшенным во вне. Несомненно, начальник полиции этим кокетничал, ибо поминутно выкрикивал то, что казалось мне невозможным:
– Paskaré! Paskaré! ― Поскорей! Поскорей!
С выезда из Петровского парка мы видели поднимающийся дым, и так как, к счастью, не было ветра, он разрастался над местом пожара как огромный зонт. По мере того, как мы приближались к зловещему месту, толпа становилась гуще, но офицер, который гнал галопом впереди, и за которым следовали мы на расстоянии лошади, кричал:
– Дорогу начальнику полиции!
И когда при этом грозном имени медлили расступиться, он с силой хлестал нерасторопных кнутом [нагайкой].
Шум, что мы производили, исступление нашей езды, крики нашего кучера оборачивали на нас все взгляды; расступались так, словно давали дорогу смерчу, вихрю, обвалу. Мы были между двумя живыми изгородями подобны молнии между двумя тучами. Я думал всякий момент, что вот-вот раздавим кого-нибудь; мы не задели даже ничьей одежды. Меньше чем за 5 минут мы оказались против пожара. Кони остановились, дрожащие и опускающиеся на скакательные сочленения.
– Прыгайте, ― сказал мне месье Щечинский, ― я не ручаюсь за лошадей.
В самом деле, вдохнув дым, почти огонь, тройка вскинулась на дыбы, как упряжка Ипполита[187]187
Ипполит ― сын Тезея и Ипполиты, по наущению своей мачехи Федры, проклятый отцом, он пал жертвой напуганных Нептуном коней, но был воскрешен Эскулапием; под именем Вирбиус почитался в Ариции как герой.
[Закрыть]. Мы были уже на земле. Кучер позволил дрожкам развернуться самостоятельно и исчез.
Весь остров домов пылал. На две сотни метров строения были в огне с изгибом по бокам. К счастью, улица, на которую выходил этот фасад, охваченный пламенем, была шириной 15-20 метров. С других сторон было не так: пылающий остров отделяли от соседних кварталов переулки шириной лишь 15 футов. Два переулка были единственными проходами, позволяющими атаковать пожар сзади.
Начальник полиции приготовился броситься в один из переулков.
– Куда вы? ― спросил я.
– Сами неплохо видите, ― ответил он.
– В этот переулок?
– Так надо! Ждите меня здесь.
– Ничего подобного, я ― с вами.
– Зачем? У вас в этом нет необходимости.
– Чтобы видеть. В тот же миг, когда пойдете вы, пойду и я.
– Вы так решили?
– Да.
– Держитесь за ремень моей сабли, и не отпускайте меня.
Я схватился за ремень, мы бросились вперед. В течение секунд я видел только пламя, дышал только огнем, я думал, что сейчас задохнусь, шатаясь, открыл рот. К счастью, вправо от нас отходила улица, начальник полиции бросился туда. Задыхающийся, я упал на бревно.
– Вы ищите вашу шляпу? ― спросил он меня, смеясь.
В самом деле, заметил я, что моя шляпа свалилась при переходе.
― Ей-богу, нет, ― сказал я. ― Ей хорошо там, где она лежит, пусть там и остается. Только выпил бы стакан воды, лишь это погасит пламя, которого я наглотался.
– Воды! ― крикнул начальник полиции.
Женщина отделилась от одной из групп, что смотрели пожар, вошла в дом, вышла с кружкой и поднесла ее мне. Никогда капское или токайское вино не казалось мне таким вкусным, как эта вода. Пока я пил, послышался грохот, подобный грому: это прибывали пожарные.
Поскольку пожары очень часты в Москве, то служба помп довольно хорошо организована. Москва разделена на 21 район; каждый район имеет свои насосы. Один человек постоянно дежурит на площадке каланчи ― самой высокой точки в районе, следя за возникновением пожаров. При первом проблеске огня он приводит в движение систему шаров, которые имеют свой язык, как телеграф, и объявляют не только бедствие, но и место пожара. Пожарные оповещены, тотчас в упряжь ставятся насосы и направляются к месту пожара.
Итак, они прибывают; но, хотя не потеряли ни минуты, огонь был проворнее, чем они. Он начался в построенном из дерева постоялом дворе по неосторожности одного проезжего, который зажег свою сигару во дворе, полном соломы. Ворота двора были распахнуты; можно было назвать его адом.
Начальник полиции бросился в тот же переулок, которым мы прошли, и появился вновь с четырьмя помпами. К моему великому удивлению, он направил воду не на очаг пожара, а на крыши окружающих домов. Я спросил его о причине такого маневра.
– Разве нет французской поговорки, которая утверждает, что нужно делиться с огнем?
– Есть, ― сказал я.
– Отлично, огонь не умеет говорить, я ему отдаю или, скорее, оставляю его долю; но постараюсь, чтобы он довольствовался только ею.