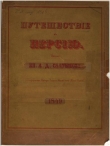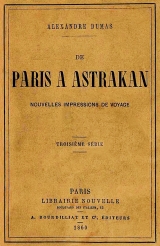
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 52 страниц)
По знаку князя, десяток всадников погнали перед собой и отбили к берегу небольшую партию лошадей ― три-четыре сотни, может быть, из переправившихся через реку. Князь взял лассо, врезался в середину взбрыкивающего, кусающего, ржущего табуна, меньше всего обращая внимание на эти враждебные демонстрации; затем набросил лассо на ту из лошадей, которая показалась ему самой ретивой, несколькими рывками вовлек ее в галоп своего коня и вырвал из гущи ее компаньонок. Плененная лошадь выскочила из орды с пеной на губах, гривой дыбом, налитыми кровью глазами. Требовалась воистину высшая сила, чтобы противостоять метаниям, через которые она рвалась освободиться от лассо и вновь обрести свободу. Как только она была изолирована от своих, на нее набросились и ее повалили пять-шесть калмыков. Один из них насел сверху, другие сняли лассо, разом отошли, и ― не единого движения. Мгновение лошадь оставалась неподвижной, видя, что за исключением одного избавилась от всех своих антагонистов, вскочила вдруг, считая себя свободной. Но конь становился рабом больше, чем был им прежде; вслед за материальной властью веревки и силы пришла власть искусства и разума. Тогда между диким животным, крестец которого никогда не знал груза, и тренированным всадником началась удивительная борьба. Конь взбрыкивал, вертелся, кружил, пытался укусить, кувырком бросался в реку, вновь взлетал по скользящему откосу, уносился с всадником, возвращал его на то же место, еще уносил, катался по нему на песке, вскакивал с ним, шел на задних ногах, опрокидывался ― бесполезно: всадник прилип к его бокам. Через четверть часа конь, запыхавшись, лег и, укрощенный, просил пощады.
Трижды повторилось то же самое испытание с разными конями и всадниками; трижды победил человек. В свою очередь, вышел 10-летний мальчик. При помощи лассо для него изловили самого дикого коня, какого можно было найти: ребенок сделал все, что делали мужчины.
Несмотря на неприятную внешность эти всадники с обнаженным торсом великолепны в действии. Их кожа с бронзовым отливом, короткие конечности, дикий облик ― все, до молчания статуи, которое они сохраняли в момент самой большой опасности, придавало им античный характер кентавра в ожесточенной схватке человека и зверя.
Позавтракали, чтобы дать время подготовить верблюжьи бега. Я заручился согласием князя выделить часть продуктов и питья нашим наездникам и, особенно, ребенку.
На берегу Волги поставлен столб, увенчанный длинным полощущимся флагом. Это был финиш верблюжьих бегов; место старта находилось в лье от него вверх по течению реки; участники соревнования должны были двигаться оттуда, то есть с северо-запада на юго-восток. Ружейный выстрел, произведенный князем, и ответный, звук которого донесло эхо с реки, послужили сигналом к началу забега. Через пять минут показались первые верблюды, вздымающие круговерть песка. Их галоп, конечно, был на треть быстрее галопа лошадей; не думаю, чтобы они затратили больше шести-семи минут на дистанцию в четыре версты. Первый верблюд финишировал с отрывом на десять шагов от одного из соперников. Остальные 48 прибыли, как les Curiaces [1. члены курии; 2. по легенде, Куриации, три брата-близнеца из города Альба Лонга, пали один за другим в схватке с Горациями, тремя братьями-близнецами из древнего Рима] с разными интервалами. Призом было доброе казацкое ружье, которое победитель получил с нескрываемой радостью.
Настала очередь состязаний за бумажный и серебряный рубль. Всадники на голых спинах коней без узды, не имеющие другого средства управления ими, кроме колен, должны были на скаку, не сходя с коня, подобрать бумажный рубль, навернутый на деревянный колышек. С серебряным рублем было сложнее; его клали на землю плашмя. Все эти упражнения были исполнены с удивительной ловкостью. Каждый получил вознаграждение, даже неудачники.
Полагаю, что трудно сыскать более счастливое коренное население, чем эти бравые калмыки, и лучшего хозяина, чем князь Тюмень.
Последний забег окончен; пять часов вечера. Мы сели в лодки, переплыли Волгу и вернулись в замок. Пароход объявил, дымя, что он ― в нашем распоряжении. Оставалось провести в Тюменевке несколько часов. Эти часы стали истекать, как минуты.
Нужно было снова сесть за стол, снова оказать честь одному из страшноватых пиршеств, которые, можно подумать, готовились для гигантов; еще надлежало осушить знаменитый рог, оправленный серебром и вмещающий бутылку вина.
Все это было выполнено, настолько уж человеческая машина послушна своему тирану. Затем наступило время расставаться. Мы вновь потерлись носами, князь и я, но в этот раз неистово, трижды и со слезами. Княгиня просто плакала, совсем открыто и наивно, повторяя свою фразу, сказанную накануне:
– О, дорогой друг моего сердца! Я никогда столько не развлекалась!
Князь настаивал на клятве ― вернуться… Вернуться в Калмыкию, да как такое возможно!
Княгиня снова дала поцеловать мне свою ручку и обещала, если вернусь, с разрешения мужа подставить обе щеки, что могли бы соперничать цветом со щеками маркизы д'Амаги [d’Amaegui]! И соблазнительно было пообещать, да Калмыкия очень далека!
В девять часов вечера мы погрузились на судно. Княгиня проводила нас на пироскаф; это впервые она поднялась на борт парохода; она никогда не бывала в Астрахани. Возобновила огонь береговая артиллерия, ей ответили бортовые орудия; зажглись бенгальские огни, и раз за разом мы видели все население в довольно фантастическом свете ― зеленым, голубым или красным, в зависимости от цвета вспыхивающего пламени.
Было уже 10 часов вечера, и не находилось способа задерживаться и дальше. Мы сказали друг другу последнее «прости».
Князь, княгиня и ее сестра, которая оставалась в Тюменевке, вернулись на берег. Судно закашляло, захаркало, зашевелилось и отошло. На расстоянии более лье мы еще слышали пушки и видели пагоду и замок, иллюминованные разноцветными огнями. Потом за изгибом реки, все исчезло как греза.
Спустя два часа прибыли в Астрахань, и в мой альбом, ниже слов бедной графини Ростопчиной ― «Никогда не забывать друзей из России и среди них ― Евдокию Ростопчину», наши три подруги по путешествию записали:
«Никогда больше не забывать
Мари Петриченкову,
Мари Врубель
Катрин Давыдову.
Волга, борт пироскафа "Верблюд"».
Мы оставались в Астрахани восемь дней, два из них провели у князя Тюменя и вернулись от него 2 ноября. Настало время продолжить путешествие.
* * *
Вы помните, что мы выехали из Астрахани, чтобы совершить нашу небольшую экскурсию в Калмыкию.
После нашего визита к князю Тюменю, мы находились в Астрахани уже восемь дней и за эти восемь дней повидали много чего.
Теперь речь шла об отъезде из Астрахани.
Не знаю, в какой пьесе Локруа[311]311
Локруа Жозеф-Филипп Симон (1803―1891) ― французский драматург, автор пьесы «Екатерина II», комедии «Собака садовника» и других произведений.
[Закрыть], но твердо помню, что одного месье, по имени Арналь, он заставил сказать: «Из Астрахани не возвращаются». Мы почти уверовали, что эта аксиома имеет силу закона. Однако мы вошли уже во 2-е ноября: пробил час отъезда. Адмирал Машин предлагал, о чем нисколько не забывали, отправить нас в Баку или, по меньшей мере, в Дербент, на «Трупманне», когда это судно вернется из Мазендерана.
Нанесли визит адмиралу; целью визита было спросить адмирала, есть ли у него новости о «Трупманне».
«Трупманн» прибыл во время нашей поездки в Тюмененскую и вновь уходил на следующий день. Это был последний за год рейс, который он должен был совершить в Баку; надлежало бы этим воспользоваться.
Адмирал отлично помнил свое обещание, которое мне дал; но он усердно расхваливал мне дорогу по суше, говорил мне, что я буду весьма неправ, если откажусь от такого варианта путешествия. Я догадался, что тут какой-то угорь кроется под камнем. Попросил адмирала оставить в покое всякую национальную гордость и открыто поделиться со мной своими соображениями насчет нашего похода по Каспийскому морю. Тогда, припертый к стенке, или, скорей, по зову совести, адмирал открылся, что был готов сдержать свое слово, охотно помог бы с посадкой на «Трупманн», но, всецело отвечающий за наш отъезд, он никак не смог бы отвечать за наш приезд по назначению.
Нет ничего более курьезного, чем русский флот на Каспии. На четыре судна приходилось два севших на песчаную мель, одно, машина которого вышла из строя, и еще одно, гребное колесо которого сломалось. Оставался один «Трупманн». Но бедный «Трупманн» 18 дней возвращался из Мазендерана. Его машине не доверяли, так что большую часть времени он шел под парусами. Вот почему при изменчивых ветрах, дующих в зимний сезон, не было уверенности, что мы прибыли бы в Баку.
Мы могли доверить «Трупманн» только наши дорожные сундуки, чтобы разгрузиться. Я же слишком держался за все, что вывозил из России, чтобы с этим всем разлучаться; к тому же, если мы не были уверены, что доберемся до Баку, то наши вещи были уверены не больше нашего, что там окажутся.
Теперь, от чего проистекает дурное состояние русского флота в Астрахани? От чина.
Я уже объяснил, что такое чин, и какой огромной мощью он обладает в России.
Чин ― слово, весьма возможно, китайского происхождения ― не только место, которое занимают, это еще права, соответствующие рангу каждого.
Чин военного инженера дает ему право строить паровые суда. Ну и вот, он использует свое право, чтобы зарабатывать сто тысяч франков и, может быть, двести тысяч франков на пароходе, который строит; и строит как можно больше пароходов.
Он ничего не смыслит в строительстве пироскафов; он будет их строить до тех пор, пока не постигнет чего-нибудь в этом деле. Пять-шесть миллионов, вот во что русскому правительству обходится специальная подготовка военного инженера; но что за важность! Правительство могло бы заказывать обществам [фирмам] строительство судов, и они стоили бы ему на сто-двести тысяч франков дешевле, и платило бы за них только тогда, когда суда были бы способны двигаться.
Но это было бы слишком просто, и не было бы путаницы, которая приносит доход. Впрочем, это расстроило бы систему зубчатых колес административной машины; да и что произошло бы, если бы нарушилась система столь хорошо отлаженной машины!
Неслыханно то, что звучит в рассказах самих русских о хищениях, которые совершаются в администрациях, главным образом, ― в военных администрациях.
Все знают о кражах и ворах, однако, и жулики продолжают воровать, и кражи становятся все более громкими. Единственный, кто якобы не знает ни о кражах, ни о ворах, это ― император.
При его величестве Николае I, особенно в период Крымской войны, жулье достигло высоты своей фантазии, которая обнаружила у тех, кто занимался хищениями, чрезмерное богатство воображения.
Реабилитируем Неаполь, свидетельствуя, что воры есть как на Юге, так и на Севере, как в Неаполе, так и в Санкт-Петербурге.
Мы не говорим здесь о мелких кражах, которые состоят в том, чтобы стибрить шейный платок, табакерку и даже часы. Мы говорим о таких великих кражах, которые не только обогащают, но делают знаменитым вора, о делах, которые благовоспитанные люди называют спекулятивными.
Вообще, в русских спекуляциях такого рода наибольший доход приносит крупный рогатый скот.
Русские спекулянты, как египтяне времен фараонов и Птолемеев[312]312
Птолемей ― имя македонско-греческих царей Египта, царствовавших в 323―30 годах до н.э., начиная с Птолемея Сотера.
[Закрыть], должны были бы воздвигнуть алтари быку Апису[313]313
Апис ― «священный» бык, которому поклонялись древние египтяне, видя в нем земное воплощение бога Пта ― бога изначальной творческой силы, покровителя ремесел и искусств; культ Аписа восходит ко времени Древнего царства, особое распространение этот культ получил в стране, когда ее центром стал Мемфис; близ этого города, среди развалин Серапея, обнаружены 64 гробницы «священных» быков со множеством надписей.
[Закрыть].
Руководители Компании быков [Volovi raty ― Воловьи рати], например, во время Крымской войны принимали от генерального директора армейской администрации пять сотен быков, а расписывались в приеме шестисот. С самого начала появлялась такая вот сотня быков, и администратор получал из рук в руки без малого сорок тысяч франков.
Пятьсот быков оказывалось у Компании. Сейчас мы увидим, сколько из этих пяти сотен быков достанется солдатам.
За нехватку сотни быков в Компании ― отчитываться ей самой, как сумеет. Если она не могла довести численность стада до шестисот голов, прогоняя его через пункты, обозначенные как этапные, и попутно завладевая волами, которые попадались под руку, то мэра [старосту] деревеньки заставляли выдавать свидетельство о гибели одного животного; это стоило рубль. За четыреста рублей, то есть за шестнадцать или семнадцать сотен франков, приобреталось сто сертификатов.
Один офицер рассказывал мне, что при отходе русских войск с берегов Дуная в пределы России, он видел главу Компании быков, сопровождающим на протяжении трехсот-четырехсот верст повозку с замороженным павшим быком. В каждой деревне тот добивался справки на мертвого быка и продавал одного быка живого, за которого клал деньги в собственный карман, но мясо которого солдат не клал себе на зуб.
Из пятисот быков, переданных Компании, солдаты не съедали и десяти.
В последнюю войну правительство получило официальный отчет, содержащий информацию, что пришлось собрать стадо из восемнадцати сотен быков ― по сто пятьдесят рублей каждый. Может быть, это было немного дорого, но в военное время к этому особо не присматриваются. Эти восемнадцать сотен быков куплены, и надлежало их кормить. Их и кормили пять месяцев.
С заключением мира, через пять месяцев, быки стали ненужными: их забили. Забитых быков надлежало засолить. Купили соль.
Каждый из этих вымышленных быков, с учетом покупки, прокорма и засолки, поднялся в цене до трехсот рублей (двенадцати сотен франков). В целом это дало кое-что, а именно ― два миллиона франков. Не стоит повторять, что ни один из этих восемнадцати сотен быков не существовал.
Калино ― наш Калино, танцор Калино, ополченец 1853 года ― рассказывал мне, что побывал в составе одной роты, направлявшейся из Нижнего Новгорода в Крым. Капитану, командовавшему ротой, на каждый день ассигновали сумму в сто двадцать рублей на покупку быка, мясо которого должно было обеспечивать ежедневное питание этой роты. И он купил быка в Нижнем.
Каждый раз, когда офицер, старший по званию, встречал конвой и спрашивал:
– Как с быком, капитан?
– Вот бык, которого я купил этим утром, мой полковник (мой генерал), и которого мои люди съедят сегодня вечером.
И генерал или полковник отвечал:
– Хорошо, капитан.
Вечером капитан вел «на выпас» свою роту: она ела размазню, приправленную сальной свечой.
Бык, единственный, кто всю дорогу не жил впроголодь, главным образом, в ущерб роте, прибыл в Крым здоровым и невредимым. В Крыму капитан продал его на треть дороже, чем он стоил при покупке, поскольку пребывал в хорошем состоянии.
Всю дорогу командиру оплачивали быка на очередной этап, то есть выдавали от ста пятидесяти пяти до ста шестидесяти рублей.
На сегодня в России действует принцип, по которому подчиненный никогда не может быть прав, выступая против старшего по службе.
Есть инспекторы, обязанные осматривать и проверять обмундирование, снаряжение и пищу солдат. Им положено также принимать солдатские жалобы. Только жалобы солдат поступают в инспекцию их начальников.
Солдат имеет право жаловаться; но полковник обладает правом, будь на то малейший повод, приказать подвергнуть солдата пятистам палочным ударам, а когда спина страдальца заживет, ― другим пятистам ударам, и так далее, пока тот от этого не умрет. И вот солдат позволяет воровать, чтобы не получить пятьсот, тысячу, тысячу пятьсот ударов шпицрутенами. Военный министр, который все это знает, который все это допускает, и который всего этого не видит, в то время, как солдат принимает удары шпицрутенами, получает орденские ленты и звезды.
Особенно полковники, обязанные кормить свои полки, творят значительные аферы. Когда же в России недовольны каким-нибудь полковником, его производят в генералы.
А как там орудуют полковники, вы сейчас увидите; это делается довольно легко и без греха, как говорят в России, чтобы все фокусы или маневры не выглядели вооруженным грабежом.
Мука для выпечки военного хлеба предоставляется правительством в достаточном количестве. Часть этой муки конфискована полковником и продана к его выгоде. Такое же воровство происходит в отношении сукна и кожи. В кавалерийских полках еще ― в отношении сена и овса.
Затем наступает очередь того, что называется официальные цены. Из них извлекают серьезные барыши; все прочее ― только упущение средств. Официальные цены (spravoschnya tseny ― справочные цены) ― цены на все, что может служить пищей людям и лошадям в городе и деревне, занятых полком.
Эти официальные цены обсуждаются между полковником и властями. Власти выдают свидетельства, по которым полковникам возмещают затраты. Цены завышают; власти получают треть, полковники ― две трети прибытка.
И все это скрывают от императора, дабы не огорчать его величество. Таким же образом, чтобы, как всегда, не огорчать его величество, от императора Николая скрывали результат сражения на Альме; скрывали так хорошо, что, когда его величество узнал, каково там положение дел, он предпочел отравиться, нежели переживать такие нежданные катастрофы. Только, когда император получил известия от тайного курьера, у министра прошла мучительная боязнь огорчить его величество. Не огорчать хозяина, такова самая большая озабоченность русского человека ― от крепостного до премьер-министра.
– Что нового у меня? ― спрашивает русский сеньор у мужика, приехавшего из деревни.
– Ничего, батюшка, ― отвечает крестьянин, ― если не считать, что кучер сломал ваш перочинный ножик.
– И каким же образом этот дурак сломал мой перочинный ножик?
– Снимая шкуру с вашей белой лошади.
– Моя белая лошадь пала?
– Да, отвозя вашу матушку на кладбище, она растянулась, и пришлось ее добить.
– Но матушка-то с чего такого умерла?
– С перепугу, она испугалась, увидев, что горит ваша деревня.
Так хозяин узнал об учетверенном несчастье, которое обрушилось на него.
Как и та деревня русского сеньора, Астрахань недавно горела. Огонь занялся в порту, неизвестно отчего. В России никогда не знают, как возникает пожар.
Были истреблены сто семьдесят домов и двести судов.
Одно судно, дрейфуя, село на мель возле порохового погреба; туда перекинулись языки пламени; склад взлетел на воздух, и от силы взрыва река вышла из берегов. Рыбу находили на улицах города и во дворах домов.
В главе о соленых озерах я рассказал, что встречал генерала Беклемишева, гетмана [наказного атамана] астраханских казаков, который в знак дружбы подарил мне свою папаху, и просил сообщить его жене, что он пребывает в добром здравии и рассчитывает ее увидеть через несколько дней. Я подумал, что настал момент исполнить поручение.
Свой костюм русского ополченца я дополнил папахой и явился к мадам Беклемишевой. Не стоит говорить, что я был замечательно принят.
Мадам Беклемишева обосновалась в четверти лье от Астрахани в одиноком сельском, совсем парижском домике. Просто поразительно, чего может достичь женщина со вкусом при внутреннем убранстве своего дома. Салонный камин, устроенный как этажерка, с вазами и статуэтками из Китая и дорогими тканями, смотрелся так прелестно, что Муане сделал набросок, чтобы однажды его обратить в театральную декорацию.
Генерал Беклемишев прибыл через три-четыре дня после моего визита к его жене. Это было в момент самых больших наших затруднений по поводу отъезда из Астрахани. Уже было известно, что адмирал Машин не мог отвечать ни за что, даже за нас, если мы отправимся в путь на «Трупманне». С другой стороны, нам указали дорогу на Кизляр, непроезжую из-за кабардинцев и чеченцев, которые грабили и убивали путников. Рассказывали истории всякого рода, одна мрачней другой; называли имена тех, кто погиб.
У меня промелькнула идея подняться вверх по Волге до Царицына, пересечь пространство, которое отделяет Волгу от Дона, и проплыть вниз по Дону через Ростов и Таганрог, по Азовскому морю ― до Керчи. Из Керчи я добрался бы до Редут-Кале, Поти и Тифлиса. Но не увидел бы ни Дербента, ни Баку.
Генерал Беклемишев вытащил нас из затруднений, заверив, что, раз дорога небезопасна, то, по хитрому слову от него, нам будут выделять необходимые эскорты. Вследствие этого он вручил нам письма для всех начальников постов линейных казаков.
Адмирал Машин, со своей стороны, был настолько рад освободиться от ответственности за нас, что как военный губернатор написал на моей подорожной приказ воздавать мне такие же почести и предоставлять такой же эскорт, как генералу. Эта последняя любезность все решила для нас. В таких поездках опасность, когда есть шанс ее перебороть, обладает большей привлекательностью.
Оставалось только раздобыть тарантас. Начальник полиции подыскал нам этот экипаж, не слишком расшатанный, стоимостью шестьдесят пять рублей. Тарантас передали в руки каретника, который, при условии ремонта за четыре рубля, ручался нам за его надежность до Тифлиса. А нужно было пересечь изрядное количество оврагов, прежде чем прибыть в столицу Грузии!
* * *
Во вторник 2 ноября мы пришли проститься с месье Струве, у которого встретили князя Тюменя. Ему сообщили о нашем отъезде и пути следования, донеся до него также опасение не того, что мы можем быть убиты, а того, что можем погибнуть от голода; и в самом деле, от почтовой станции Zenzilinskaja [Зинзилинской][314]314
Зинзилинская ― шестая почтовая станция от Астрахани.
[Закрыть], первой станции [шестой от Астрахани] до Кизляра, то есть на протяжении четырехсот верст с лишним мы не встретим ни одной деревни, только почтовые станции через каждые тридцать верст, и один-два казачьих лагеря.
– Пусть эти мессье спокойно отправляются в путь, ― сказал князь, ― я берусь их кормить.
Полагая, что это шутка, смеясь, мы поблагодарили князя; но после отъезда князя месье Струве уверил нас, что тот говорил серьезно, и что нам остается только ехать в условленное время и безо всякого беспокойства ожидать исполнения его обещания. А пока месье Струве пригласил нас завтра отобедать у него и забрать с собой излишки обеда ― все, что могло бы поместиться в ящиках нашего тарантаса.
Со свой стороны, управляющий дома Сапожникова снабдил нас охлажденным мясом и вином.
Расходуя продукты бережно, как поступают потерпевшие кораблекрушение, мы смогли бы, благодаря холодам, ни о чем не беспокоиться в течение трех дней. Но, беря в расчет задержки, претерпевать которые вынудит нас почта, не упуская такой возможности, мы не сможем попасть в Кизляр ранее, чем через пять-шесть дней. У нас не будет времени умереть с голоду, но будет время нагулять страшный аппетит.
Сутки прошли без вестей от князя Тюменя. Я продолжал твердо придерживаться мнения о шутке; но месье Струве настаивал, что князь не способен обращать в шутку такое серьезное дело, как продукты питания.
В пять часов вечера мы простились с управляющим и домом Сапожникова, где нас принимали с таким учтивым гостеприимством. Тарантас, нагруженный всем, что он мог вместить, подвез нас к месье Струве, где мы обедали. Остатки огромного говяжьего филе, зажаренного по нашему пожеланию и начатого за обедом, предназначались для того, чтобы мы вспоминали до середины пустыни, которую предстояло пересечь, гостеприимство города.
В восемь часов мы простились с месье Струве и его семьей. Курнану и адъютанту адмирала было поручено сопроводить нас на ту сторону деревни, где берут почтовых лошадей, и устранить затруднения, если они возникнут.
Тарантас погрузили на широкое судно [паром], предоставленное гражданским губернатором, перенесли туда чемоданы и дорожные сундуки, которые не поместились в тарантасе, и которые предназначалось везти на телеге, и сделали то первое погружение весла, которое при разлуке есть то же самое, что первая лопата земли, брошенная на гроб при похоронах.
Стояла чудесная погода; небо было чистым, луна ― сияющей. Астрахань, заурядного вида днем, позаимствовала всю поэзию, какую ночь ссужает городам Востока, чтобы доставить нам больше обжигающих сожалений. «Звезда пустыни», как ее нарекли татары, ее первые хозяева, явилась нам сквозь необыкновенные перламутровые переливы во мраке полуденной России, который и не мрак, а только отсутствие дневного света.
Впрочем, с каждым погружением весла, контуры церквей с высокими куполами размывались, и город, мало-помалу, принимал неопределенную и таинственную прозрачность берега королевства теней; наконец, он будто растворился в тумане, и, когда мы коснулись другого берега, единственное, что нам оставалось созерцать, была огромная скатерть воды, шириной в три четверти лье, мерцающая в лунном свете, как река расплавленного серебра.
Ставя ногу на другой берег, мы вступали в пустыню.
В Астрахани, за столом у месье Струве, за чаем у адмирала, мы были в Париже, Петербурге, Берлине; то есть ― среди искусства и цивилизации, среди светского общества, наконец. На другом берегу Волги мы находились ― реальней некуда ― в тысяче лье от Парижа: затерянные в песках и увязающие в нем по колена, среди войлочных палаток [юрт], верблюдов, калмыков, татар, на границе пустыни, в которую надо войти, атомы, почти неразличимые на огромном пространстве.
Благодаря вмешательству адъютанта, который говорил от имени военного губернатора, и Курнана, который говорил от имени гражданского губернатора, мы завладели телегой и правом пользоваться ею до Кизляра, чтобы не перегружать вещи на каждой почтовой станции. Телега была загружена; сговорились о трех лошадях для тарантаса, а для телеги, было заявлено, будет достаточно двух. Тарантас возглавил колонну, телега скромно заняла место за ним. Последний раз мы обняли в Курнане всю семью месье Струве, пожали руку адъютанту адмирала, попросили передать ему все наши пожелания счастливого плавания «Трупманну», и, так как у нас больше не было ни малейшего повода к тому, чтобы задерживаться, за исключением желания услышать новости от князя Тюменя, которые в действительности, казалось нам, не заслуживали внимания, мы подали знак нашим ямщикам, и те пустили свои упряжки полевым галопом.
С минувшей ночи мы проехали почти восемьдесят верст. Проснулись на станции Bathmaschafkaia [Башмачаговская][315]315
Башмачаговская ― почтовая станция перед Зинзилинской, пятая от Астрахани; названия и порядок этих и других упомянутых станций между Астраханью и Кизляром уточнен по «Маршрутной книжке» Почтового департамента, изданной в Санкт-Петербурге в 1860 году.
[Закрыть]. Пардон за название! Я не могу себя упрекнуть в его выдумывании, мне было довольно трудно его писать.
Примерно в трех верстах от станции, по левую сторону от нас, стал открываться вид на одно из соленых озер, столь обычных для края между Волгой и Тереком. Оно было покрыто дикими гусями. Я начал думать, что нас слишком запугивали отсутствием съестного. Сошел с тарантаса и попытался проскользнуть в зону досягаемости; но за две сотни шагов один старший гусь, поставленный часовым, испустил крик тревоги, и вся стая улетела. Пуля, что я ей послал, пропала даром. Бегство с такой дистанции заставило меня крепко призадуматься. Если каждая стая гусей, которая нам попадется, будет охраняема часовым так же хорошо, как эта, то ничего не поделаешь, придется изыскивать другие ресурсы.
Когда я забирался в тарантас, предаваясь этим малоутешительным размышлениям, то заметил показавшийся позади нас, на горизонте, желтенький колпак калмыка, следующего верхом на верблюде той же дорогой, по которой мы только что ехали; судя по скорости приближения, он должен был одолевать четыре лье в час.
Довольно ли довелось увидеть, довольно ли повидали верблюдов, мерящих шагами степи с калмыком на спине, каждый новый верблюд, который появляется с новым калмыком в седле, притягивает ваш взгляд, настолько вид этих бесконечных горизонтов, взбудораженных до бешенства группой из человека и животного, живописен ― живописен в высшей степени. Стало быть, я наблюдал за нашим калмыком с большим любопытством, так как мы, казалось, были целью его бега. По мере того, как он приближался, а он приближался быстро, хотя наши упряжки шли крупной рысью, мне показалось, будто он что-то нес на кулаке. С двух сотен шагов я распознал то, что он нес на кулаке, это был сокол; и при виде сокола во мне шевельнулось смутное воспоминание о князе Тюмене.
В самом деле, это был один из его сокольничих, кого князь Тюмень отправил к нам, выполняя обещание, данное нам у месье Струве и состоящее из нескольких кратких слов: «Я берусь кормить этих мессье». Кроме того, достойный князь тем самым благородно отомстил за сомнения, которым мы поддались в отношении его обещания, проявил к нам внимание, прислал одного из своих сокольничих, немного говорившего по-русски; таким образом, через посредничество Калино мы смогли узнать о миссии подле нас отважного человека. И случай представить доказательство талантов человека и птицы не заставил себя ждать.
Вскоре, в версте или двух от нас, мы открыли одно из тех соленых озер, которыми изобилуют степи. Как и первое, что нам повстречалось, оно было покрыто дикими гусями. Нам ничего не пришлось говорить. Калмык направил своего верблюда прямо к озеру.
В этот раз инстинкт летунов, такой развитый, как известно, несмотря на их название [гуси], ставшее символическим, их обманул. Им было непривычно видеть путника, сходящего с экипажа и крадущегося к ним как галл, который хочет взобраться на Капитолий, так что я их спугнул, и они поднялись в двухстах шагах; но они видели десяток раз на дню калмыка верхом на верблюде, едущего вдоль озерного берега, где они спокойно щипали траву. В отличие от нас, они не придали значения, что этот калмык нес на кулаке нечто непонятное, способное их встревожить. Ни один гусь не поднял клюва.
Подъехавший к стаду гусей на пятьдесят шагов, калмык сорвал колпачок с головки сокола, который, увидев день и в солнечном свете такую прекрасную и многочисленную добычу, испустил пронзительный крик. Со своей стороны, птицы, при виде своего врага, которого тотчас же опознали, с криками ужаса стали разбегаться, колотя крыльями по земле и волоча лапки. Мгновение сокол парил над стадом, затем пал на спину одного из гусей, и тот некоторое время уже в полете продолжал нести на себе врага, но под непрестанными ударами его клюва окончательно ослабел и вместо того, чтобы продолжать подниматься вверх, рухнул в степи.
Только, проявляя братство, пример которого люди подают не часто, другие гуси вместо того, чтобы по-прежнему спасаться бегством, в свою очередь, бросились в бой; не касаясь земли, они с оглушительными криками носились вокруг своего спутника или, скорее, вокруг сокола, посылали ему удары клювом, и под ними, очевидно, ему предстояло пасть, если бы наш калмык не поспешил на помощь, стуча в маленький бубен, который он держал на ленчике седла; он бил в бубен, чтобы ободрить свою птицу, объявляя ей союзничество, или ― чтобы распугать гусей, объявляя им еще об одном враге.
Мы сошли с тарантаса и тоже со всех ног бросились на помощь к нашему поставщику; но, когда примчались на поле битвы, к нашему огромному удивлению, убедились, что сокол исчез, хотя гусь находился там с явными признаками схватки. Тогда калмык, ожидающий нас для того, несомненно, чтобы продемонстрировать предмет гордости сокольничего ― всю сообразительность своего питомца, сначала позволил нам немного поискать сокола глазами, затем приподнял крыло гуся; он показал нам сокола, съежившегося под этим щитом, тот в этом убежище не опасался ударов и продолжал добивать противника, вернее, приканчивать жертву. Наш сокольничий, у которого, в противоположность князю Тюменю, не было с собой кожаного мешочка со свежей мясной мякотью, отрубил голову гуся, рассек ее и скормил птице мозг.