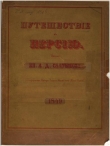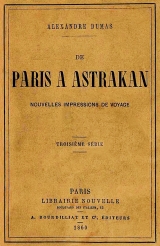
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 52 страниц)
Юный герцог прибыл в Санкт-Петербург 5 февраля 1742 года. А родился он 21 февраля 1728 года. И хотя ему не исполнилось еще и 14 лет, его тетя, Елизавета, поспешила найти ему жену. Ее выбор пал на принцессу Софи Анхальт-Цербстскую, отец которой, губернатор Штеттина, много потрудился, чтобы отдать свою дочь наследнику трона, хотя слишком слабо верилось в его права на престол.
Мы говорим Софи Анхальт-Цербстская, потому что та, кто стала потом Семирамидой Севера, как назвал ее Вольтер, сделалась Екатериной и прославилась под этим именем, приобщившись к греческой церкви.
Она родилась в Штеттине 2 мая 1729 года и, следовательно, была моложе будущего мужа на 8-9 месяцев. Свадьбу отпраздновали 1 сентября 1745 года. Супругу было 17, супруге ― 16 лет. Супруг был слаб и телом, и умом; воспитание его, порученное наемным лицам, было беспорядочным; у него был приплюснутый лоб, тусклый взгляд, и нижняя губа немного отвисала.
Страдал он и другим физическим недостатком, к которому мы обязаны будем, конечно, вернуться, как бы ни трудно было касаться подобной темы.
Екатерина, напротив, обладала прелестным умом, королевскими манерами, щедрой красотой, свежестью розы или персика, а также характером скрытным, отважным, решительным, рискованным, настойчивым и смягченным предельной милостью, вкрадчивостью, любезностью; у нее было все, как надо, не только для того, что бы завоевать авторитет у мужчин, но и чтобы его сохранить.
Свадьба состоялась, но не совершилась. Что этому воспрепятствовало? Та же немощь, о которой мы только что упомянули, и какая семь лет мешала Луи XVI реализовать свой брак с Марией-Антуанеттой. Петр III страдал тем, что на медицинском языке называют le frein ― узда, тормоз. Словом, брачные усилия молодого принца были бесполезны и безрезультатны.
С помощью очень быстрой и очень легкой операции можно было все привести в порядок. Но Петр III, который должен был умереть так мучительно, испугался боли и не пожелал пойти на то, что бы ее испытать.
Только при этом обнаружилось серьезное затруднение. В числе старых русских обычаев, сохраненных в России, был обычай посылать в шкатулке дедушкам и бабушкам доказательство девственности молодой супруги. Петр III или, скорее, Екатерина такого доказательства дать не могла, потому что ее, как невесты, не убыло в мире брака. Молодая женщина заявила, что, не желая попасть под подозрение, она открыто скажет о неспособности супруга.
Петр III застыдился этой немощи; он спросил, нет ли способа все это сгладить. Одна патрона предложила очень простой выход из положения: принести в жертву Эскулапу петуха, как водилось прежде, и его кровь выдать за доказательство, какое не смог добыть мужчина. Петр III на это пошел; хитрость перед Елизаветой увенчалась полным успехом; но ― первый удар ― великий князь попал в зависимость от своей жены. Она узнала его тайну. Только цель, которой задалась правящая императрица ― создать династию, была далека от того, чтобы считаться достигнутой; через девять лет супружества наследник все еще был без наследника. Факт отсутствия потомства сильно терзал добрую императрицу Елизавету, которая не была без детей, но, по правилам благопристойности, не могла объявить их наследниками Петра III. Она сетовала на это Екатерине, и та отвечала, что она «не видит здесь своей вины». Императрица потребовала объяснений, и так как она была особой больших мыслительных способностей, Екатерине не составило никакого труда оправдаться перед ней.
Она велела позвать врача молодого великого князя и предложила ему заняться знаменитым клиентом. Его хлопоты были бесполезны. Петр III или, вернее, молодой великий князь неколебимо оставался таким, каким был, и не испытывал никакой нужды перемениться ни на йоту. Однако великому князю полагалось потомство любой ценой. Ну и вот, как рассказывают, добрая императрица взялась за дело, чтобы с ним покончить.
У великого князя был фаворит Салтыков. Он был молод, хорошо сложен, смел, предприимчив и везучий, наконец. Казался очень влюбленным в великую княгиню. А это уже часть готовой работы. В высших сферах ему дали понять, что он мог бы выражать ей свое почтение, и это не было бы дурно расценено. В то время как он получал одобрение из уст императрицы, в чем уверяют, великий канцлер Бестужев получил задание настраивать великую княгиню на необходимость иметь ребенка. Великий канцлер ее просил, почему ― неизвестно, подумать о графе Салтыкове. Екатерина обладала живым умом, и все легко поняла.
– У меня еще не сложилось о нем определенного мнения, ― сказала она, ― но приведите его ко мне сегодня вечером.
Девять месяцев спустя чары бездетности разрушились, и 1 октября 1755 года великая княгиня родила сына, который при крещении получил имя Павел Петрович, то есть Павел сын Петра III. На худой конец, и Петр мог поверить, что Павел ― его сын. Каким образом? Об этом мы попытаемся сейчас вам рассказать. Мы говорим попытаемся, полагая, что подобный рассказ ― вы правильно понимаете, дорогие читатели ― не идет как по маслу.
Под страхом супружеского раздора, беременной великой княгине требовалось убедить молодого великого князя в его отцовстве. Еще и Салтыков взял на себя ту же миссию.
Петр предавался радостям жизни, за исключением любовных развлечений. Два-три раза в неделю давал ужины, и почти всегда ужин переходил в оргию. На один из таких ужинов привезли много женщин довольно легкого нрава, которые не испугались нисколько того, что могли им сказать и даже сделать с ними. Только, по обыкновению, великий князь должен был оставаться, зрителем. Его молодые приятели и, особенно, Салтыков, ввергли его в такой стыд за бездействие, что подталкиваемый ими, он согласился на новую встречу с хирургом. Когда согласие было дано, за мужество князя прозвучало такое количество тостов, что он свалился мертвецки пьяным: силы князя оказались скромнее его мужества. Салтыков, кто сохранил, если не трезвость, то немного соображения, привел хирурга, и операция была сделана на месте: князь ее почти не почувствовал. Через несколько дней он был довольно полно излечен, чтобы совершить вторую попытку стать на деле супругом великой княгини. Она удалась и потому была удачней первой, что затруднений не испытывала ни одна из сторон. Но отметьте странный характер великого князя: вместо того, чтобы ходить довольным, он раздосадовался и побежал плакаться императрице.
– Тогда что же, ― спросила она, ― что означает шкатулка, которую вы мне прислали девять лет назад, по нашему старому русскому обычаю, с доказательством вашего супружеского триумфа?
Петр молчал, он попал в свою собственную сеть. Он полностью отошел от великой княгини и взял в любовницы мадемуазель Воронцову, племянницу великого канцлера.
Беременность великой княгини развивалась своим чередом, несмотря на каприз великого князя, и, как мы сказали, 1 октября 1755 года родился князь, который позднее стал императором Павлом, о чьей смерти мы рассказали вам раньше, чем о рождении. По заведенному порядку о счастливом избавлении от бремени великой княгини были официально извещены другие державы. Графу Салтыкову, который в качестве фаворита великой княгини, кажется, принял самое живое участие в рождении этого известия, поручили довести его до сведения короля Швеции. Салтыков отбыл, не помышляя ни о чем другом, кроме поездки туда и обратно. Но когда он ехал назад, его внезапно остановил гонец. Салтыков получил назначение министром-резидентом в Гамбург и запрет возвращаться в столицу всея Руси. Нужно было повиноваться; Салтыков отправился к месту своего назначения. Великая княгиня просила, плакала, умоляла, но от нее получили то, что хотели получить, то есть наследника.
Какой резон был Екатерине возненавидеть своего сына? Может быть, некрасивая внешность ребенка, что трудно было постичь, потому что, какую сторону ни возьми, его породили два таких блестящих истока? Об этом ничего не известно, но что ведомо всем, мать стала проникаться злобой к великому князю с самого его детства.
Бытует и другая легенда о рождении Павла: будто бы он ― один из восьми-девяти детей императрицы Елизаветы, которого она заставила Екатерину усыновить; но эта версия маловероятна и поддерживается весьма слабо.
Итак, возвращаемся к одиночеству бедной великой княгини, разлученной с горячо любимым Салтыковым, и к тому, что из этого последовало.
Так как она с головой погрузилась в тоску, вмешался шевалье Вильямс ― посол Англии, человек смелого воображения и пленительный говорун, который, подойдя к ней, сказал:
– Мадам, кротость ― достоинство жертв: тайные интриги и затаенная злоба не достойны ни вашего ранга, ни вашего гения; большинство мужчин слабохарактерны, а решительные характеры всегда исполнены величия. Отбросив стеснение, вслух заявляя, что вы гордитесь своими добродетелями, показывая, наконец, что вас оскорбит все, что будет направлено против вас, вы начнете жить в соответствии со своими желаниями.
И он закончил эту торжественную речь, заявив великой княгине, что готов сегодня же представить ей молодого поляка по имени Станислав Понятовский.
Молодой поляк был близким другом сэра Вильямса, и, так как он был очень красив, то ходили толки, что в этой паре один другому ни в чем не уступал. Пока что Станислав ― таким было имя по крещению друга сэра Вильямса ― пока что Станислав исполнял обязанности секретаря посольства.
Он был представлен в тот же вечер. При этом посол использовал свои политические привилегии: ему не могли нанести оскорбления ― не пустить к двери великой княгини. На следующий день великая княгиня встретилась с прекрасным секретарем посольства у английского консула месье Уоронгтона, когда она приехала, переодевшись мужчиной. Сэр Вильямс охранял двух влюбленных.
Вы видите, что сэр Вильямс широко понимал свои обязанности посла и не пренебрегал случаем пополнить число, если не на сегодня, так, по меньшей мере, на будущее, друзей Англии.
Назавтра Станислав Понятовский уехал в Варшаву, а чтобы с ним, в свою очередь, не обошлись, как с Салтыковым, вернулся в Санкт-Петербург в звании министра Польши. С этого момента он стал неприкосновенным.
Возвращаемся к великому князю Петру; внимания великой княгине мы уделили больше, чем ему, за исключением его физического состояния. Это упущение мы сейчас наверстаем, постараемся показать, каким он был ― сначала, по своему наивысшему положению, потом ― по образованию и характеру.
* * *
Первым проектом было проникнуть ночью к нему, как сделали позже в отношении Павла I, и убить кинжалом, если он откажется подписать отречение от престола; если же он отречется по доброй воле, то спасет свою жизнь, по крайней мере, в тот момент. С ранней юности он был сувереном Гольштейна; но, соединив в себе кровь Карла XII и Петра I, он видел себя одновременно избранным парламентом в короли Швеции и, призванный царицей, наследником трона России. Избрав Россию, он уронил свою корону на голову собственного дяди.
Два века трудились, чтобы вознести человека на такую высоту, и воля случая или, скорее, тайна Провидения, готовившего России правление Екатерины, заключается в том, что они родили недостойного.
Что касается его характера, представляющего собой две такие противоположности, то это, несомненно, вытекало из полученного воспитания. Его воспитание было поручено двум гувернерам с высокими заслугами, но которые имели несчастье замесить своего ученика на тесте великого человека. И еще, когда речь зашла о переезде в Россию, где понимали, что против него и всей его породы Петр I был слишком великим, юного великого князя приняли из рук его первых наставников и передали в руки более пустых придворных Елизаветы. Отсюда тяга дышать великими делами, которые, тотчас сбивая дыхание, оборачивались мелкими актами и приземленными действиями. В стремлении достичь возвышенных сфер, его немощная натура позволяла ему присоединиться к героям, взятым за пример для себя, только в том, что было мелким, только в ребячестве. Поскольку Петр I прошел все армейские ступени, Петр III решил поступить так же; но вместо того, чтобы достичь звания генерал-аншефа, как его пращур, он остановился на звании капрала. Он питал страсть к упражнениям на прусский манер. Мы видели, что он занимал этим свои самые сладкие часы наедине с великой княгиней и, чтобы не заставлять роптать старые русские полки, хранившие верность традициям Петра I, в распоряжение великого князя поступили, кроме свинцовых солдат с деревянными пушками, с которыми он проводил маневры по вечерам, несчастные гольштейнские солдаты, сувереном которых он был. Его лицо, от природы, выглядело совсем смехотворным при наряде Фридриха II, кому он подражал сверх всякой меры. Его гетры, с которыми он никогда не расставался, даже ночью, хотя этого по праву требовала Екатерина, стаскивало с него столь необходимое елозанье на коленях; они вынуждали его вышагивать и сидеть так, словно он, как и его солдаты, был отлит из свинца, которые, после солдат из плоти, были его самой большой забавой. Громадная и странно надвинутая шляпа скрывала его маленькое скверное лицо с довольно живым выражением, которое иногда могло становиться злобным, как у обезьян, и могло почудиться, что он специально изучал обезьян, чтобы воспроизводить их самые капризные гримасы. Прибавьте ко всему этому распространенный слух о мужской немощи великого князя, слух о рождении Павла и открытом расположении к мадемуазель Воронцовой, чего невозможно было вычеркнуть из сознания народа, не посвященного в хирургические тайны, которые я поведал моим читателям.
В самом начале полагали, что такой мужчина должен был во всем подчиниться своей жене; она же оставила за ним полную свободу действий!
Закавыка: великий князь был ревнив.
Как-то ночью Понятовский попался в западню, которую для него устроил Петр со всем своим военным гением, каким обладал. Понятовский, министр Польши, воззвал к правам человека. Петр вместо того, чтобы повелеть его убить, как поступил бы явившийся суверен, или убить собственноручно, как поступил бы любой оскорбленный муж, отправил его в кордегардию, как поступил бы капрал, совершающий обход во главе ночного дозора. Затем срочно, от имени императрицы Елизаветы, отправил к любовнику курьера ― объявить, чтобы тот немедленно покинул Россию за то, что произошло. Но, пока курьер выполнял поручение, великая княгиня, в свою очередь, успела разыскать мужа и смело атаковала его вопросом о двусторонних правах в нормально построенной семье, потребовала от него оставить ей любовника, обещая, со своей стороны, не приставать к нему по поводу мадемуазель Воронцовой; и, так как военное хозяйство великого князя поглощало его доходы, предложила для мадемуазель Воронцовой содержание из своей, приватной, шкатулки.
Покладистая, дальше некуда; к тому же, подношением она растрогала великого князя. Он отдал приказ оставить двери кордегардии открытыми. Столького и не нужно было Понятовскому, который имел обыкновение проходить через приоткрытые двери. Он смылся и своим бегством констатировал первую победу Екатерины над своим мужем. Ловкая вообще, она воспользовалась своим успехом. В своем маленьком дворе, что уже начинал отделяться от двора великого князя, она приготовила все для отрешения от власти своего мужа, замещения его в империи сыном при своем регентстве над ним. Только, чтобы достичь этой цели, требовалось одно из двух: или подождать смерти императрицы, или ее решения ― лишить своего племянника будущей власти. Ждать смерти Елизаветы могло быть долгим, а второе ― трудным делом. Это был характер очень неуверенный и нерешительный ― характер императрицы Елизаветы. Однажды, когда Елизавета стала подписывать союзный договор с иностранным двором, она отказалась дописывать четыре последние буквы своего имени, потому что на перо села оса, в чем она усмотрела дурное предзнаменование. Тем не менее, маленький заговор находил свою дорогу, благодаря великому канцлеру Бестужеву, который был целиком на стороне великой княгини. Помнилось, что он первым шепнул ей на ухо пару слов о Салтыкове.
С головой погрузившись в заговор, его глава родила девочку, которая жила лишь пять месяцев.
К несчастью, придворная интрига свергла великого канцлера. Императрица завела нового любовника, расположенного к бедному Ивану Антоновичу, о ком мы уже говорили, и, следовательно, не принимающего комбинацию Екатерины. Императрица написала королю Польши, чтобы он отозвал своего министра Понятовского. Тот был отозван; сэр Вильямс перешел на сторону нового посольства, и все нагромождение проектов великой княгини рухнуло. Невезение усугубилось тем, что она в открытую поссорилась с мужем. Она попала в самую глухую атмосферу отчужденности. Ему приходило на ум ― удалить жену из облюбованной ею спальни и водворить в тюрьму. Был миг, когда она подумала, что все потеряно, и, не доверяясь своему разуму, отчаявшись в собственной участи, побежала броситься на колени перед императрицей, прося ее позволить ей вернуться к своей матери. Она пошла еще дальше: своему мужу, молодому великому князю, предоставила свободу выбрать другую женщину. Императрица уклонилась от ответа. Тогда Екатерина смирилась со своей судьбой; непроницаемо замкнулась в себе и так провела три последних года жизни императрицы Елизаветы. Наконец, 5 января 1752 года, месье Кейт ― восприемник сэра Вильямса написал своему правительству:
«Императрица Елизавета умерла сегодня в два часа после полудня. В прошлое воскресенье с нею случилась сильная геморрагия; с этого времени была потеряна надежда на то, что она выживет. Однако, хотя и слабо, она управляла своими чувствами. Вчера, поняв, что уходит, она послала за великим князем и великой княгиней, с глубокой нежностью простилась с ними и скончалась почти в полном сознании и смирении».
Со своей стороны, посол Франции ― месье де Бретей писал:
«Императрица, сознавая, что умирает, велела позвать великого князя и великую княгиню. Первому она посоветовала быть добрым к подданным и искать их любви; она умоляла его жить в добром согласии и союзе с женой и закончила тем, что во многом перенесла свою нежность на юного князя Павла, говоря отцу, что просит его, в знак самой осязаемой и бесспорной признательности ей, беречь ребенка».
Месье великий князь все это обещал.
То, о чем нам остается рассказать, мы могли бы озаглавить так: «Про обещание месье великого князя и о том, что из этого вышло».
* * *
Молодой великий князь поднялся на трон под именем Петра III. Ему только что исполнилось 34 года. Долгое время находясь под суровой опекой, он дал выход своей радости в полную силу. Он торжественно открыл свое правление знаменитым эдиктом, который даровал и который и сегодня дарует русской знати права свободных людей. Обнародование этого эдикта вызвало такой энтузиазм, что аристократия предложила поставить статую из чистого золота, чего еще не делалось, насколько мне помнится, ни для одного из суверенов. Правда, предложение осталось без последствий.
Едва оказавшись на троне, новый суверен отдал приказ отчеканить монету со своим изображением. Со стороны Петра III это нисколько не было проявлением самолюбия.
Художник, которому поручили эти хлопоты, представил образец императору. Это был гравер ― идеалист; во всем сохраняя некоторое сходство с чертами царя, он попытался сделать то, чего достичь было нелегко: немного их облагородить. Лавровая ветвь, которую должен был сорвать будущий победитель, уже венчала голову и охватывала волнистые волосы.
Петр III был реалистом. Отверг образец, сказав:
– Я был бы похож на короля Франции.
И, чтобы не походить на короля Франции, он пожелал быть воспроизведенным таким потешным, что не только весело, но еще и взрывом смеха встречали новые монеты.
В то же время ― это вызывало меньшую, хотя заслуживало большей веселости, и, может быть, даже потому, что заслуживало, ― он вернул домой всех сосланных в Сибирь. Тогда же вновь объявились трое, кто играл в государстве видную роль. Первым был Бирон в возрасте 75 лет. Его волосы побелели, но лицо страшного человека, который, девять лет находясь у власти, заставил умереть насильственной смертью 11 тысяч человеческих существ, и после казней, а отдельные из них, подобно казням Фалариса и Нерона, отличались тем, что их изобрел тот, кто их применял, его лицо, повторяем, оставалось суровым и жестоким. Со смертью его царствующей любовницы, он пытался наследовать ей и, чтобы принести искупительную жертву народной ненависти, велел расправиться с одним из своих главных агентов, с кляпом во рту, списывая на него все беззаконие девяти лет своей тирании. Колосс на глиняных ногах; первая же попытка свергнуть, предпринятая против него, его опрокинула[144]144
Мы расскажем об этом падении, касаясь жизни и смерти маленького Ивана. (Прим. А. Дюма.)
[Закрыть]. Три недели суверенной власти стоили ему 20 лет ссылки, и вот он возвращался стариком, готовым держать отчет перед богом за кровь, пролитую им в этом городе, где он правил с высот эшафота, и где каждый, кого бы он ни встретил, имел право спросить с него за жизнь отца, сына, брата или друга!
Вторым был Мюних, тот самый Мюних, кто его свергал, чтобы посадить на трон того бедного младенца Ивана в возрасте трех месяцев, который свое пребывание на троне, такое краткое, что это событие едва заметили современники, что оно едва успело запечатлеться в истории, оплатил 23 годами неволи, десятью годами идиотизма и ужасной смертью.
Повергнутый, в свою очередь, Мюних, помнится, спокойно поднялся на эшафот, где должен был быть четвертован и где был помилован тем же лицом, от которого ожидал принять смерть. Сосланный в Сибирь, заточенный в доме, затерянном среди непроходимых и гибельных болот, он выжил в отравленной атмосфере, как выжил на эшафоте, ввергая в дрожь из недр своей тюрьмы правителей соседних краев. Он вернулся в свои 82 года, великолепный старик с бородой и волосами, которых со дня ссылки, ни разу не касались бритва и ножницы. На въезде в Санкт-Петербург он увидел свое потомство в количестве 33 человек, и при виде его этот человек, из глаз которого самые страшные катастрофы не могли выдавить ни слезинки, залился слезами.
Императором владела странная, безумная идея ― сблизить один с другим два горных массива со снежными вершинами, Чимборазо и Гималаи, разделенные целой Атлантикой революций и преступлений. Он велел помирить двух этих титанов, которые боролись грудь против груди, как Геркулес и Антей. Он ― пигмей не выше их лодыжки ― пригласил их к себе, спросил три стакана и пожелал, чтобы они выпили не только с ним, но и друг с другом. И тут, когда каждый уже держал стакан в руке, пришли что-то шепнуть на ухо императору. Он пил, слушая, что ему шептали, и вышел, чтобы на это ответить. И тогда они оказались одни, лицом к лицу, с ненавистью всматривались друг в друга, презрительно улыбались и, поставив стаканы на стол нетронутыми, вышли в противоположные двери и на этот раз расстались, чтобы встретиться не раньше, чем у подножья престола Всевышнего.
Потом, после них, по очередному приказу и, главное, по заслугам, прибыл тот самый Лесток, тот хирург, кому императрица Елизавета была обязана троном, на котором восседала 21 год.
Мы уже рассказали его историю.
И все это возвращалось и, возвращаясь, все это наполняло двор Петра III непримиримыми врагами, помилованными и алчущими не только вернуться на родину, но и в свои имения: они тянулись рукой в прошлое, чтобы в сильном кораблекрушении ухватить обломки своей Фортуны. Тогда их вводили в огромные склады, где, по обычаям страны, хранилось все, что было конфисковано; и тогда каждый из них искал в этой благородной пыли растаявших царствований то, что ему принадлежало: осыпанные бриллиантами ордена, императорские табакерки, портреты суверенов, дорогую мебель, презенты, которыми когда-то цари купили их совесть, награды, в общем-то, за редкое проявление преданности, но непременно ― за многократно проявленную низость.
И среди этих живых обломков Петр III, по неосторожности, спотыкался. Он отправлял в сенат закон за законом, полностью смоделированные с законов Пруссии, которые еще сегодня называют Кодексом Фридриха. Каждый день он ранил свой народ, отдавая предпочтение чужестранным обычаям; каждый день чрезмерной муштрой он утомлял гвардейцев, этих хозяев трона, современных преторианцев, которые пришли на смену стрельцам, и которые при двух правлениях женщин, что предшествовали царствованию Петра III, привыкли к исправной и спокойной службе. Более того, император намеревался повести гвардейцев в Гольштейн, решив использовать их для мести за оскорбления, что его предки 200 лет принимали от Дании. Но больше всего вожделяло этого коронованного поклонника ― встретить на пути своего идола, смиренным обожателем приложиться к руке великого Фридриха, поставить под знамена этого ученого тактика 100-тысячную армию, с которой основатель государства преобразовал бы свою Пруссию, еще и сегодня так плохо скроенную, что, глянув на карту, не знаешь, как, выражаясь географическим языком, способен жить этот огромный змей, голова которого касается Тионвилля, хвост ― Мемеля, а брюшина выпирает бугром, потому что проглотил Саксонию. Правда, бугор довольно свежий, датируется 1815 годом.
Пока же время пролетало в праздниках и оргиях. Этот немощный, или около того, король окружал себя женщинами, которых похищал у мужей, чтобы осыпать их своими милостями. Со своими самыми красивыми подданными женского рода он запирал посла короля Пруссии ― в отношении женщин посол никак не разделял отвращения своего хозяина ― и, чтобы тому не мешали в наслаждениях, вставал часовым у двери спальни с обнаженной шпагой в руке, отвечая великому канцлеру, который приходил по работе:
– Вы отлично видите, что это невозможно, я ― на посту!
Пять месяцев протекли уже с восшествия на престол Петра III, и эти пять месяцев были одним долгим праздником, где придворные мужчины и женщины любого ранга ― Петр III утверждал, что женщины вне чинов ― упивались английским пивом и курили табак без того, чтобы император разрешал дамам возвращаться домой, к какому рангу они ни относились бы. И пиры продолжались до тех пор, пока разбитые усталостью, бодрствованием и удовольствиями, дамы не засыпали на софах в шуме разбивающихся бокалов и томных песен, угасающих, как и светильники, что бледнели и гасли при свете дня.
Но худшим во всем этом было то, что поминутно он устраивал парад своего презрения к русским. Ему уже было недостаточно свинцовых солдат и деревянных пушек, забавляться которыми ему позволяли, когда он был великим князем.
Мы сказали, каким образом он мучил солдат из костей и плоти с тех пор, как стал императором. Но это еще не все. Теперь, когда он получил медные, настоящие пушки, захотелось, чтобы бесконечный орудийный салют напоминал ему грохот войны. Однажды он отдал приказ о залпе ста орудий тяжелой артиллерии. Потребовалось, а это было трудным делом, склонить Петра III к отказу от подобной затеи, убеждать его, что от ожидаемой детонации ни один дом в городе не устоит. Не раз видывали, как он поднимается из-за стола и идет встать на колени перед портретом великого Фридриха, воздевая руки к небу и восклицая:
– Вдвоем, брат мой, мы завоюем мир!
Играя в карты со своими фаворитами, которые торговали его протекцией, двоих он поймал с поличным, заставил расстаться с деньгами, что они прикарманивали, нещадно их отколотил и в тот же день обедал с ними, чтобы им не показалось, что они утратили хотя бы частицу доверия к себе.
– Так, ― говорил он, ― поступал мой пращур Петр Великий.
Еще, правда или вымысел, но каждое утро рассказывали что-нибудь новенькое, что порождало слухи, взрыв, скандал. Среди прочего говорили, что император вызвал из Гамбурга графа Салтыкова, первого любовника Екатерины, будто бы отца юного великого князя Павла, и что уговорами и угрозами вынуждал его заявить отцовство. Тогда, добавляли, на основании сделанного заявления, он отрекся бы от того, кого выдавал ему за сына закон о наследовании короны. Его фаворитка, которую начинало заедать безмерное честолюбие, была бы возведена в ранг императрицы, а Екатерина его лишилась бы. В то же время расторгли бы браки молодые женщины при дворе, жалующиеся на мужей, и, утверждали, уже приказано было приготовить 12 постелей для дюжины свадеб.
Императрица, со своей стороны, за три года уединения и покоя заставила забыть в тишине, что ее окружала, скандал, связанный с ее первыми любовными похождениями. Она прикинулась набожной, что глубоко растрогало русский народ, вера которого ― впереди всего; она внушала любовь к себе солдат, беседуя с ними, расспрашивая командиров, позволяя служивым приложиться к ручке. Как-то вечером, когда она шла темной галереей, часовой, салютуя ей, взял на караул.
– Как ты меня узнал в ночи? ― спросила она.
– Матушка, ― ответил солдат в своей восточной манере, ― кто же тебя не узнал бы? Разве не освещаешь ты все вокруг там, где проходишь?
Обижаемая императором, принародно лишаемая милости, разведенная, если не юридически, то фактически, всякий раз, когда она появлялась, она говорила любому, кто соглашался выслушать, что она боится крайней жестокости своего супруга. Когда она показывалась в обществе, ее улыбка была печальной; тогда же, как бы непроизвольно, она роняла слезы, и, вызывая сострадание к себе, вооружалась для борьбы, готовилась защищаться. Ее тайные сторонники, а их у нее было много, говорили, что всякий день удивляются, находя ее еще вживе, они говорили о попытках отравления, пока проваливаемых старанием лиц, которые преданно служили императрице, о попытках, что, возобновляясь изо дня в день, могут, наконец, удаться. Эти слухи получили новое подтверждение, когда император перевел ближе к Санкт-Петербургу бедного Ивана ― пленника почти с рождения, и когда он посетил его в тюрьме. В самом деле, демарш выглядел многозначительным; признанный императрицей Анной в качестве ее наследника, незаконно и насильственно устраненный с трона Елизаветой, Иван был естественным наследником Петра, принимая во внимание очевидное, что прямого наследника у Петра не было. Легко, как моряк по некоторым порывам ветра на просторе и по определенным скоплениям туч в небе узнает приближение бури, так же легко было угадать, образно говоря, в колебании почвы под ногами, что одно из тех землетрясений, когда шатается трон и слетает коронованная голова, было неминуемо. Разговоры сводились лишь к жалобам, шепотку, робким вопросам, намекам; каждый, чувствуя, что такое положение вещей продолжаться не может, пытался прощупать своего соседа и узнать его мнение, чтобы поделиться с ним своими мыслями. Печальная императрица стала серьезной, и постепенно ее лицо вернуло себе то спокойствие, за которым сильные сердца скрывают свои намерения.