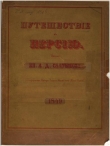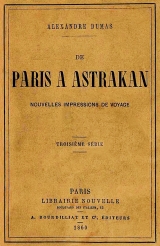
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 52 страниц)
Мы прибыли в Ропшу разбитые, усталые, подавленные; что касается лошадей, то ни один волос на них не был даже влажным. Милостивая судьба распорядилась так, что утром на вокзале в Петергофе мы встретили генерала ― графа Т… Он искал меня и, к великому моему удивлению, первым взял меня на абордаж. Это было старинное знакомство, о котором я позабыл. Он мне напомнил, что лет 25 назад мы обедали вместе с герцогом Фитц-Джеймсом, графом Орсельским и Орасом Верне у прекрасной мадам Россини. С минуты, когда он все хорошенько напомнил, я уже был далек от того, чтобы это забыть. С известной русской любезностью, в чем до настоящего времени мы никогда не испытывали недостатка, генерал предоставил себя в наше распоряжение.
Мы сказали ему, что едем в Ропшу. И он понял, зачем, понял, что мы хотим посмотреть замок.
– У вас есть билет? ― спросил он.
Билета не было. Я вырвал страницу из своего альбома, и несколько строк, подписанных графом, обеспечили нам потом должный прием управляющего замком.
Дорога на Ропшу ровная, как любая дорога Севера России, но довольно лесистая. Небольшая река, которая змеится как Меодра, и которую мы пересекли раз тридцать, изобилует превосходной форелью. Поэтому в Петербурге, когда официант предлагает вам форель, он не преминет заметить: «Форель из Ропши». У князя Барятинского был слуга, не упускающий случая это сказать. Перед привычкой, что у него укоренилась, пропадали 800 ― 900 лье, отделяющие Тифлис от Ропши, и он полагал, что обесчестит хозяина, если форель, подаваемая им у подножия Казбека, не будет объявлена под сакраментальным титулом: Форель из Ропши.
Между местами и событиями, что там совершились, всегда напрашиваются аналогии. Я представлял себе Ропшу старым и мрачным замком времен Владимира Великого или, по крайней мере, ― Бориса Годунова. Ничуть ни бывало, Ропша ― сооружение в стиле прошлого века, окруженное прелестным английским парком, затененное великолепными деревьями; есть большие проточные пруды, где держат сотни форелей для императорских застолий в Петербурге. А у замка разобрали кровлю, и целый полк рабочих покрывал его стены ― ни много ни мало ― персидской бумагой, какой покрыты стены шале де Монморанси. Это здесь, в одной или двух угловых комнатах в ночь с 19 на 20 июля произошла ужасная драма, о которой мы пытались рассказать.
Оранжереи замка в Ропше ― самые богатые в окрестностях Санкт-Петербурга; записка графа Т… произвела магический эффект. Садовники, хотя был риск, что их выведет из себя мое появление, пожелали угостить меня всем, что начало созревать, ― персиками, абрикосами, виноградом, ананасами, вишней; тепличные фрукты получились довольно естественными, и радушные люди предлагали эти плоды с такой настойчивостью и лаской, что невозможно было не рискнуть расстройством пищеварения, чтобы доставить им приятное. Сверх того, я унес букет, вдвое больший моей головы. И был далек от сомнения, что приехал в Ропшу за цветами.
* * *
На вилле Безбородко мы узнали интересную новость. Воспользовавшись моим отсутствием и отсутствием Муане, объявились духи. Хоум вновь обрел все свое могущество.
На петербургскую виллу я вернулся в восемь часов утра. В доме еще никто не поднимался. Бесшумно, на цыпочках, как ребенок в семье, вставший с постели, я прошел в свою комнату или, вернее, спальню.
Едва оказался там, как увидел входящего Миллелотти ― смятенного, бледного и трясущегося. Он бухнулся в кресло.
– Ah, mon ser monsou Doumas (искаженный фр.)! ― Ах, мой хилый [милый] монсу [месье] Дума [Дюма]! ― сказал он. ― Ах, мой хилый монсу Дума! Знали бы вы, что случилось!
– Э, что-то стряслось, маэстро? Во всяком случае, мне не кажется, что произошло нечто приятное для вас.
– Ах, монсу Дума! Моя бедная тетя, умершая девять месяцев назад, этой ночью вселилась в мой стол, и стол побежал за мной; стол целовал меня так, что на теле остались и кровоточат следы зубов.
– Какого черта вы мне это рассказываете? Спятили?
– Нет, я не эст сумасшедший; к Хоуму вернулось могущество.
Я радостно вскрикнул. Наконец-то, увижу кое-что из чудес знаменитого спирита.
А произошло вот что. Перевожу для вас на французский язык рассказ Миллелотти. Поверьте, дорогие читатели, в нем нет ничего моего.
Миллелотти и Хоум разместились на первом этаже, не в моем, а в другом крыле виллы, в двух комнатах, разделенных простой перегородкой с большой двустворчатой дверью посередине. Я всегда подозревал, что Хоум специально выбрал место подальше от меня. Он вслух обвинял меня в том, что его духи разбегаются.
Итак, минувшей ночью, около часа ― ждите дорогие читатели, чего-нибудь предельно жуткого ― когда ни Миллелотти, ни Хоум еще не спали, читая в своих постелях, каждый при зажженной свече, раздались три удара по перегородке между комнатами, потом еще три и еще. Любители чтения оторвали носы от печатных строк.
– Вы зовете меня, Миллелотти? ― спросил Хоум. ― Вам что-нибудь нужно?
– Отнюдь, ― ответил маэстро. ― Разве это не вы стучите?
– Я? Я в кровати, далеко от перегородки, у противоположной стены.
– Тогда кто же? ― спросил Миллелотти, уже побаиваясь.
– Духи, ― ответил Хоум.
– Как, духи! ― вскричал Миллелотти.
– Да, ― подтвердил Хоум. ― Ко мне вернулось могущество.
Он еще не окончил этих слов, как Миллелотти вскочил с постели, распахнул дверь и предстал перед Хоумом, будучи бледный сам как дух смерти.
– Посмотрим, ― сказал он Хоуму. ― Давайте без глупостей.
Хоум был в постели и внешне выглядел очень спокойным.
– Ничего не бойтесь, ― сказал он. ― А если боитесь, идите посидеть на моей кровати.
Миллелотти нашел, что будет лучше последовать совету Хоума. Ему показалось вполне возможным, что духи зауважают его, увидев благоразумно сидящим на постели их вызывателя. Сел он, значит, подле Хоума, а тот приподнялся на подушке, устремил взгляд на перегородку и сказал ласково, но твердо:
– Если действительно вы ― мои фамильные духи, и вернулись ко мне, ударьте три раза через равные промежутки.
Духи исполнили просьбу и ударили, отдельно ― четвертый раз, что воспринималось не вопросительным знаком в конце фразы, а знаком, приглашающим задавать вопросы. Хоум, который понимает язык духов, как месье Жюльан ― китайскую грамоту, не нуждался в размышлениях над тем, что они хотели сказать четвертым ударом.
– Вы явились ради меня или ради моего товарища? ― спросил он.
Духи ответили: ради Миллелотти.
– Как! Ради меня? ― вскричал маэстро, отмахиваясь рукой от духов, как отмахиваются от мух. ― Из-за меня! Какого черта им нужно от меня, вашим духам?
– Не взывайте к имени дьявола, Миллелотти; мои духи ― добрые римские католики, которым подобные восклицания крайне неприятны.
– А скажите, Хоум, ― произнес маэстро, ― не могли бы вы отослать обратно ваших духов?
– Я над ними не властен. Они появляются, когда им вздумается, и исчезают по собственному капризу. Впрочем, вы же слышали: они пришли не ко мне, а к вам.
– Но я, я их не звал! ― возмутился Миллелотти. ― У меня нет с ними никаких дел, я не спирит; пусть они убираются к дьяволу и оставят меня в покое.
Не успел маэстро закончить это неосторожное высказывание, как yдаpы духов в перегородку резонансом отозвались в стульях, креслах, столах; не заплясали только тазы для умывания и горшки с водой в этих тазах.
– Я же просил вас не поминать дьявола в присутствии моих духов, ― спокойно ответил Хоум. ― Как видите, это выводит их из себя.
И, правда, так и было; духи разразились доброй сотней ударов. Затем, положив руку, на маленький молитвенник с изображением креста на обложке:
– Если вы пришли от имени Всевышнего, ― сказал он, ― то успокойтесь и отвечайте на вопросы.
Духи утихомирились.
– Вы уже сказали, ― продолжал Хоум, ― что явились не ради меня, а ради Миллелотти.
– Да, ― стукнули духи.
Миллелотти весь задрожал.
– Миллелотти, ― снова заговорил Хоум, ― среди родных или друзей, которых вы потеряли, есть кто-нибудь, кто вас любил или кого вы любили особенно?
– Да, ― ответил маэстро, ― такой у меня была тетушка.
– Поинтересуйтесь у духов о ней, попросите их, чтобы душа вашей тетушки здесь присутствовала.
– Душа моей тетушки здесь? ― спросил маэстро дрожащим голосом.
– Да, ― стукнули духи.
Миллелотти затрясся сильнее.
– Задайте ей вопрос, ― подсказал Хоум.
– Какой?
– Я не хотел бы вам диктовать. Спросите у души вашей тетушки что-нибудь, о чем только она может знать.
Миллелотти, после некоторого колебания, спросил:
– Сколько времени тело, которому ты принадлежала, мертво?
– Выразитесь точнее.
– Не понимаю.
– Спросите день, месяц, год.
– Сколько месяцев прошло, как умерла моя тетушка?
Духи ударили девять раз. Маэстро почувствовал себя дурно. Ровно девять месяцев, день в день, покоилась бедная женщина в могиле.
– Во что из мебели предпочтительней, на ваш взгляд, вселиться душе вашей тети? ― спросил Хоум.
Миллелотти огляделся и выбрал круглый мраморный столик на одной трехпалой ножке, который стоял в углу.
– В этот одноногий столик, ― сказал он.
Столик пришел в движение.
– Я вижу, что он двигается! ― воскликнул Миллелотти.
– Конечно, только что в него вселилась душа, ― пояснил Хоум. ― Поговорите со столиком.
В знак согласия, стол в ожидании расспросов трижды приподнял один из своих когтей и трижды стукнул по паркету. Бедный Миллелотти был больше мертв, чем жив.
– Чего вы боитесь? ― спросил Хоум. ― Если ваша тетя любила вас так, как вы это подаете, то ее душа не может желать вам ничего плохого.
– Конечно, ― согласился маэстро, ― Моя тетя меня любит; по крайней мере, надеюсь на это.
– Вы сильно любили племянника? ― спросил Хоум у стола.
Стол снова трижды приподнял коготь и трижды стукнул по полу. Миллелотти онемел. Хоум продолжал говорить о нем.
– Если вы утверждаете, что любили племянника, то дайте ему доказательство вашей любви.
Стол скользнул, как по желобу, и подъехал прямо к Миллелотти. Увидев такое, тот закричал и вскочил на ноги. Но стол поехал не для того, чтобы прокатиться, а для того, чтобы поцеловать маэстро. Итак, он оторвался от пола, поднялся на высоту головы Миллелотти и своим мраморным краем, как губой, заледеневшей от могильного холода, коснулся губ молодого человека. Миллелотти навзничь упал на кровать Хоума; он был в обмороке.
Кто отнес его в спальню: духи, Хоум? Но неоспоримый факт, что он очнулся в своей постели: потный лоб и волосы дыбом от ужаса. К счастью, духи отбыли; маэстро не достало бы сил не упасть в обморок вторично. Он подумал, было, что все это приснилось, позвал Хоума, но Хоум подтвердил все, что помнилось; это было наяву; действительно, душа его тети покинула потусторонний мир и прибыла из Рима, чтобы его поцеловать. Тогда он встал и, зная, что я вернулся, прибежал ко мне, бледный, весь дрожа еще после этой ночной сцены.
Мы с Муане поспешили к Хоуму; ведь духи вернулись, и Хоум вновь обрел свое могущество; нам не терпелось совершить путешествие в фантастический мир, в котором Миллелотти провел всю ночь. Не тут-то было! Хоум опять утратил свое могущество: духи покинули и его, и маэстро, покинули все вокруг, в том числе удивительный стол, который оставил угол комнаты и стоял возле кровати, на том самом месте, где оторвался от пола и подарил бедному Миллелотти мраморный поцелуй.
Что во всем этом правда? То, что оба мужчины ― спокойный Хоум и возбужденный Миллелотти ― вместе смотрелись живописно.
Нам оставалось к рассказу Миллелотти, поддержанному созерцанием стола, присоединить обещание немедленно уведомить нас, если духи вернутся. Получить такое обещание было несложно, но с должника берут то, что можно. В свое время, и по месту мы расскажем, в каких обстоятельствах Хоум снова обретет свое могущество.
Ладога
Скоро шесть недель, как мы в Санкт-Петербурге; я широко злоупотребил королевским гостеприимством графа Кушелева; увидел почти все, что стоило увидеть в граде Петра, и решил отправиться на экскурсию в Финляндию. Но Финляндия огромна. По площади она равна двум третям территории Франции, и при населении 350 тысяч на 1 квадратный лье приходится в среднем всего 65 жителей.
Вряд ли стоит говорить, что подгоняемый мыслями об ужасной русской зиме, которая постоянно начинается и никогда не кончается, и опасаясь быть захваченным ее льдами на Волге, я рассчитывал посетить Финляндию лишь частично. Будет ли это Або, старая столица, или Гельсингфорс[150]150
Або и Гельсингфорс ― шведские названия финских городов Турку и Хельсинки.
[Закрыть], новая столица, или Торнио, город, что полагали самым близким к полюсу, пока не узнали, что Кола[151]151
Кола ― нынешний пригород Мурманска.
[Закрыть] в Архангельской губернии на три градуса ближе к нему и находится на 69-й параллели северной широты?
Я знал про Або и Гельсингфорс от моего друга Мармье, знал о менее известном Торнио от англичанина, который вторично отправился туда ― посмотреть полночное солнце; и потом, я очень люблю путешествовать, потому что наделен даром с легкостью видеть все иначе, чем другие, видеть то, чего не видит никто, а это ― опять-таки порука своеобразному восприятию мира. Итак, я решил дело в пользу Ладожского озера, в пользу маршрута через Шлиссельбург[152]152
Шлиссельбург ― русская крепость Орешек, захваченная шведами в 1611 году и переименованная в Нотебург; во время Северной войны 1700―1721 годов взята штурмом петровскими войсками и получила новое название; в 1944 году Шлиссельбург переименован в Петрокрепость.
[Закрыть], острова Коневец и Валаам, город Serdopol ― Сердополь [Сердоболь][153]153
Сердоболь ― Сортавала, город на северном побережье Ладожского озера.
[Закрыть].
Известна история Финляндии и финляндцев или, вернее, финнов; страны, между прочим, как и Восток, затерянной в туманной дали, что размывает ее очертания. Ее историю можно напомнить в двух словах.
Финны, по-латыни Fenni, ― попросту гунны, сбившиеся с пути. Как национальный тип, еще сегодня они до изумления повторяют портрет Аттилы, который был у нас в руках, портрет дикого пастора дикого стада. Изошедшие с великих плато северной Азии в начальные времена Римской империи, они жили на пространстве от Вислы и Карпат до Волги. Но, в свою очередь, теснимые готами, были наполовину покорены, наполовину отброшены в Северную Сарматию и Скандинавию. Теснимые все больше последовательными миграциями варваров из Азии, мало-помалу они были сжаты в этой части Европы, ограниченной с юга Балтикой, с запада ― Ботническим заливом, с севера ― Норвегией и с востока, наконец, ― пустынями, что простираются от озера Пиаро до Белого моря, которая, по их имени, получила название Финляндии. Говоря так, я выражаюсь по-книжному, то есть ошибаюсь. Трудно вывести Финляндию из Fenni или финнов. Зато очень легко усмотреть в Финляндии название, которым немцы первыми окрестили бескрайнее болото, что его обитатели больше по привычке, чем по убеждению принимают за землю. В самом деле, бросьте взгляд на географическую карту, и Финляндия покажется вам гигантской губкой; вода во всех порах, остальное ― грязь.
Теперь скажем, для чего эта губка понадобилась русскому императору, и какие превратности, если незавидной представляется ее территория тем, кто привык ступать по твердой земле, испытала Финляндия, чтобы оказаться в сегодняшнем положении.
Финляндия была совершенно неизвестна древним. К X ― XII векам там замечают неясное мельтешение племен чуди, узнавание их начинается лишь в XII веке с распространением христианства. Тремя сотнями лет позднее шведы и русские оспаривают друг у друга эту провинцию. Выборгский в 1609-м и Столбовский мир в 1617 году отдают ее Карлу IX и Густаву-Адольфу. Петр I забирает часть Карелии по Ништадтскому, Елизавета ― разные земли по Абовскому договору; наконец, Александр присоединил к России остаток Финляндии с восточной частью Ботнического залива по Фредерикшафенскому договору, подписанному в 1809 году.
Заметим попутно ― позже можем забыть, если не упомянуть об этом здесь, ― что в Торнио не только наблюдают солнце в полночь с 2З-го на 24 июня, но еще всякий день в году видят пирамиду, воздвигнутую в память исследований нашего соотечественника Мопертюи, которые он там провел в 17З6-м и 17З7 году, чтобы определить форму Земли. Между прочим, эта пирамида немного походит на ту, что была установлена русскими на месте Большого редута, чтобы увековечить победу, одержанную над нами в Бородино. Мы съездим взглянуть на поле этой битвы, где полегли, чтобы уснуть вечным сном, 53 тысячи человек!
Пардон, забыли еще про один монумент, не менее исторический, но возможно более живописный. Правда, он находится не в Финляндии, а в Швеции. В крае, откуда причудливой памяти Густав III, в свою очередь, двинулся в финляндскую экспедицию, буржуа Стокгольма ― буржуа всюду одинаковы! ― поставили его бронзовую статую. Король, который был довольно счастлив служить нашему собрату Скрибу героем одной из его опер-балетов, воссоздан скульптором в несомненном предвидении, что тот окончит свои дни в бальной зале: колено напряжено и нога в воздухе, как если бы он решился на танцевальное па аван-де. Он дарит своей столице только что завоеванную корону. Памятник, должно быть, еще был в Стокгольме, когда туда торжественно въехал гасконец Бернадотт как наследник Карла XIII, и буржуа, порадевшие для установки статуи Густава III, кричали: «Да здравствует Карл-Жан!» Во всяком случае, статуя там при сем присутствовала, но ничего не выкрикивала. Лишь бронза решительно не меняет своего мнения, пока ее не начинают плавить.
Бросьте еще раз взгляд на карту Финляндии. Только в этот раз остановите его не на суше, а на море. Вы увидите там столько островов, сколько видели озер; таким образом, трудно сказать, не воды ли то, что названо сушей, и не суша ли то, что названо водами, ― от Аландских островов до Або. Все крестьяне этого архипелага ― лодочники и рыбаки. И летом, и зимой сообщение между Швецией и Финляндией ведется через Гризель-Хамм и Або. В этом месте особо прошу задержать взгляд. В течение пяти месяцев в году перевозки довольно регулярны, за исключением времени штормов; в течение пяти месяцев зимы все идет как нельзя лучше, благодаря ледовому покрову; но в месяц осени, когда лед еще, как следует, не схватился, и в месяц весны, когда он тает, дорога становится очень опасной. В сезон открытого моря сервис представлен баркой. Море подо льдом ― санями. Но когда море вскрывается, передвигаются, как только могут. Тогда выходят в море на пирогах с полозьями; вначале скользят по льду 1-3 километра до края, где встречается морская вода; после похода при помощи багров, сани-пирога становятся пирогой-санями под парусом или на веслах. Порой поднимается ветер, и лодка сбивается с курса среди льдин, рискуя о них разбиться. Иногда и густой туман опускается сверху, ложится на волны, окутывает лодку и тайком расставляет опасность вокруг нее. Кроме финнов, то есть ― людей тюленьей породы, все моряки неминуемо растерялись бы среди тумана, сбитые с толку. Но отважные лодочники знают дорогу, которой следуют, и знают в нюансах грозящую им опасность. Им говорит о многом любой, пусть самый незначительный знак. Рассвет, открывающий день, и закат, возвещающий ночь, облако, птица и ветер подсказывают рулевому, чего опасаться и на что рассчитывать. Тогда он или окажется среди подводных камней, или будет сражаться со льдами, или вернется на берег.
Летом письма идут из Стокгольма в Або три дня; зимой ― как получится. Люди, поднимаясь на почтовое судно, зачастую исчезают на неделю и проводят ее между жизнью и смертью. Что вы хотите! Это ― тяжкое ярмо, надетое на край. За свой труд, за это жуткое ремесло человек получает 10 копеек в день ― чуть меньше 8 су. Ну, ладно, предложите отважным финнам другую землю, где солнце сияет, и цитрусы зреют, как поется в песне у Гете, они откажутся, настолько родная земля держит нас мягкими цепями, настолько родина, какой мачехой она ни была бы, для нас ― дорогая мать!
* * *
Надо думать, что такие люди, как эти, край которых мы только что изобразили, и жизнь которых описали, имеют свою мифологию и поэзию. Есть у них даже два вида поэзии.
Поэзия языческая, традиционная, туземная, если можно так выразиться, поэзия энергичная, стихийная, бьющая ключом из скальных недр, лежащая на глади озер и витающая в воздухе, исходящая, как есть, из верований и обычаев.
Другая поэзия ― иноземного происхождения, поэзия завоевания, поэзия цивилизации, украшение, принесенное завоевателями, очарование добрых духов, язык классиков и просветителей, шведская поэзия, наконец. Она не предлагает ничего оригинального, совсем не имеет своих характерных особенностей, преподается во всех академиях Европы.
Мы сейчас попытаемся дать представление о поэзии первородной. Мы отдаем предпочтение первой руне, которая для финнов ― почти то же самое, чем для нас является первая глава книги Бытия. Читатель и без того, чтобы его об этом просить, преодолеет, уверены, уже одоленную трудность, особенно тогда, когда скажем ему, что наш перевод ― в высшей степени, скрупулезно точен.
Эта руна, бесконечная и грандиозная, как вся первичная поэзия, ― только увертюра к большой эпической поэме из 32 pyн[155]155
«Эпическая поэма из 32 рун» ― Эпос «Калевала» состоит из 50 рун.
[Закрыть], древний или, вернее, античный герой которых ― Vainimoinen [Вяйнемяйнен]. Очевидно, это старинное слово означает почетный титул, так как поэт наделяет им героя еще до рождения, во чреве матери. Поэма, автора или возможных авторов которой из числа странствующих сказителей не знают, начинается, как видим, сотворением мира ― хотя спрашивается, как раскосый лапландец мог существовать до того, как мир был создан? ― и оканчивается рождением ребенка, получившего крещение; языческая эпопея имеет христианскую концовку.
Те, кто хотел бы прочесть целиком изящный и добротный перевод, могут обратиться к «Калевале» Леузон-Ледюка. Те, кто удовлетворен просто разбором эпоса, найдут это в России, Финляндии и Польше моего доброго друга Мармье. Так как полный перевод завел бы нас слишком далеко, ограничимся примером из него и анализом последней руны, на которой лежит отсвет наших священных книг.
Мария, такое же имя матери Христа ― Мария; чудесный ребенок девственницы растет в высоком жилище. Стихия финских премудростей разрешает поэтам никогда ничего не уточнять. Мария ― объект гордости всего окружающего. Пороговый брус гордится участью быть ласкаемым кромкой ее платья. Обе стойки дверного проема вздрагивают всякий раз, когда их приятно касаются развевающиеся кудри ее волос, и ревнивые мостовые жмутся одна к другой, чтобы по ним ступали ее милостивые башмачки.
Но прелестное и целомудренное дитя идет доить своих коров; каждая из них удостаивается ее ласки, и от каждой, за исключением полной одной, она непременно берет молоко.
Но прекрасное дитя, с любовью взращенное как цветок невинности, после доения коров, отправляется в церковь, и тогда в ее сани запрягают жеребца пурпурной масти.
Но Мария отказывается подняться в сани, запряженные жеребцом.
Приводят жеребую кобылицу, кобылицу каурой масти.
Но Мария отказывается подняться в сани, которые повезет жеребая кобылица.
Наконец приводят девственную кобылицу.
И Мария садится в сани, которые повезет девственная кобыла.
Как просматривается и будет видно дальше, эта руна соткана из мешанины языческих и христианских идей; очевидно, ее можно было бы датировать концом XII-го или началом XIII века, то есть временем триумфального шествия христианства по Финляндии.
Возобновим наш анализ.
Но прелестное дитя, которое неизменно с любовью растили как цветок целомудрия, было послано пасти стада. Пасти стада ― всегда дело трудное для девушки: трава таит змею, на дерне сидит ящерица.
Но ни одна змея не шевельнулась в траве, ни одна ящерица не забилась в дерн.
На холме крохотная ягодка покачивается на зеленом стебельке. Маленькая красная ягодка. Ягодка заговаривает с Марией.
– О, Дева, подойди! ― говорит ей она. ― Подойди и сорви меня; подойди, девица с оловянной пряжкой, подойди прежде, чем меня источил бы червь, подойди прежде, чем я узнаю ласку черной змеи.
Мария, прелестное дитя, подается вперед, чтобы сорвать призывающую ее красную ягодку; но она не может достать ее рукой, тянется на цыпочках. И тогда она срывает стебель… Нет, ошибаюсь: она вытаскивает кол из земли ― Мария не смогла бы причинить боль кусту, сорвать цветок, наступить на былинку ― сбивает красную ягодку, которая катится по земле.
Увидев красную ягодку на земле, она говорит:
– Поднимись, ягодка, поднимись на оборки моего платья. И ягодка поднимается на кайму платья Марии.
– Поднимись, ягодка, ― продолжает Мария, ― поднимись до моего пояса.
И ягодка поднимается до пояса Марии.
– Поднимись, ягодка, мне на грудь.
И ягодка поднимается к ней на грудь.
– Поднимись, ягодка, к моим губам.
Ягодка поднимается к ее губам; с ее губ она перекатывается на язык; затем она попадает в горло, а из горла ― в ее лоно.
Мария, прелестное дитя, была оплодотворена ягодкой и в течение девяти с половиной месяцев испытывала страдания и тревоги беременности. На десятом месяце Мариетта ― руна называет ее то Мариеттой, то Марией ― на десятом месяце Мариетта [Марьятта] почувствовала схватки, которые предшествуют и сопровождают рождение ребенка; тогда она задумалась над тем, что с ней будет и у кого попросить банный чан.
Она позвала свою девочку-служанку.
– Пильти, ― сказала ей она, ― беги в Сариолу и спроси банный чан, который успокоит мои боли и поможет в моих трудах при родах.
И маленькая служанка Пильти бежит в Сариолу.
Она заходит в дом Рюотаксена.
Рюотас, по Леузон-Ледюку, ни кто другой, как Ирод. Рюотас, в атласном одеянии, ест и пьет, восседая во главе стола. Рядом с ним жена, исполненная спеси. Она напоминает Иродиаду; только у нас Иродиада ― дочь, а не жена Ирода.
Маленькая Пильти обращается к Рюотаксену.
– Я пришла в Сариолу, ― говорит ему она, ― попросить банный чан, который мог бы смягчить схватки моей госпожи и облегчить ее труды при родах.
И тогда встревает жена Рюотаса:
– Кто такая просит банный чан? Кто такая нуждается в помощи?
Маленькая Пильти отвечает:
– Это моя госпожа Мария.
Но тогда жена Рюотаса, зная, что Мария не замужем, в свою очередь, говорит:
– Наш чан занят; но на высокой вершине горы Кито, в сосновом лесу, стоит дом, где рожают падшие девы, и откуда их плоды выносят в мир ветровые плоты.
Месье Леузон-Ледюк объясняет выражение ветровые плоты довольно невнятно: жена Рюотаса, по мнению переводчика, называет так равной высоты верхушки сосен, тесно прижатые ветром одна к другой, как плоты.
Пильти, вся застыдившись, возвращается тогда к несчастной Мариетте и говорит ей:
– Ни чана нет в деревне, ни бани нет в Сариоле.
И она рассказывает, что произошло между нею, Рюотасом и его женой.
Тогда Мария опускает голову и говорит:
– Нужно же, чтобы я уподобилась продажной девушке, платной рабыне!
И она бросается в сторону дома, построенного среди ветровых плотов. Она входит тогда в горный хлев и, приблизившись к девственной лошади, которая ее отвозила в церковь, говорит:
– Моя добрая лошадка, излей свое дыхание на мое лоно, потому что я страдаю. Раз нет банного чана, в котором мне отказывают, дай мне нежного пара, который облегчит мои муки и поможет в моих трудах при родах.
И добрая лошадка изливает свое дыхание на лоно девственницы, и нежный пар из зева животного становится для Марии теплой баней, священной волной, что нежно обливает ее тело. Тотчас чувствует Мария, как из ее лона истекает обильное тепло, и она производит на свет младенца, которого кладет в ясли, на высушенное летом сено. Затем она берет своего ребеночка на колени и дает ему грудь.
Прекрасный ребенок растет, но его происхождение остается неизвестным. Супругом его матери и матерью он был назван Хенори, то есть Королем неба, Ребенком желанным.
Как видите, до сих пор это, в некотором роде, лже-евангелие, одно из тех весьма наивных, что были осуждены церковью и, выброшенные за пределы религии, укрылись в небылицах; ясли там есть, сено там находится, вола и осла замещает непорочная кобылица. Можно подумать, что речь идет о Христе; но из следующих строк ясно, что Христос уже родился.
И вот ищут того, кто приобщит ребенка к царству Всевышнего; ищут, наконец, кто его окрестит. Находят священника и крестного отца. Священник молвит:
– Кто осмелится теперь предсказать судьбу этого бедного ребенка?
Тогда Вяйнемяйнен, который появляется в каждой руне, подходит и говорит:
– Пусть отнесут ребенка на болото, пусть переломают ему руки и ноги и пусть разобьют его голову молотом.
Но сын Марии, едва ли двух недель отроду, заговаривает и отвечает:
– Старик из дальних краев, Рюнайа из Карьялы[156]156
Карьяла или Карьяланселькя ― почти 200-километровая гряда высотой до 335 метров на востоке Финляндии, таежные заболоченные леса.
[Закрыть], ты произнес безумное решение, ты неправедно истолковал закон.
Конечно, финляндский закон осуждал на смерть внебрачных и незаконнорожденных детей, как еврейский закон осуждал их на гражданскую смерть. Заявляя право на жизнь, ребенок Мариетты защищает в то же время честь своей матери. И, продолжает руна, священник окрестил ребенка, и короновал его как короля леса, и отдал ему на попечение остров сокровищ.
Тогда старый Вяйнемяйнен, краснея от гнева и стыда, спел последнюю песню; затем он сделал себе бронзовую лодочку, барку с железным дном, и в этой барке уплыл далеко в величавые просторы ― до нижних пределов неба. Там его барка остановилась, там закончился ее путь; но он оставил на земле свою арфу и свои великие руны, которым быть вечной радостью Финляндии.
Двух отрывков из них, что мы только что привели, один в стихах и другой в прозе, будет достаточно, чтобы дать представление о поэтическом гении финляндцев ― народа одновременно нежного и сильного, который среди густых туманов Финляндии еще несет на себе отсвет своей первой родины ― Азии.
Теперь от поэзии переходим к литературе; эти две вещи не надо путать.
* * *
Мы поведали об античной поэзии, о финской романтической эпопее и хотим сказать, что, кроме этих великих устных традиций, сфокусированных в песнях Гомера и цикле романов Шарлеманя, есть другая литература.
Только она ― литература завоевателей, то есть шведская. И повторим, что, в самом деле, одно идет от поэзии, другое ― от литературы.
При этом стоит упомянуть: как почти всюду, литература берет верх над поэзией.
Три современных автора, Шоро [Choraus], Францен [Franzen] и Рюнеберг [Runeberg], ― все трое финны, но выпускники шведского университета в Або ― представляют эту литературу. Попытаемся сейчас показать гений этих поэтов; цитирую стихи каждого из них; легко заметить, что меланхолия сохранилась, а оригинальность исчезла.
Первое стихотворение принадлежит Шоро. Он был сыном бедного священника, в 16 лет остался сиротой. Родился в 1774-м в Кристианстаде, умер в 1806 году в Або. Ему было 32 года. Стихотворение озаглавлено «Дума о моей могиле». Оно ― современник «Листопада». Знал ли Шоро французского поэта. Возможно; но, более чем уверен, французский поэт не знал поэта финляндского. Вот это стихотворение. Вы убедитесь, что нет ни одного довода за то, что оно не идет от Гете, Байрона или Ламартина [приведен французский перевод 9 четверостиший]: