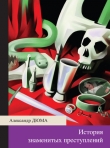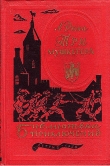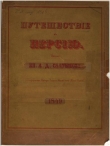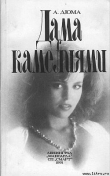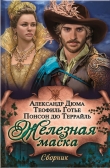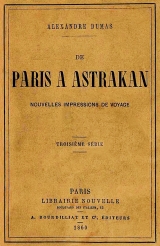
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 52 страниц)
Но чрезмерное процветание делает Шуйских неосторожными. Едва Ивану исполнилось 14 лет, его дяди, Глинские, сумели повидаться с ним, и в разгар одной охоты, они выскакивают из засады и, подбадриваемые молодым царем, набрасываются на Шуйского, хватают и бросают его псам, и те пожирают Шуйского живьем. В то время для юного великого князя, вместо рабства Шуйских настает безграничная свобода. Глинские твердят ему, что он может все, что земли, богатства, жизнь его подданных принадлежат ему. Они подталкивают его безрассудно карать и вознаграждать безмерно. Наконец, под их влиянием происходит полное разрушение моральных основ. Они учат издеваться над животными, чтобы подвести его к убийству людей. Они заставляют его сбрасывать с башен Кремля собак, кошек, коз. Они заставляют его через решетку клеток колоть копьем волков и медведей.
Однажды юный царь пробуждается от криков толпы и отсветов пожара. В 15-й или 20-й раз горит Москва. Глинские изрублены в куски; ему приносят эти куски на концах пик. Но среди воплей и пожаров, меж окровавленных пик и безобразных трофеев выходит к царствующему молодому человеку один из тех вдохновенных людей, которые в ту эпоху обходили Россию и, подобно еврейским пророкам, мусульманским дервишам, не колебались, чтобы обрушиться на самих князей. Тот человек выступает к Ивану IV и именем Всевышнего, с Евангелием в левой руке, воздев правую руку к небу, заявляет ему, что гнев божий вызван преступлениями князей; он перечисляет жертвы: отравленная регентша, заморенный голодом Тюленев, сожранный собаками Шуйский, изрубленные в куски Глинские, охваченная пламенем Москва; затем жертвы второго ранга ― бесчисленные бояре, которые перешли из нашего мира в мир иной с веревкой на шее или кинжалом в груди.
И, вырванные силой слова красноречивого монаха, блуждающим взорам юного Ивана являются призраки. В это время к нему вводят молодую прекрасную супругу; он подбегает к ней, прячет голову на ее груди и кается не ради покаяния, но обещает стать другим.
К отважному монаху, к целомудренной супруге присоединяется боярин, известный своим мужеством и преданностью. Все последующие 14 лет Россия благословляет три имени ― Сильвестр, Анастасия и Адашев. В течение этих 14 лет все успокаивается, все устраивается; армия приведена в порядок, созданы стрелецкие части; семь тысяч немцев образуют постоянную милицию; все воинские контингенты ― платные. Все землевладельцы, располагающие тремя сотнями фунтов посевного зерна, должны содержать по одному конному воину или компенсировать его содержание деньгами.
Великий князь становится во главе армии, берет Казань, завоевывает Астраханское царство и возводит крепости, которым держать в узде татар, тогда как 80 тысяч турецких войск, посланных Селимом II, уничтожаются в пустынных краях от Урала до Волги. Наконец, бандит Ермак завоевывает Сибирь, присоединяет ее к русской империи и выходит в великие люди.
Это о войне, теперь о мире.
Открыта типография. У Карла V запрошено 120 разных мастеровых; основан Архангельск; север империи получает первое окно, открытое в Европу; с основанием Санкт-Петербурга царь Петр откроет второе. И это еще не все: в ногу с военным делом и ремеслами шагает социальное развитие; начинается отмена верховенства знати; обуздана алчность духовенства в отношении земельных приобретений, священники наказаны за свои повадки, исчезают проявления языческого культа; законы пересмотрены, входят в новый свод, и два эти ангела добра, Адашев и Сильвестр заставляют бесплатно вершить правосудие силами старцев и знати городов и деревень. Вся слава 50-летнего правления Ивана заключена в этом [кратком] золотом веке России.
К несчастью, добрый гений Ивана IV возносится на небеса ― царица умирает. Иван впадает в мрачную меланхолию. Те, кому всегда претят мир, добро и справедливость, приникают к уху царя. Они внушают ему шепотком гнусное подозрение, что смерть его горячо любимой Анастасии не была естественной. Царь видел столько насильственной смерти, что легко верит этой лжи.
И это еще не все. Бояре, в чем его уверяют, вот-вот восстанут. Откуда знать ему положение России? Все 14 лет он видит лишь глаза своих министров. Откуда у великого князя такое отречение от своего «я» или, скорее, подобное ослепление? Он сам об этом заговаривает, сам это признает. Сильвестр и Адашев сумели подчинить его своему влиянию только с помощью магии и колдовства.
Наконец, никогда не появилась бы мысль о помешательстве, если бы не следующая деталь: в письме он ставит им в вину все благодеяния, славу которых Россия приписывает ему! Тюрьма вознаградила двух министров: Сильвестр был заточен в монастырь на Белом море, Адашев получил приказ не покидать Fillen ― Фили. Через два месяца после этих приказов Адашев расстался с жизнью.
Едва царица умерла, как Иван ударился в такие же оргии и убийства, какими было окружено его детство. Своей рукой он убивает кинжалом боярина Оболенского, который оскорбил Басманова ― одного из его любимцев; велит убить у подножья алтаря Репнина, который осмелился сделать ему замечания; он сослал вместе с семьей Воротынского ― победителя Казани; он приказал подвергнуть страшной скифской пытке le voévode ― воеводу Шереметева и, в промежутках для вопросов, сам допрашивает его:
– Что ты сделал со своими сокровищами?
– Я их отправил Иисусу Христу через руки бедных, ― отвечает Шереметев.
Начиная с этого времени, правление Ивана ― не более чем буйное помешательство, крайнее бешенство, в одном из припадков которого, а можно насчитать шесть таких обострений, он говорит русским:
– Я ваш бог, как Всевышний ― бог для меня.
И в самом деле, если божественная власть доказывается истреблением, то нет большего бога, чем Иван Грозный.
Каждый из бояр рюриковой крови, кто попадает в его руки, ― обезглавлен, отравлен, посажен на кол. Их жены и дети спасаются в лесах. Устраиваются облавы; за ними гонятся на конях, хватают, их забивают насмерть кнутом. Леса не оглашаются больше ни медвежьим рыком, ни волчьим воем. Их наполняют жалобные вздохи матерей и детский плач.
Иван бредит, что Новгород, подчиненный его дедом, возмутился против него. Он входит в город, не встречая сопротивления. Пронзает своим копьем всякого, кто встречается на пути. Всякого, кто не бежал, велит загонять в обширное, огороженное частоколом место, сделать длинные проруби во льду Волхова, сотнями выводит отловленных жителей на реку и травит их голодными медведями, собаками и волками; а так как ни на один, ни на другой берег их не пускают солдаты, то их или терзают кровожадные звери, или с жадностью поглощают бездны реки.
Потом, после месяца казней, когда погибли 20 тысяч безвинных, Иван уходит, всерьез говоря тем, кто остался в живых:
– Молитесь за меня!
Дальше он идет на Тверь, на Псков и там творит те же преступления, или, вернее, предается тому же безумию.
Москва узнает, что он собирается вернуться в ее стены, и Москва трепещет. В день его приезда, население города с ужасом наблюдает, как на улицах устраивают костры с котлами над ними и ставят виселицы на площадях.
Пять сотен человек из знати, принадлежащих к самым славным фамилиям, уже перемолотых пытками, повешены на виселицах и брошены в кипящие котлы. Многие избегают этой участи, потому что искромсаны в дороге ножами московитских низкопоклонников.
Гонения Мариуса и Силлы (Силия) касались только мужчин, гонения Ивана Васильевича распространяются на женщин и детей. Иван велит вешать жен в дверях, и, чтобы проходить, мужья должны отстранять трупы, и так до того дня, когда трупы сами обрываются с импровизированных виселиц, но будут мешать на пороге, как до этого мешали в проеме двери.
Что касается детей, то слугам приказывают прибивать их гвоздями к стулу и столу. Отцы и матери, когда садятся за стол, обречены видеть рядом с собой этих безмолвных и неподвижных сотрапезников. Согласитесь-ка: ни Фаларис, ни Калигула, ни Нерон не выдумали ничего подобного.
Когда на улицах слишком много трупов, то привлеченные миазмами, которыми насыщен воздух, голодные собаки и волки берут на себя труд чистить город.
Но так же, как адюльтера [супружеской измены] мало было римским императорам, и требовалось еще кровосмешение, так Ивану IV нужны изысканные способы убийства ― братоубийство, отце– и матереубийство. Он принуждает Rosorovsky ― Прозоровского убить своего брата, а Basmanoff ― Басманова убить своего отца; женится семь раз, насилует свою невестку и, подозревая в чем-то своего сына Ивана, убивает его ударом рогатины.
Тем временем вновь объявляются и походом идут на Москву татары; Швеция отбирает у него Эстонию, Этьенн [Стефан] Баторий ― Ливонию. Ивана охватывает страх, он спасается из Москвы и запирается в Александровской [Александровской Слободе], где становится монахом с тремя сотнями тех, кто лучше других помогал ему в экзекуциях.
Но народы устроены так: они не могут обходиться без тиранов.
Кто же отныне сумеет их защитить, если с ними нет больше хороброго великого князя? Почему он от них бежит? Почему он их боится? Разве нет у него незыблемого права на их жизнь и смерть? Пусть же возвращается он и карает их по своей прихоти.
Государство не может жить без хозяина. Иван ― их законный суверен. Если его больше нет рядом, кто сохранит чистоту веры, кто спасет миллионы душ от вечного проклятия?
Эта мольба помогает Ивану, и он возвращается. Но никто больше его не узнает.
«Один месяц только, ― говорит русский историк, ― прошел со времени отъезда Ивана, но его высокая и крепкая фигура, его крутая грудь, его широкие плечи ― все осело; его густоволосая голова оплешивела; редкие, рассеянные остатки бороды, что прежде обрамляла лицо, теперь его уродуют; его глаза потухли, а его черты искажены, и в них сквозит звериная жестокость».
Это означает, что, наконец, он близок к смерти, но это не мешает ему приказывать обезглавить князя Шуйского-Горбатого с его сыном Петром. Царский слуга Федоров обвинен в намерении свергнуть царя с трона: Иван приказал ему сесть на свой трон и на троне заколол его кинжалом; он велит посадить в раскаленную докрасна печь князя Tchenateff ― Ченатева; он велит топором разрубить на куски казначея Тютина и его четырех детей; он заставляет сжечь живьем князя Воротынского и сам раздувает угли. Опальный Голохвастов надел монашеский наряд, чтобы избежать ссылки; он сажает его на бочку с порохом и заставляет прыгать со словами: «Отшельники это ― ангелы, которые должны взлететь на небо». Он окатывает горячим супом своего шута, и, так как тот не смеется от удовольствия, убивает его ударом ножа; он отсекает ухо воеводе Титову, который благодарит царя за то, что оставил ему второе.
В 1584 году появляется комета. Вестник его смерти. Он приглашает чародеев и астрологов, дает им дом в Москве, назначает им содержание и каждый день отправляет своего фаворита Бельского беседовать с ними. Потом, когда астрологи предсказали его конец, установили его последний день, он поднимается на площадку своего знаменитого собора Vasili Blagenno; ― «Василий Блаженный», принародно приносит там повинную, смиренно просит самых кротких молитв, пишет завещание, назначает преемником на престоле своего сына Федора ― помнится, что Ивана он убил, а его другой сын Дмитрий, которого убьет Борис Годунов, и могилу которого мы увидим в Угличе, еще в колыбели. Он договаривается с богом о хороших условиях для себя на небе. Чувствуя себя лучше в тот день, на который астрологи указали как на день его смерти, он велит объявить им, что умрут они, а не он. Он готовится сыграть партию в шахматы со своим фаворитом Бельским, вскрикивает, коснувшись первой пешки, поднимается, чтобы, пятясь, упасть на ложе и испускает дух.
В Эрмитаже демонстрируется автограф Николая, датированный 17-м марта 1808 года и содержащий следующие несколько строк:
«Царь Иван Васильевич IV был суров и вспыльчив, что дало повод назвать его Грозным. Вместе с этим он был справедливым, храбрым, щедрым в наградах и, особенно, способствовал счастью и развитию страны.
Николай».
Молодому царевичу было 12 лет, когда он высказал это мнение об Иване IV.
* * *
В течение первых двух недель моего пребывания в Москве великолепная четверка Нарышкина была сильно загружена, что делать!
Я посетил Царицыно, развалины одного дворца, который никогда не был достроен, и в который Екатерина отказалась ступить ногой, потому что, как сказала она, вытянутый корпус с 6-ю башнями по бокам имеет вид могилы между 6-ю свечами. Я посетил Коломенское, деревенский дворец, что хранит память о ранней поре детства Петра; увидел башню соколов и кречетов, на растерзание которым он шел отдать себя, и четыре дуба, под которые он приходил заниматься со своим учителем-дьяконом Зотовым. Посетил Измайлово, где он нашел этот маленький баркас, благодаря которому получил первые уроки навигации под руководством учителя Брандта. Побывал на Воробьевой горе, откуда открывается панорама Москвы. Посмотрел монастыри, церкви, музеи, кладбища, и каждый камень, каждый исторический крест получил от меня воздаяние должного или молитву. Наконец, когда московские археологи опрошены, и ничего не осталось для осмотра, решился ехать к полю знаменитой битвы, обозначенной разными названиями в Европе: Бородино, Москва-река.
Спасибо Нарышкину, распространил заботу и на то время, когда нас не будет рядом с ним. Он велел приготовить для поездки отличный экипаж и дал своего доверенного человека Дидье Деланжа, нашего компатриота, довольно хорошо говорящего по-русски, чтобы служить переводчиком, и способного с помощью подорожной оградить нас от всех напастей на почтовых станциях.
Мы условились, по возвращении в Москву, уже всем вместе поехать осмотреть монастырь Троицы [Свято-Троицкую Сергиеву Лавру], а из Троицы добраться до земельного владения Нарышкина под названием Елпатьево, где 25 августа открыть охоту. Затем я продолжил бы путь в Астрахань через Нижний Новгород, Казань и Саратов.
Мы отправились [в Бородино] 7 августа.
Выезжая из Москвы, пересекли большое Ходынское поле, которое служит лошадиным бегам и парадам, и оказались в пригороде ― Дорогомилове. Здесь Наполеон остановился, прежде чем отправиться устраиваться в Кремле, нашел временный приют в большом постоялом дворе, что находится справа, при въезде, и который, выезжая, мы обнаружили, следовательно, слева. Это сюда, видя город оставленным губернатором, брошенным на разграбление, и не зная, что он обречен на сожжение, пришли несколько московских горожан и купцов, воззвать к милосердию победителя. Генерал Гурго проводил их к Наполеону.
Так как этот постоялый двор построен из камня и на окраине пригорода, он сохранился после пожара, и его показывают иностранцам, как место остановки Наполеона.
Направо от дороги, перед Поклонной горой ― названной так, потому что с ее вершины паломникам открывается вид на Москву, святой город, и они кланяются ему ― стоит изба, где генерал Кутузов держал военный совет, на котором решили оставить Москву. На Поклонной горе остановилась вся французская армия, водрузила киверы на штыки, меховые гусарские шапки ― на сабли и скандировала:
– Moscou! Moscou! ― Москва! Москва!
Под крики Наполеон выдвинулся галопом вперед и как простой паломник приветствовал святой город.
В самом деле, с этой высоты и с этого расстояния Москва являет чудесный вид: сказать бы, город, но вернее ― восточную провинцию.
Это было 14 сентября 1812 года.
«14 сентября, ― говорит русский историк нашей кампании 1812 года месье де Бутурлин, ― день вечного траура для сердец воистину русских, армия свернула лагерь в Фили в три часа утра и прошла через Дорогомиловскую заставу в город, который она пересекла по наиболее вытянутому поперечнику. Москва представляла вид самый скорбный; марш русской армии имел скорее вид похоронной процессии, чем военного марша; офицеры и солдаты плакали от бешенства и безысходности».
Мы тоже остановились на Поклонной горе; только обратили будущее лицом к прошлому, несущее траур великого разгрома, тогда как армия и Наполеон шли к нему из прошлого, полные радости, надежды и спеси. Затем возобновили путь и проехали вскоре деревню Veslaina [?], которая принадлежала Борису Годунову; церковь и ее странная башенка построены по его чертежам. Проехали Нару с ее небольшим озером, дарованную Алексеем Михайловичем в 1654 году звенигородскому монастырю св. Саввы. Столбы, увенчанные орлами, указывают, что она принадлежит короне. После ― Кубинскую; отара овец входила туда одна, без пастухов; она принадлежала всей деревне, и каждый баран сам отыскивал свою овчарню. Такое же поведение стада коров я наблюдал в Москве; это вынудило меня сказать, что Москва не город, а большая деревня. Вы можете представить себе самостоятельное стадо коров, возвращающееся в Лондон или Париж?
Вечером мы были в Можайске. Там нас заставили три часа ждать лошадей. Это дало нам возможность подняться на возвышенность, где ― руины старого кремля, и войти в церковь св. Николая-чудотворца. Святой представлен держащим храм в одной руке и меч в другой.
Проходя через Можайск, Наполеон приказал пощадить церковь. Он остановился на следующий день после битвы на Москве-реке в маленькой деревне, в полулье от Можайска, и 9-го утром ему потребовалась довольно жаркая битва, чтобы взять город. Когда император туда вошел, улицы еще были завалены мертвыми и ранеными русскими.
«Их товарищи, ― говорит Ларри в «Воспоминаниях», ― бросили своих без какой-либо помощи. Трупы несчастных лежали среди живых».
Весьма удивительно видеть Ларри поражающимся этому зрелищу, которое должно было часто представать его взору.
Император остается в Можайске с 9-го по 12-е. Он облюбовал под жилье или, скорее, каптенармусы-писари выбрали для него большой недостроенный дом без дверей, но с закрытыми окнами. Туда привозят несколько печей, так как ночи уже холодные. Император занимает весь второй этаж.
Это большой белый дом на площади, к которому с двух сторон ведут ступени. Наполеон желает возобновить там кабинетные работы, прерванные пять дней назад, но три последние ночи привели его к такой потере голоса, что он не может говорить. Он вынужден писать; семь секретарей, в том числе граф Дарю, принц Нешательский, Маннваль и Фен, пытаются дешифровать его недешифруемый почерк. Это там он составляет бюллетень битвы, пишет императрице и создает циркуляр епископам, чтобы всей империей пели Te Deum ― «Тебе, Господи». То, что особенно удерживает Наполеона в Можайске, так это страх остаться без боеприпасов. С одной нашей стороны сделана 91 тысяча пушечных выстрелов. Лишь заверенный докладом генерала Ла Рибуассьера, что 800 артиллерийских повозок только что прибыли из Смоленска, император покидает Можайск.
Только в три часа утра мы добываем лошадей и продолжаем нашу дорогу. На рассвете оставили позади Ферапонтов [он же Лужецкий] монастырь, который был превращен французами в госпиталь и снабжен бойницами. Затем ― деревню Горки, принадлежащую короне, бывшую во время Бородинской битвы штабом главнокомандующего ― генерала Кутузова. Между Горками и Бородино пересекли Колочу [или Колочь, речку] ― один из пяти ручьев, которые бороздят поле сражения, и все пять кажутся предопределяющими место, где протекают, для фатального исхода людских судеб. В самом деле, вот названия этих пяти речушек, которые никто не догадался перечислить до меня: Колоча (Битва), Огник, Стонец, Война [приток Колочи], Сетоква (Стенания).
За Бородино повернули направо и явились просить гостеприимства, к тому же предложенное, в Романцево.
В один из вечеров в Петровском парке я сказал в присутствии молодого офицера, прапорщика Измайловского полка Жоринова, что намерен совершить паломничество на поле брани на Москве-реке.
Он тут же написал одному из друзей, гвардейскому полковнику Аршеневскому, который живет в прелестном доме в трех верстах от места сражения, чтобы посвятить его в мой замысел. Восемь дней спустя я получил письмо месье Аршеневского, предоставляющего свой загородный дом и экипаж в наше распоряжение. Мы согласились и прибыли. Нас приняли тем радушнее, что не верили в мою поездку в Бородино, полагая ее для нас ничего не значащей. Импровизировали обед и выделили домик для ночлега.
Наутро мы поехали в экипаже полковника. Кроме того, слуга держал взнузданными двух лошадей на случай посещения мест, куда не попасть в экипаже.
Я попросил полковника приказать кучеру сделать поворот и подъехать к полю сражения той дорогой, какой пришла французская армия, чтобы увидеть равнину в том же аспекте. Кучер доставил нас чуть ли не к Колоцкому монастырю.
С колокольни этого монастыря, как только русские были выбиты из него нашими солдатами, Наполеон изучает местность и будущее поле битвы. День 5-го проводят, чтобы взять Шевардинский редут, что возвышается на крайнем слева [справа] круглом холме. Несмотря на ожесточение русских, которые трижды атакуют, опорный пункт из наших рук не перешел к ним.
Между этим крайним справа от нас редутом и большой дорогой, крайней слева, сосредоточилась вся наша армия. Палатка Наполеона находилась по другую сторону дороги, перед деревней Балуево. Это место стало памятным, и никогда плуг, взрыхляя поле, не проходил поверх него. Итак, оно и сегодня еще такое, каким его топтали ноги побеждающего.
Вечером разведчики кавалерии генерала Орнано напоили своих коней в реке.
– Как называется эта река? ― спросили они.
– Москва.
– Отлично! Битва, которая вот-вот грянет, назовется сражением на Москве-реке.
– Пусть, ― сказал, в свою очередь, император, ― не надо спорить с этими храбрецами.
На рассвете следующего дня император надевает свой серый редингот, садится на коня, узнает русские аванпосты и скачет по всей линии, переговариваясь с командирами, приветствуя солдат.
Генерал Пажоль сказал мне однажды, что, пересекая свой бивак тем самым утром, Наполеон напевал забытый, может быть, слишком надолго мотив:
«Победа, с песней мы одолеваем препятствие».
Вернувшись с проделанной инспекции, он находит у порога своей палатки префекта дворца месье де Буссе, прибывшего из Сен-Клу и полковника Фабвье, прибывшего из глубины Испании. Месье де Буссе подает письма императрицы и портрет римского короля. Полковник Фабвье сообщает новость о проигранном Арапийском сражении[200]200
Арапийское сражение ― 22 июля 1812 года в сражении при Арапилах, близ испанского города Саламанки, наполеоновские оккупационные войска, которыми командовал герцог Рагузский, маршал Огюст Фредерик Луи Вьесс де Мармон, были разгромлены англо-португальской армией под командованием Веллингтона; французы потеряли 12,5 тысячи человек, в том числе ― 6 тысяч пленными, 9 орудий и 2 полковых знамени; маршал Мармон получил тяжелые ранения в поясницу, бок и руку, в конце сражения он передал командование своими разбитыми войсками генералу Клозелю.
[Закрыть]. Наполеон пытается забыть второе послание и целиком сосредоточивается на первом: выставляет портрет римского короля на пригорке возле палатки, чтобы все могли видеть ребенка как наследное потомство, за которое сейчас пойдут сражаться.
Сидя на том самом месте, где был выставлен портрет, я пишу, а Mуaнe делает наброски поля. Нет ничего легче, чем представить себе его. За исключением нескольких всхолмлений, равнина спокойная.
Три из этих всхолмлений у русской армии, два ― у нас. На одном из них, перед палаткой императора, сильная орудийная батарея. На другом, противоположном краю ― редут, накануне взятый генералом Компаном. Между этими пунктами почти лье; разрыв ― покатый склон, покрытый густым кустарником и кое-где деревьями. Утром 7 сентября 120 тысяч человек, то есть вся французская армия стояла, таким образом, между этими двумя пунктами.
Левый фланг простирается до деревни Беззубово; командует вице-король Эжен; он будет держаться твердо, и в его распоряжение дадут такие силы, чтобы он не мог быть опрокинут.
В центре, между большой Московской дорогой, что лежит у наших ног и плавно загибает к левому флангу русских, очерчивая поле сражения, ― принц Экмюльский и Ней, который к титулу герцога Эльшенжанского в этот самый день прибавит титул принца Московецкого [Москворецкого]. Так как здесь будет сильная схватка, их поддержат три корпуса кавалерии короля Неаполя под командованием де Монбрена, де Латур-Мобура и де Нансути. Кроме того, здесь ― император со всей своей армией.
На правом фланге будут маневрировать Понятовский и Мюрат. Они опираются на Шевардинский редут, занятый накануне.
Кутузов, который в этот момент велел нести в ряды русской армии святой образ, вывезенный из Смоленска, ― знаменитую икону, торжественной процессией препровожденную из Москвы до места, где сегодня находится Новодевичий монастырь, защитил свой правый фланг Колочинским оврагом и батареями, установленными на высотах деревни Горки.
Его центр занимает второе всхолмление в самом лагере; на этой возвышенности, позади которой чернеет небольшой еловый лес, он построил укрепление, ставшее таким знаменитым под названием большой редут.
Наконец, его левый фланг упирается в деревню Семеновское, которая, как и Горки в противоположной стороне, возвышается над большим оврагом.
Сохрани Наполеон верность Маренго и имей дело в Меласе, вот что он сделал бы. Рискнул бы пойти на маневр, который перенес бы сражение полностью на другое поле. При опасности поставить под удар левый, перевел бы все свои силы на правый край, и в этом маневре параллельная русской линия наших войск с опорой на запад, как было, повернулась бы к северу. Вынужденная реагировать на поворот, параллельная нашей линия русских войск, вытягиваясь с запада на восток, повернулась бы фронтом на юг. Тогда наше правое крыло в коротком фланговом ударе, нанесенном с упреждением противника, выдвинулось бы на Московскую дорогу, которую захватили бы Понятовский и Мюрат. Русская армия, отрезанная от столицы, была бы загнана в огромный контур, очерченный Москвой-рекой, и сброшена в реку.
Но он имеет дело с Кутузовым [1745 ― 1813], со старцем 82-х лет, который, полностью заместив Барклая де Толли, сумел унаследовать его систему выжидания. Он откажется от такого маневра, достаточного, чтобы внушить довольно страха русскому главнокомандующему и вынудить его уклониться от долгожданного сражения. Он будет атаковать по принципу торо (как бык) и прошибет центр, рискуя оставить 10 тысяч человек во рвах большого редута.
Русский историк, которого уже цитировали выше, сейчас докажет, что опасение императора не было лишено основания:
«Слишком выраженные преимущества правого фланга французской армии вынудили бы русских к поспешному отступлению под страхом видеть свою армию сброшенной в Москву-реку вне какой-либо коммуникации с Москвой и провинциями Юга. Зависело лишь от Наполеона вынудить русских эвакуировать без боя свои позиции. Для этого нужно было только совершить маневр направо, угрожая коммуникациям с Можайском; но эти маневры заставили бы продолжать войну».
Таким образом, план императора был хорош с момента, когда он захотел сражения.
В течение ночи генерал Пуатвен навел четыре моста через Колочу, чтобы, по надобности боя, принц Эжен мог быстро пройти на другой берег.
Ночью всегда размещают батареи; кроме батарей в Беззубово, подготовили две позиции перед фронтом принца Экмюльского, и генерал Сорбье устанавливает на каждой из них по 60 орудий гвардейского резерва. Еще генерал Пернетти организует подвижную батарею из 30 стволов в роли авангарда при передвижениях принца Экмюльского. Наконец, генерал Фуше, командующий артиллерией маршала Нея, впереди линии войск наводит 60 орудий на центр русских, то есть на большой редут.
Императору не до сна. Он отдает последние приказы. С первым лучом зари он велит позвать адъютанта полевой службы, которого нашли завернувшимся в манто и прижавшего к губам портрет молодой жены. Он быстро спрятал портрет на груди и отдал себя в распоряжение императора. Это один из тех, кто останется на большом редуте.
В пять часов утра открываются завесы палатки Наполеона; его ждут офицеры, которых он велел позвать. Ледяной воздух ночи прохватил его, и слегка охрипшим голосом он говорит:
– Господа, это утро немного холодное, но вот хорошее солнце ― солнце Аустерлица.
Затем он садится в седло и галопом скачет на свой правый край в сопровождении всей своей гвардии; в полях бьют барабаны, армия берется за оружие, полковники ― перед полками, и капитаны громко читают своим солдатам следующее обращение:
«Солдаты!
Вот битва, которой вы так хотели; отныне победа зависит от вас. Она необходима: даст нам изобилие, хорошие квартиры, скорое возвращение на родину; ведите себя, как при Аустерлице, Фридланде, Витебске и Смоленске, и пусть самые далекие потомки с гордостью говорят о вашем поведении в этот день; пусть скажут: «Он был в великой битве на равнинах Москвы».
До русских, возможно, доносятся «ура», бой барабанов и звуки фанфар, которые по всей линии сопровождают проезд императора. Он направляется разместиться у подножия склона Шевардинского редута, откуда русская линия ясно предстает его взору, от левого, у Семеновского, до правого края в Горках.
В 6.30 пришел в движение Понятовский, чтобы атаковать левый фланг русской линии. В 7.00 раздались первые пушечные выстрелы. Это принц Эжен зажег огонь страшного дня, когда только с нашей стороны сделают, о чем мы сказали, 91 тысячу пушечных выстрелов, у русских 600 огненных жерл; сколько выстрелов сделают они?
Я, может быть, не стал бы бросаться в рассказ об этой ужасной битве, какой не было со времени сражения у Гераклеи [Южная Италия, 280 год до н.э.], которое заставило Пирра, этого Наполеона Эпирского, сказать: «Еще одна такая победа, и мы пропали» [сказано годом позже, после разгрома римлян при г. Аускулуме].
Но если однажды другой паломник из Франции придет, как я, осмотреть это огромное кладбище с моей книгой в руке, то ему посчастливится найти здесь все детали ужасного дня, собранные для книги не в бюллетенях, газетах, у историков, а там, где трепетала одна из последних надежд на последнюю славу Франции.
* * *
«Дни, которые предшествовали великому сражению, ― говорит генерал Гурго, ― Наполеон постоянно проводил в седле, чтобы оценить позицию и силу неприятеля, изучить поле боя, объехать свои армейские биваки. Той же ночью он осмотрел линию фронта, дабы еще раз прикинуть силы противника по количеству костров, и за несколько часов он утомил немало лошадей.
В день битвы он поместил свою ставку в центральной точке, откуда мог видеть все происходящее. Он держал возле себя полевых адъютантов и офицеров для поручений. Посылал их с приказами во все концы.
Позади него на некотором расстоянии стояли четыре эскадрона гвардии, по одному от каждой армии; но когда он покидал эту позицию, то брал для эскорта только взвод.
Обычно он называл генералам и маршалам место, куда направлялся, чтобы посланные офицеры могли легко его найти. Когда его присутствие почему-то становилось необходимым, он возвращался галопом».
В этот раз, утром 7 сентября, в день сражения на Москве-реке, император не нуждался в соблюдении таких правил.