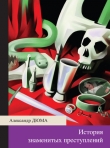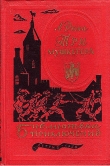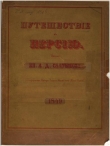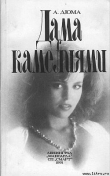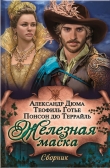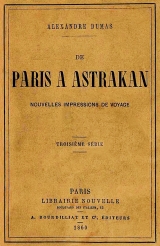
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 52 страниц)
Приговор был обставлен торжественно.
Вдовствующая царица, осужденная постричься в монахини под именем Марфы, была водворена в монастырь св. Николая возле Череповца. Два ее брата, Михаил и Григорий, были высланы за 500 верст от столицы; жители Углича, в массе квалифицированные как мятежники, увидели, что 200 человек из них погибают в казнях, 100 других лишены языка и брошены в тюрьмы. Под тяжестью террора рассеялось почти все население, с 30 тысяч уменьшилось до 8 тысяч душ. Эти уцелевшие 8 тысяч были высланы в Сибирь и основали там город Pelim ― Пелым. Колокол, который звучал набатом, получил свой приговор, как все, что приняло участие в драме, более страшной последствиями, чем главным своим действием. Он был осужден на вечную ссылку, с отрывом одной из своих проушин бит кнутом, и потерял гражданские права, то есть ему навсегда запрещается звонить.
В 1847 году жители Углича подали прошение помиловать колокол. Оно было удовлетворено, и решение об этом доведено до сведения сибирского губернатора. Новость вылилась в большой праздник в Иркутске, где находился колокол: епископ его реабилитировал, и ссыльные, по обычаю, когда один из них прощен, приготовились проводить его в обратный путь песнями и гирляндами цветов. Но не предусмотрели одной вещи: расходов на возвращение при расстоянии 800 лье. Когда подсчитали и увидели, что они составят 10-12 тысяч рублей, больше ни у кого не было желания тратиться.
Но права гражданства были возвращены, и сегодня он звонит от радости, когда какой-нибудь ссыльный помилован.
Мы изложили исторический факт таким, каким он предстает из протоколов Бориса Годунова.[231]231
Борис взялся провести расследование ― во второй половине мая 1591 года, по поручению Бориса Годунова, следствие вела комиссия в составе боярина князя В. И. Шуйского, окольничего А. П. Клешнина, думного дьяка Е. Вылузгина, митрополита Геласия; к следствию было привлечено 150 человек; допрашивались дяди царевича ― Нагие, мамка, кормилица, духовные лица, приближенные ко двору или бывшие во дворце во время событий; беловой текст заключения в основном был подготовлен в Угличе, доложен 2 июня Геласием Освященному собору и передан царю на его усмотрение; смерть царевича была признана результатом стечения обстоятельств, когда он в припадке эпилепсии упал и наткнулся на нож, которым играл; историки признают две версии: Дмитрий Иванович (1582―1591) убит по приказу Бориса Годунова, желавшего устранить претендента на престол, или закололся в припадке падучей болезни; версия, что был убит не царевич, считается неправдоподобной.
[Закрыть] А теперь ― легенда, основанная на аксиоме: «Ищи, кому преступление выгодно, и найдешь виновного».
Итак, в смерти маленького Дмитрия был заинтересован один человек. Это ― Борис. И вот на него ополчилась народная молва.
Царица давно уже проникла в Борисовы замыслы цареубийства и охраняла своего сына. Летописец Никон утверждает, что было много попыток отравить царевича, и все провалились. Тогда Борис и обратился к кинжалу, видя, что яд против ребенка не достигает цели. Некоторое время он безуспешно ищет убийцу, пока один из дядек царя Федора не приводит к нему человека, готового на все ради денег. Этот человек ― Битяговский. Его сын, его племянник Качалов и он убьют царевича. Но так как троих убийц было недостаточно, чтобы лишить жизни ребенка 10 лет, они объединились с сыном гувернантки ― Осипом Волоховым и дворянином по имени Третьяков. Эта банда убийц посвящает гувернантку в свои интересы, и Василина берется отвлечь царицу.
Ребенок остается один на минуту на дворцовом крыльце. Все убийцы на своем посту. Тогда Осип Волохов подходит вплотную к мальчику и, положив руку на его ожерелье, чтобы сдвинуть как помеху и открыть дорогу кинжалу:
– На вас новое ожерелье, ваше высочество? ― спрашивает он.
– Нет, прежнее, ― отвечает мальчик.
Едва ребенок произнес эти слова, как почувствовал, что ранен, и вскрикнул, потому, что был только слегка задет. На крик царевича прибегают другие убийцы и его приканчивают. Но с этим же криком соборный звонарь, который все видел и слышал, проскальзывает в церковь и ударяет в набат.
В этом месте оба рассказа сливаются и становятся одинаковыми. Вольно принять один или другой, если только от них не переходят к третьему: о лже-Димитриях [faux Démétrius], который, кстати, мы представим глазам наших читателей. Но в таком случае голос народа был единодушен и обвинял Бориса.
Через какое-то время после смерти маленького Дмитрия, вопреки всем прогнозам, царица Ирина забеременела. Это было великой радостью для России. Но Ирина родила девочку. Закона, что давал бы женщинам право наследовать трон России, еще не было. Обвинили Бориса, будто он распорядился скрыть настоящего ребенка царицы ― мальчика и подменить его девочкой. Эта девочка умерла, обвинили Бориса, что он ее отравил.
Наконец, в 1598 году, Федор умер или, скорее, угас, в свою очередь. И, хотя его смерть давно предвидели, это опять был Борис, на кого указали как на убийцу.
Есть в такой фатальности, что преследовала остатки дома Рюрика, и в этом пришествии коронованного Бориса что-то от ужасной легенды о Макбете.
Борис собирает трех прорицателей и у них консультируется.
– Ты будешь царствовать, ― говорят ему те.
– Ах! ― восклицает Борис на пределе радости.
– Но ты будешь царствовать только семь лет, ― продолжают прорицатели.
– Неважно! Хотя бы семь дней, но лишь бы я правил, ― говорит Борис.
Таково историческое воспоминание, что позвало меня в Углич; я хотел посмотреть дворец маленького царевича, сохраненный, как был, в эпоху его смерти. Хотел видеть реликвии, что он оберегает, этого предпоследнего потомка рода Рюрика.
Дворец малолетнего царевича расположен меж двух церквей, с одной из которых сняли колокол, что ударил в набат. В то время, как поднимались по склону холма, где находится Углич, наступила ночь; моросил дождь в сопровождении холодного северного ветра. Все офицеры, любопытствующие посмотреть Углич, которого большинство из них никогда не видели, были вместе со мной. Оркестр остался на борту.
Все было закрыто. Мы отправились разыскивать ключи; к моему большому удивлению, появились два-три священника и все ризничие. Мой эскорт произвел эффект, священнослужителям сказали ― не знаю, чей веселый нрав позволил себе эту шутку ― что я являюсь английским послом, и что сопровождавшие меня офицеры сопровождали меня по приказу императора Александра. Не надо спрашивать, насколько хорошо я был принят, представленный таким образом.
Начали с посещения дома маленького Дмитрия [Dmitry]. Там отведено помещение, где хранится кое-какая мебель, что ему служила, и носилки, на которых его тело было перевезено в Москву. Из дворца царевича пошли в Красную церковь[232]232
Красная церковь ― Церковь царевича Дмитрия, что «на крови»; на месте его гибели в первые годы XVII века была срублена часовня, в 1630 году ее сменила деревянная церковь, во второй половине XVII века началось и в 1692 году закончилось строительство нынешней каменной церкви.
[Закрыть], построенную спустя семь лет. В ней хранят серебряную усыпальницу, куда было положено тело малолетнего князя. На усыпальнице ― пластинка из золоченого серебра размером в четверть листа. По четырем углам этой пластины когтеватыми креплениями удерживаются четыре лесные ореха, которыми играл ребенок; показывают землю в специальном вместилище посередине, окрашенную красным. Это грязь, замешанная на его крови.
Может быть, спросят, почему такое почитание этих реликвий и такой интерес Борису выставить эту смерть на всеобщее обозрение. Политика узурпатора очень проста: она надевала маску набожной любви. Весь интерес Бориса и заключался в том, чтобы эта смерть наследника короны, как следует, была оглашена и широко известна. Сначала она открыла ему дорогу к трону. Затем, может быть, его гений предвидел лже-Димирия [faux Démétrius], у которого он хотел отнять целиком возможность использовать народное легковерие. В этом отношении он поработал недостаточно.
Вследствие голода и мора, что опустошали Россию с 1601-го по 160З год, в чем русские упорно усматривали знамение и падение узурпатора, от границ Литвы с немыслимой быстротой во всех провинциях империи распространился слух. Убитый в Угличе царевич Dmitry ― Дмитрий был жив, и только что объявился в Польше.
Это был молодой человек 22 лет, то есть как раз в том возрасте, в каком был бы царевич, и маленького роста, но широкоплечий, как Иван Грозный, со смуглым цветом лица своей матери ― царицы Марии Федоровны; волосы рыжие, лицо широкое, нос большой, скулы выступающие, губы толстые, бородка и две бородавки на лице, одна на лбу, другая под глазом. В особенности, уповая на эти две бородавки, какие могли приметить и на лице малолетнего Дмитрия, претендент рассчитывал на то, чтобы заставить его признать. Вот как, поведала легенда, молодой царевич получил признание.
Однажды в Брагине[233]233
Брагин ― ныне центр Брагинского района Гомельской области в Белоруссии.
[Закрыть], когда князь Адам Вишневецкий[234]234
Вишневецкий Адам ― скорей всего, один из фамилии магнатов Вишневецких на Левобережной Украине, владельцев обширного панства с собственными войсками и крепостями, центром в городе Лубны.
[Закрыть] принимал ванну, молодой камердинер, поступивший в услужение всего несколько дней назад, неловко исполнил только что полученное приказание. Князь, довольно горячий и, как вся знать той эпохи, скорый на расправу, обозвал его [Пся крев!] сукиным сыном ― обычное оскорбление у поляков и русских ― и влепил ему пощечину. Молодой лакей отступил на шаг и, не оправдываясь иначе, сказал ему с кротостью:
– О! Князь Адам; знал бы ты, кто я, не обращался бы со мной подобным образом; но мне нечего сказать, раз я взялся за роль секретаря.
– Кто ж ты, спросил его князь, ― и откуда ты?
― Я, ― ответил ему молодой человек, ― царевич Дмитрий, сын Ивана Грозного.
– Ты царевич Дмитрий? ― возразил князь. ― Разве не известно всем, что царевич убит в Угличе 15 мая 1591 года?
– Все ошибаются, ― ответил молодой человек, ― и доказательство тому ― сын Ивана Грозного перед глазами.
Князь потребовал объяснений, и вот что ему рассказал молодой человек.
Борис, желая избавиться от царевича, велел послать за валашским медиком по имени Симоне и сделал ему значительные посулы с условием, что тот согласится убить Дмитрия. Решив наоборот, его спасти, врач сделал вид, что входит соучастником в планы убийцы, и предупредил царицу. Впоследствии ночью, избранной для убийства, ― ибо, по рассказу претендента, была ночь, когда убийство имело место, ― царевича спрятали за печью и положили на его кровать сына одного крепостного. Это тот ребенок, которому перерезали горло. Из своего укрытия царевич видел, как кинжалом убили несчастного, что занял его место. Среди замешательства, вызванного убийством, медик смог его увезти, сначала проводил на Украину, к князю Ивану Мстиславскому[235]235
Мстиславские ― княжеский и боярский род в России в XVI ― XVII веках, потомки Гедимина, в Литве носили фамилию Ижеславские; Федор Михайлович Мстиславский (по матери) приехал в Россию в 1526 году, женился на родной племяннице Василия III ― Анастасии; Иван Федорович Мстиславский, видный государственный и военный деятель эпохи Ивана Грозного, боролся с Б. Ф. Годуновым, подвергся опале, был пострижен в монахи и сослан в Кирилло-Белозерский монастырь, умер в 1586 году; Федор, один из двух сыновей Ивана Федоровича Мстиславского, крупный землевладелец, числился среди кандидатов на престол после смерти царя Федора Ивановича, возглавлял правительственные войска в борьбе Бориса Годунова с Лжедмитрием I; при самозванце занял высокое положение, но в мае 1606 года участвовал в заговоре против него.
[Закрыть]; после, когда князь умер, он был препровожден в Литву, затем повернул на Москву, откуда направился в Вологду. Он уезжал из этого города, когда поступил на службу к князю Вишневецкому.
И так как после этого рассказа князь казался еще охваченным сомнением, молодой человек достал со своей груди русскую печать, носящую имя и герб царевича, и золотой крест, украшенный диамантами, который, сказал он, был ему дан родственником, князем Иваном Мстиславским, в день его крещения.
При виде печати и креста князь Адам прошел путь от удивления до уверования в этот рассказ, попросил прощения у молодого человека за словесное оскорбление, что нанес, за оплеуху, что ему залепил; предложив ему потом остаться в ванной, он попросил разрешения подождать его до выхода из нее.
Его жена закажет чудесный ужин, так как вечером он будет дан настоящему царю Московии; конюшие вырядят шестерку серых в яблоках коней; каждым из них будет править богато одетый наездник. Кроме того, его кучер заложит карету, куда его управляющий натащит подушек и самых дорогих ковров.
Его приказы исполнены, он возвращается в банную залу, провожает молодого человека на балкон, под которым лошади и карета, подает знак 12-ти слугам ― в парчовых кафтанах, собольих шубах, при отделанном золотом и серебром оружии ― войти и опуститься на колени; затем сам преклоняет колена:
– Пусть ваше величество, ― говорит он, ― соблаговолит принять этот пустяк. Все, чем владею, к услугам вашего величества.[236]236
Мериме. Лже-Димитрии. (Прим. А. Дюма.)
[Закрыть]
Вот что рассказали о способе, которым царевич заставил себя признать.
Тогда князь всем представил его как сына Ивана Грозного, и при первом публичном появлении под этим титулом, рассказывают, один русский по имени Петровский бросился к его стопам, возглашая, что доподлинно узнал в нем царевича Дмитрия, которому служил в Угличе. С этого момента все сомнения рассеялись, и двор польской знати сомкнулся вокруг молодого человека.
Понятен эффект, произведенный подобными новостями на Москву в правление столь ненавистного человека, каким был Борис Годунов.
Ко всем этим деталям добавляют другие, не менее важные. Молодой князь, который потребовал или, конечно, только что потребовал свой трон, удобно обосновался в своих новых резиденциях, великолепно садился на коня, был ловок в боевых упражнениях, говорил по-русски ― на родном языке, говорил так же на польском, как на русском, и даже знал несколько латинских слов. Это было образование дворянина, получившего хорошее воспитание.
С этой поры новости и события стремительно последовали одно за другим.
Князь, брезгливо отвергающий деньги, что ему предлагает Борис Годунов, чтобы он выдал претендента, сопровождает его к шурину ― Георгию Мнишеку, палатину[237]237
Палатин ― феодальный титул вельможи.
[Закрыть] [правителю] Сандомира, где старый солдат, взятый в плен московитами при осаде Пскова, его признал. Мария, младшая дочь палатина, влюбилась. Дмитрий письменно предлагает ей замужество, когда будет в Москве. Сигизмунд, старый враг русских, его принимает, признает за царевича, дает средства в 40 тысяч флоринов и разрешение полякам встать под его знамена. Пять-шесть тысяч поляков, восемь-десять тысяч казаков, несколько сотен русских, изгнанных в Польшу, составляют его маленькую армию; с этой армией он идет на Москву, встречает князя Мстиславского, вышедшего навстречу более чем с 40 тысячами человек, выигрывает первую баталию, проигрывает вторую, укрывается в городе Полтаве, расстраивает там заговор трех монахов, которые прибыли, по поручению Бориса, чтобы его отравить; велит запереть двоих из трех монахов, вознаграждает третьего, кто все раскрыл; бояр, к каким обратились монахи, выдает на расправу черни, пронзающей их копьями; пишет Борису, что очень хочет проявить великодушие по отношению к нему, если он поспешит отправиться в монастырь и освободит для него трон. Простит его преступления и возьмет под свою высокую защиту.
Эта дерзкая посула находит Бориса в то время, когда, его сестра Ирина, всегда порицавшая его узурпаторство, скоропостижно умирает в монастыре, который она избрала приютом, и когда народ, обвиняющий Бориса во всех преступлениях, громко говорит, что она отравлена. Это новое обвинение, это оскорбление от авантюриста наносят ему последний удар.
13 апреля 1605 года, во время председательства на совете он чувствует недомогание, поднимается, пытается идти, качается и падает в обморок. Через несколько минут приходит в себя, но для того, чтобы облачиться в одеяние монаха, принять церковное имя Боголеп (Милый богу), получить причастие.
В тот же день он умирает на руках своей жены и детей. И, как если бы преступление должно было сопровождать его и после смерти, всякий говорит, что он отравился, чтобы избежать мести князя.
И каждый добавил:
– Он поступил по справедливости.
Известен конец истории faux Dmitry ― лже-Дмитрия и, кто знает, может быть, подлинного.
20 июня 1605 года он явился к вратам Москвы. Именитые жители всех слоев встретили его богатыми дарами, в числе которых было массивное золотое блюдо с хлебом-солью ― символическое подношение вассала суверену. Их торжественная речь была краткой и в духе эпохи.
«Все готово, чтобы тебя принять, ― сказали ему они. ― Радуйся; те, кто хотел тебя съесть, ныне не могут больше тебя кусать».
Въезд его был блистательным. Вся Москва высыпала из домов на улицы. Он вынужден был продвигаться шагом и расталкивать толпу, чтобы добраться до церкви св. Михаила Архангела, куда он прибыл помолиться перед могилой Ивана Грозного. Он вошел в церковь, преклонил колена перед могилой, плача поцеловал мрамор и громко произнес:
– О, мой отец, твой сирота царствует, и это тебе святые молитвы, которые он тебе задолжал.
И всяк при этих словах воскликнул:
– Да здравствует наш царь Дмитрий, славный сын Ивана Грозного!
Спустя 11 месяцев при набате трех тысяч колоколов Москвы, что ударили разом, сквозь пожар, гром пищалей, крики взбешенной черни по улицам волокут тело, обезображенное и истерзанное, с рассеченным лбом и оголенным животом, отрубленными руками, которое казнили на 100 помостах посреди огромной площади, чтобы все могли видеть и чтобы каждый, стегнув кнутом или бросив камень, мог прибавить удар к уже принятым им ударам. Это тело ― труп доблестного и дерзкого молодого человека, который завоевал, а другие говорят ― вернул трон Ивана Грозного. Три дня он оставался выставленным в таком виде на Торговой площади. На третью ночь заметили в ужасе, что поверх тела пляшет голубое пламя. Когда приближались, пламя отступало или исчезало, чтобы появиться вновь, если держались на некотором расстоянии. Явление, не что иное, как газ, поднимающийся порой от трупов при разложении, повергает народ в глубокий ужас.
Один купец испросил разрешение убрать тело и зарыть его за пределами города, на Серпуховском кладбище. Но, как если бы вообще чудеса были брошены провожать это несчастное тело, ураган грянул на улицы, по которым двигался похоронный кортеж, и, когда тот оказался в воротах, сорвал с одной из башен кровлю и завалил дорогу ее обломками. И это еще не все. Священная земля не стала для бедного изувеченного тела землей упокоения, хотя заметили двух неизвестных птиц, похожих на голубей и павших возле ямы, хотя в бесчеловечный вечер слышали с неба такую неземную сладкую музыку, что подумали, будто она была пением ангелов. На следующее утро нашли могилу раскрытой, перевернутой вверх дном и пустой, а труп ― в противоположной от нее стороне, где была часовня. В этот раз грешили на колдовство и решили избавиться от тела, которое, по множеству признаков, могло быть только телом вампира. Сложили огромную кучу дров, положили его сверху, зажгли костер и все обратили в пепел. Затем этот пепел собрали с таким же тщанием, с каким делали это в древности, когда мистическое почитание родителей требовало хранить их пепел в погребальной урне и колумбарии предков. Но теперь так набожно его собрали для другой цели. Пеплом зарядили пушку. Это орудие было доставлено к вратам, через которые мнимый царь въехал в Москву, обращено жерлом к Польше, то есть в сторону, откуда пришел самозванец. Поднесли к пушке огонь, и прах того, кто был, может быть, самозванец, но уверял, что он заслуживал положения, которого достиг, вылетел на ветер!
Таковы три истории о сыне Ивана Грозного, малолетнем Дмитрии Угличском [Dmitry d’Ouglich], как его называют в России, вольном прервать читателя на своих 10-ти годах или идти с ним до своих 23-х. Могу сказать, что встречал в России много людей, которые считают, что все Димитрии были лже-, за исключением первого.
В Углич был сослан и Лесток, по велению той самой Елизаветы, которой он помог стать царицей.
* * *
Когда мы сходили по крутому и ухабистому спуску, ведущему от Углича к Волге, увидели на реке, среди глубокого мрака, огни трех цветов ― фонари прибывающего казанского парохода. Того самого, что должен был взять на борт наших офицеров и доставить их в Калязин.
Мы успокоились, как сумели, на своем пароходе. Одни играли в карты, другие заворачивались в свои манто и засыпали, третьи отыскивали последние бутылки вина, уцелевшие в дневном сражении, и молча пили из них. На следующий день, в пять утра, предстояло расстаться.
Просыпались замерзшими, разбитыми и хмурыми. Насколько приход на пароход был радостным, шумным, взбалмошным, настолько уход с него был молчаливым, грустным, угрюмым. Не сказали бы, что это те же люди, которые были такими жизнерадостными прошлым утром.
Деланж тоже нас покидал. Он уносил мое последнее «прости» нашим дорогим друзьям. Бедный Деланж, нужно отдать ему должное: он делал все, что мог, чтобы не плакать, но против его воли слезы текли.
Тем временем, наши друзья-офицеры, пересев на пароход до Калязина, решили послать нам еще один прощальный привет. С отчаливанием, их оркестр салютовал нам трубными голосами. Но оркестранты пребывали в меланхолии, как и офицеры, и расположение духа передавалось музыке.
Наше судно отправилось вниз по Волге тогда же, когда другое стало подниматься по ней. По мере того, как пароходы удалялись один от другого, игра оркестра становилась глуше; наконец, тот, что шел к Калязину, обогнул мыс и пропал. Какое-то время слышали еще непрерывную музыку, хотя все слабее; вскоре улавливали только звуки самых сильных инструментов; потом, в свою очередь, угасли и они, и едва, если что-то могли различить в бризе, ловили мелодичный стон, как вздох ветра; в конце концов, стон и вздох рассеялись прахом, и этим все было сказано.
У нас на борту не было дам, и капитан, который, как и монахи Углича, был недалек от того, чтобы принять меня за посла Англии, позволил мне разместиться в каюте для дам.
К полудню мы остановились на четверть часа в Мологе: мы поднялись примерно на 30 верст к северу, достигли изгиба Волги, самого близкого к полюсу. Позже добрались до Романова [Романова-Борисоглебска, с 1918 года ― Тутаева], российского края, где делают лучшие тулупы, благодаря романовским овцам, завезенным царем Петром, которым царь Петр, не будучи, однако, агнцем, не погнушался дать свое родовое имя. Судья Романова был французом, и звали его граф Люксембург де Линь.
Мы легли спать в пункте Samina [Сомино].
Не знаю ничего более тоскливого и однообразного, чем вид Волги, на всем протяжении зарывшейся на глубину примерно 50-ти футов между двумя ее берегами, ровными и слегка всхолмленными. Время от времени попадается одинокий и грустный город, без единого из тех деревенских домов, что составляют жизнь и радость наших городов. Ни острова, нарушающего однообразие этого бесконечного водного течения; ни парохода, ни барки, которые его оживляли бы; только одиночество под угрюмым господством его законного короля ― покоя.
Муане воспользовался тем, что край не предлагал посмотреть ничего любопытного, чтобы показать мне не только очень хорошие рисунки, сделанные им в Троице, но еще и те, которые он привез с экскурсии в Переславль, предпринятой без нас.
Название Переславль-Залесский, что носит город, означает, что Переславль находится за лесами. Его основание приписывают Юрию Владимировичу, который, потеряв в Малороссии Переяславль на Трубеже, захотел построить город, во всем похожий на тот, потерянный, возле озера Kletchino ― Клещино [оно же Плещеево], и впадающую в него на юго-востоке речку назвал Трубежем. На этом озере, обладающем редкостным свойством, как я сказал, производить сельдей, Петр Великий в 1691 году создал первую русскую эскадру; из всех судов, что входили в нее и от которых, замкнутых береговым контуром озера, не могло быть особой пользы, на сегодня остается только маленькая барка, служившая Петру Великому.
При желании получить представление о богатстве и могуществе духовенства в России нужно попасть в Переславль. Город всегда с двумя тысячами жителей располагает 25-ю церквями, стиль одной из них, Преображения, замечательный. В ней хранятся реликвии св. Николая Стилита, которой после его смерти оставили цепи, что святой носил при жизни.
Мы шли в виду Ярославля, где семь российских лицеев, когда пароход остановился, чтобы принять на борт двух дам; я уже видел себя без каюты, когда капитан пришел сказать, что дамы, узнав обо мне, просили меня остаться на месте, желая лишь одного ― разделить общество со мной. Я спросил, кто они, такие гостеприимные дамы. Капитан ответил, что это ― княгиня Долгорукая со своей компаньонкой. Как все изысканные русские женщины, Анна Долгорукая чудесно говорила по-французски.
Это в Ярославль, откуда ехали дамы, был определен на жительство Бирон, помилованный Павлом I, после возвращения из Сибири.
Ярославль славится красивыми женщинами и исключительными страстями: за два года пять молодых людей там сошли с ума от любви. Не менее интересно для путешественников, что Ярославль располагает, говорят, лучшим в России отелем и единственным, может быть, вне обеих столиц, где встретишь настоящие кровати. По имени владельца, он называется гостиницей Паструкова [l’hôtel Pastroukoff]. Этот собственник ― дважды или трижды миллионер, чем и знаменит; но разбогател не кроватями отеля, а благодаря широкой торговле железом, в зависимость от которой попала вся Россия. Он делит эту монополию с другим торговцем металлом по имени Барков. Все железо, что продается в Нижнем на ярмарке, ― собственность двух этих беспримерных спекулянтов.
Княгиня, женщина 30-32 лет, очень образованная. Вообще в России, как ни покажется необычным, на первый взгляд, женщины более образованы, начитаны и говорят по-французски лучше, чем мужчины. Это объясняется тем, что женщины, находясь совершенно вне дел и политики, распоряжаются всем своим временем и, отлично зная французский, читают почти все, что публикуется во Франции. Княгиня была одной из таких женщин: коренная русская, как все, кто носит от рождения или в результате союза фамилию Долгоруких, то есть одно из старейших имен в России, она знала назубок свою древнюю московскую историю. Она же предупредила, что сейчас мы прибудем в Кострому, что в Костроме будет остановка на час, и мы должны употребить это время, чтобы посмотреть монастырь св. Ипатия, дом Романовых и памятник Сусанину.
Тотчас, как пароход встал, мы соскочили в лодку и добрались до берега. Россию отличает то удобство, что у капитанов требуют справки о состоянии здоровья пассажиров не чаще, чем их паспорта. Сходят с парохода, поднимаются на борт, осматривают города и окрестности; никто не спрашивает, ни кто вы, ни чего вы хотите.
Мы вскочили на дрожки, которые крутым склоном вывезли нас наверх. Так как монастырь св. Ипатия был наиболее удаленным пунктом в нашей экскурсии, начали со св. Ипатия. Среди монастырей России он то же самое, что одна из гор Швейцарии, одно из озер Финляндии, один из вулканов Италии. Приходит время, когда горы, озера, вулканы становятся лишь уделом сознания, не более того; их постоянно посещают, но больше не описывают. Пусть читатель успокоится, он почти избавлен от описания всех тех монастырей, какие нам осталось еще посмотреть, включая монастырь св. Ипатия.
Что касается дома Романовых, то это другое дело; история пробует на нас такие чары, что невозможно пройти мимо исторического места, чтобы там не задержаться.
Мы видели смерть малолетнего Дмитрия [Dmitry], смерть Федора, обоих наследных принцев рюриковой крови; видели смерть узурпатора Бориса, самозванца Димитрия [Demetrius].
Как-то Мирабо в одном из своих великолепных порывов вдохновения, присущих только ему, сказал:
– Умирая, Кай Гракх взял горсть окровавленной пыли, на которой лежал, и метнул ее в небо. Из этой пыли родился Марий.
Тот же эффект был от пушки, заряженной пеплом лже-Димитрия, из которой выстрелили в сторону Польши, чтобы вернуть мертвую пыль туда, откуда принесло пыль живую. Из этого праха родились пять-шесть других лже-Димитриев и 15 лет гражданских и с иноземцами войн. В течение этих 15 лет, пучиной грязи и крови разделяющей династии Рюрика и Романовых, все стремятся на трон России, десяток или дюжина дотрагиваются до него, трое-четверо окрашивают его кровью. Но те же 15 лет, период позора для старой и новой знати, позволившей взять полякам Москву, шведам ― Новгород, ― самая блестящая эпоха русского духовенства.
Клир, единственный класс государства, который своей сплоченностью противостоит всякого рода развалу, что столько тираний кряду обрушил на Россию, клир не только остается на ногах и сильным, но еще национальным; среди всеохватной коррупции религиозный дух есть особая атмосфера, которая окружает его и которой он жив, следуя долгу и храня свою веру; лишь он сопротивляется домашнему предательству, иностранному нашествию, лишь он, его герои и мученики, и он утверждают великую социальную правду, тогда как партийность и сословность никогда не способны отказаться от сектантства.
В 1612 году, в период, когда все кажется безнадежным в России, на сцену выходят трое: Минин для народа, Пожарский для знати, Романов для клира. Мы набросали эскиз служения, отданного России первыми двумя, говоря по поводу памятника на Красной площади в Москве. Что касается третьего, то есть метрополитена [патриарха, архиепископа] Романова, дважды плененного поляками, исповедующего свою родину и религию перед лицом казни, то он так представляет русскую национальность, что вокруг него объединяется все, что остается от русских, из его семьи Россия выбирает своего суверена. И, однако, этот суверен был иноземного племени. Преданию угодно, чтобы стебель Романовых пророс не на земле России. В 1350 году один безвестный пруссак эмигрирует и приезжает обосноваться на берегах Волги. Его сын роднится с семьей Шереметевых, одной из самых знаменитых в России. Другой [из Романовых] ― брат императрицы Анастасии, матери Федора, последнего царя рюриковой крови. Наконец, единственный уцелевший в бойне из его семьи и сосланный, преследуемый Борисом Годуновым, кажется, способный провидеть предначертанное ему будущее, Романов становится монахом в Архангельске под именем Филарета и дает жизнь тому Михаилу, которого Россия избирает в 1613 году своим царем.
Он был в Костроме, когда узнал о своем избрании. Фамильный дом, где он тогда жил, цел и как объект почитания русских рекомендуется ими любопытству иностранцев.
Что же до Сусанина, памятник которому был третьим объектом нашей высадки в Костромe, то это еще и памятник русской признательности не просто человеку из народа, но крестьянину. Взятый в качестве проводника поляками при их проходе через деревушку Карабаново, вместо того, чтобы вывести армейский корпус, что ему доверился, на Московскую дорогу, о чем он получил приказ, он увлек его на проселки и завел в глубину одного из этих огромных русских лесов, где, раз заблудившись, чужеземец, как и в девственных лесах Америки, не отыщется, если не чудо.
Забравшись в лесную глушь, Сусанин признался полякам, что не просто заблудился, но сбился с дороги в намерении всех погубить. Ни угрозы, ни побои не могли с тех пор принудить его вернуть врага на дорогу. Сусанин пал под ударами, но его не смогли заставить сдвинуться с места. Его последний вздох отнял у поляков их последнюю надежду. После бесплодной попытки выбраться на большую дорогу этот армейский корпус, сознавая, что действительно по-настоящему заблудился, погибает от голода, почти погребенный снегом, рассыпается на ищущих случайного спасения; но никто не выходит из леса. Все, кто в него вошел, там и остались, и тела трех тысяч поляков стали кормом для волков.
Деревня Карабаново, где родился Сусанин, царем Михаилом Романовым навсегда была освобождена от подати и призывов в армию мужчин. Злые языки утверждают, что это благо сделало деревню самой беспутной в России.
Памятник Сусанину ― круглая колонна из розового финляндского гранита, увенчанная бюстом великого князя Михаила Романова; барельефы пьедестала рассказывают всю историю самопожертвования крестьянина из деревни Карабаново.
Мы возвращались к пароходу не без боязни. Мы вышли за разрешенные нам пределы на три битых четверти часа; но княгиня обещала употребить все свое влияние на командира судна, который, впрочем, принимая меня за крупную политическую фигуру, не требовал от меня особой пунктуальности. Прибыв на берег Волги, заметили, стало быть, пароход покачивающимся на том же месте, где его оставляли, и княгиню Анну на палубе, поджидающую наше возвращение и делающую все, что бы капитан набрался терпения.