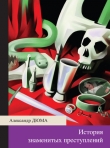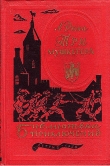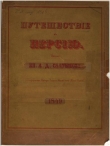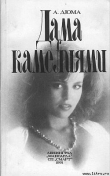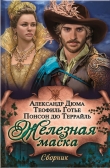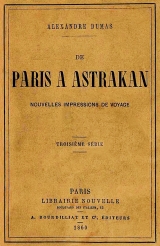
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 46 (всего у книги 52 страниц)
Как-то молоденькая великая княжна, одна из них, очень тихо спросила отца за столом, что такое евнух.
– Черт возьми! ― сказал смущенный император, ― спроси об этом Меншикова; я только знаю, что он способен тебе это объяснить.
Великая княжна повернулась к Меншикову.
– Принцесса, ― ответил тот, ― это такой тип камергера у крупного вельможи, у которого ключ есть, но бородок у ключа нет.
Однажды, расставшись со своим министром финансов, император поделился с Меншиковым большой озабоченностью насчет того, кого же назначить на эту должность.
– Меня, конечно, ― отреагировал тот.
– Как, вас?
– Да. Когда не стало судов, меня назначили морским министром. Когда не стало армии, меня назначили военным министром. Вы отлично понимаете, что сегодня, когда больше нет денег, я не могу отказаться стать министром финансов.
Генерал Александр Татищев во время кампании 1813 года взял Кассель ― столицу Вестфалии, нового княжества, что существовало всего четыре-пять лет. Поскольку это был великий подвиг мужа, княгиня Татищева находила повод заговаривать об этом хотя бы раз в день. И вот случилось так, что по ходу обычного рассказа, вопреки всяким ожиданиям, из головы повествовательницы вылетело название столицы, взятой ее мужем. В этот момент через апартаменты проходил Меншиков.
– Князь, ― окликнула его мадам Татищева, ― князь, какой же это город взял Александр?
– Вавилон, ― ответил Меншиков, не останавливаясь.
В нашей охоте было все, что положено охоте и загонам: крики, сильные удары палками в чащах и нескончаемая стрельба. На земле остались лежать 45 зайцев; я убил 12 и возвращался с триумфом. По возвращении меня ожидала добрая весть: «Нахимов» прибыл и послезавтра отправится в Астрахань, куда капитан обещал доставить нас за 10 дней. Так как он жег дрова, а не уголь, то должен был пополнять запасы топлива, по меньшей мере, каждые два дня и останавливался при каждой погрузке на пять ― шесть часов. То, что представлялось неудобством для спешащих пассажиров, для нас, желающих посмотреть страну, было большим везением и только. Мы сошлись в цене с капитаном «Нахимова»: 200 франков.
На следующий день разбогатевшие или, скорее, обремененные пятью-шестью лишними местами багажа, мы простились с казанскими друзьями и отправились спать на борт парохода, который ночью поднял якорь.
* * *
Мы сказали, что Волга берет начало в Тверской губернии. Добавим, что она берет это начало в окрестностях Осташкова. Поскольку Россия ― всего лишь обширная равнина, то 400 верст Волги являют собой ее долгое колебание в выборе направления. Покидая Тверь, она направляется с севера на юг. Через 200 километров резко поворачивает на северо-восток. От центра Ярославской губернии катит воды к востоку, склоняясь, напротив, к югу. Таким вот образом она делает почти 1000 километров, обходя пешком Ярославль, Кострому и Нижний Новгород. В Казани снова меняет направление и, описав северную дугу, устремляется прямо на юг ― на 1200 километров. На входе в Астраханскую губернию она еще раз меняет курс и отклоняется на юго-восток, пока не впадает в Каспийское море.
Мы заметили отклонение, оживляясь. Солнце, что всегда было напротив или около того, теперь находилось слева от нас. Между прочим, поднимаясь на палубу, мы открыли великолепный вид; мы находились в том месте фарватера, где на большой скорости, из Сибири, Кама вливается в Волгу и изменяет цвет воды. Кроме этого, спеша из более холодного края, она была покрыта заснеженными льдинами, которые издали казались стаей лебедей.
Кама, известно, берет начало в Уральских горах; ее течение более уверенное и упорядоченное, нежели течение Волги, на ней нет мелей; она рыбная сверх меры; там можно встретить всех рыб других русских рек: севрюгу, осетра, форель, судака, белугу, иногда весящую 1400 фунтов, и сома ― неизвестную у нас рыбу, которая водится в Волге и Днепре и которую нельзя продавать без осмотра, потому что у нее, как у акулы, часто находят человеческие останки.
Приняв Каму, река Волга становится шире, и появляются острова; левый берег остается низким, тогда как правый, неровный, начиная от Нижнего, поднимается до высоты 400 футов; он сложен из горшечной глины, аспида (кровельных сланцев), известняков и песчаников без единой скалы.
Симбирск, главный город губернии того же названия, ― первый более-менее значительный город, что встречается в 50 лье от Казани.
Что особенно поражает и больше всего печалит в России, так это запустение. Сознаешь, что земля могла бы прокормить население в 10 раз большее, чем то, которое она имеет; и вместе с тем Волга, самая большая артерия России, единственный путь, связывающий Балтику с Каспием, привлекает на свои берега больше людей, чем любая другая река.
Достигая Ставрополя, река делает большую петлю в сторону Самары и потом возвращается к себе у Сызрани.
Мы прошли мимо Симбирска и Самары ночью; «Нахимов», более отважный, нежели пароход, который доставил нас в Нижний, шел ночью, как днем; капитан чистосердечно признался, что раз уж коснулись первого дня октября, он опасается быть остановленным льдами. Всякий раз, когда «Нахимов» останавливался, чтобы купит дров, мы сходили на берег, но края, меняя названия, были безвариантно те же. Всегда деревянные избы, населенные крестьянами в красных рубахах и тулупах. На всех стоянках находили для покупки и превосходную рыбу. Стерлядь[262]262
Стерлядь ― рыба семейства осетровых длиной до 125 сантиметров и весом до пуда, распространена в бассейнах рек, впадающих в Черное, Азовское, Каспийское моря и в Северный Ледовитый океан до Енисея включительно; ее разводят в других реках, прудах и озерах.
[Закрыть], что продается на вес золота в Москве и, особенно, в Санкт-Петербурге, стоила нам по 3-4 копейки за фунт. Ознакомление с этой рыбой, к мякоти которой русские относятся, на мой взгляд, с излишним фанатизмом, я закончил, заподозрив, что стерлядь вовсе не отдельный вид, а происходит от клади осетра, проходящего через заграждения Астрахани и поднимающегося по реке, надуманное племя. При первом же слове, когда я отважился высказаться на этот счет, мне рассмеялись в лицо; русские не хотят допустить даже мысли, что провидение не создало отдельного вида для удовлетворения вкуса во дворцах гурманов Севера. Тогда вот чем смею заверить гурманов Юга и Запада: в день, когда рыбное хозяйство окажет честь осетру, заняться им и выводить его молодь, стерлядь появится у нас в Сене и Луаре.
Между Ставрополем и Самарой увидели высящийся на левом берегу массивный холм, имеющий форму голландского сыра; его называют Царской горой, потому что Иван Грозный завоевав Казань, спустился вниз по Волге и велел подать обед на его вершину. Город, что виден вдали, с куполами, подобными огромным буграм земли, нарытым кротами, называется городом Короля [Царицын]; несомненно, потому что Иван там останавливался.
Через три дня после отъезда из Казани мы прибыли в Саратов. Капитану предстояла погрузка, и он предупредил нас, что очень даже может задержаться на день-два. Это было довольно грустно. Мы не имели писем в Саратов, никого там, естественно, не знали; предстояло испытать смертельную скуку в течение этих двух дней. С другой стороны, имея в запасе пару дней, которыми мы могли распорядиться, как сочтем нужным, я согласовал с капитаном свои дальнейшие шаги.
Генерал Лан, когда с ним по русской карте проследили течение Волги и, значит, предстоящий путь, дал крайне любопытный совет ― посетить солевые озера, которые находятся слева от реки, в киргизских степях.
У Камышина мы оставим пароход, возьмем телегу и совершим трехдневную экскурсию к киргизам; на третий день вернемся на «Нахимов» в Царицын, место, где Волга наиболее близка к Дону. Генерал Лан надеялся, что возле озера Эльтон я встречу его друга ― генерала Беклемишева[263]263
Беклемишев Николай Петрович ― генерал-майор, наказной атаман Астраханского казачьего войска в 1858―1862 годах; генерал-лейтенант.
[Закрыть], казацкого гетмана; при такой удаче это был бы тот, кто воздаст мне почести соляных озер. На всякий случай, я попросил у него письмо для генерала Беклемишева.
– Ладно, ― ответил он, ― вы назоветесь, а его жена знает вас наизусть.
И я уехал из Казани, обещая себе, по возможности, совершить экскурсию к киргизам.
Томясь ожиданием, мы были заточены на полтора точно, на два дня ― может быть, в Саратове. Смирились с этим, и сошли на берег. Несло легкую изморозь из самых колючих, что не способствовало тому, чтобы хоть немного оживить грустный облик края.
Пустили Калино на сбор информации, но в отношении сведений он был самым несмышленым существом, какое я когда-нибудь знавал. Он никогда не понимал этой фразы:
– Проинформируйте нас, Калино!
– О чем? ― спрашивал он.
– Да обо всем, черт возьми!
Калино опускал голову, узнавал, сколько жителей в городе, на какой реке стоит, в скольких лье от Москвы, сколько домов сгорело в последнем пожаре, и сколько в городе церквей. Калино был рожден для статистических отчетов. Через час блуждания по ужасной мостовой, по топким улицам Саратова ― южное солнце растапливало утреннюю грязь ― узнали, что в Саратове 30 тысяч жителей, шесть церквей, два монастыря, гимназия и что за шесть часов пожара в 1811 году сгорело 1700 домов. Со всем этим не на что было тратить полтора дня, но, подняв нос, я прочел вдруг на вывеске: «Adelaide Servieux» ― «Аделаид Сервье».
– А! ― сказал я Муане. ― Мы спасены, дружище. Здесь есть француженки или, по меньшей мере, одна француженка.
И я устремился в магазин, который был магазином белья. На шум, что я произвел, открывая дверь, из соседней комнаты вышла молодая особа парижской внешности, с привлекательной улыбкой губ.
– Добрый день, дорогая соотечественница, ― сказал я ей. ― Чем можно заняться в Саратове, когда в запасе два дня и страх заскучать?
Она посмотрела на меня со вниманием и засмеялась.
– Дамой, ― ответила мне она. ― И смотря по характеру и профессии: если это моравский брат, то читают проповедь, если коммивояжер, то предлагают товары; если это месье Александр Дюма, то ищут соотечественников, обедают с ними и, клянусь, имея соображение, заботятся, чтобы время казалось короче.
– Входите, Калино, ― пригласил я моего лауреата. Вы совершите кругосветное путешествие, вот увидите, и встретите одних французов ― для справок. А для начала, моя дорогая соотечественница, раз вы угадали, что мы ― ни моравский брат, ни коммивояжер, поцелуемся; такое дозволяется за 1000 лье от Франции.
– Минутку! Позовем моего мужа. Это будет для него, самое меньшее, праздником.
И она позвала мужа, подставив мне обе щеки. Он появился, когда я целовал во вторую щеку. Ему объяснили, кто я.
– Тогда, ладно, ― сказал он, пожимая мне руку. ― Вы обедаете с нами, не так ли?
– Да, но при условии, что я сам приготовлю обед; вы, должно быть, избаловались с тех пор, как живете в России.
– Полно! Всего три года.
– В таком случае, насчет вас я ошибся; вы покинули Францию сравнительно недавно, чтобы утратить традиции ее кухни.
– А чем мы займемся, ожидая обед?
– Будем беседовать.
– А после обеда?
– Будем беседовать. О, дорогой друг! Разве вы не знаете, что только во Франции и между французами возможна беседа? У меня есть превосходный чай. Вот Kaлино, который определен ко мне как переводчик московским ректором, но который, слыша, что мы говорим на особом парижском языке, абсолютно ничего не понимает. Сейчас он сходит за чаем, и время от времени мы будем говорить по-французски, чтобы доставить ему удовольствие.
– Тогда проходите, и пусть все вершится по вашей воле.
Мы вошли и стали болтать. Среди болтовни кое-что вспомнилось.
– Вы что-то тихо сказали вашему мужу; что вы ему сказали?
– Просила его предупредить двоих из наших друзей.
– Французов или русских?
– Русских.
– О-ля-ля! Я почуял предательство; а кто они, ваши друзья?
– Один ― князь, это его социальное положение; другая ― поэтесса, это ее интеллектуальное положение.
– Женщина-поэт, дорогая моя! Нам сейчас явится самолюбие, ждущее ласки; а это все равно, что гладить дикобраза.
– Нет, у нее талант.
– Тогда будет много легче. А ваш князь ― настоящий un kness?
– Уверена, что князь.
– Как вы его величаете? Предупреждаю, что знаю назубок всех ваших князей.
– Князь Лобанов[264]264
Князь Лобанов ― князь А. Б. Лобанов-Ростовский, чиновник Министерства внутренних дел, был прикомандирован к саратовскому губернатору.
[Закрыть].
Дверь открылась именно в этот момент, и вошел красивый молодой человек лет 26–28-ми.
Он услыхал свою фамилию.
– Думаю, ― сказал он, ― во Франции есть одна поговорка, утверждающая, что, когда говорят о волке…
– Ей-богу, истинно так; вы знаете, я только что послала к вам.
– Нет, но я знаю, что здесь у вас месье Дюма, и хотел просить вас представить меня ему.
– А как вы узнали об этом?
– О, дорогой друг, я только что встретил месье Porniak ― Порняка [Позняка][265]265
Порняк, офицер в эполетах полковника ― майор Позняк, полицеймейстер.
[Закрыть], начальника полиции, который очень рассчитывает, что завтра все мы будем у него обедать… Но представьте же меня.
Я поднялся.
– Князь, ― сказал я ему, ― мы давно знакомы.
– Скажите, что я вас знаю. Но вы, откуда вы знаете один из татарских родов, уединенно живущий в Саратове?
– Я хорошо знал во Флоренции…
– Ах, да! Мою тетю и моих кузин ― молоденьких княжон Лобановых. Они сотню раз рассказывали мне о вас. Вы помните княжну Надин?
– Думаю, что отлично; мы вместе играли комедию или, скорее, я был режиссером.
– Да что вы! А чему решили посвятить день? ― спросил князь.
– Месье Дюма сам составил программу; если, на ваш взгляд, она не так хороша, обсудите это с ним.
– Посмотрим программу.
– Мы беседуем, обедаем, вновь беседуем, пьем чай и беседуем еще.
– После чая эти мессье ночуют у меня, чтобы избежать наказания возвращаться на пароход.
– Я тут же согласился бы, если бы не боялся вас стеснить.
– Вы давно в России?
– Скоро пять месяцев.
– Отлично, вы должны знать, что в России меньше всего стесняет дать ночлег у себя. В доме 8-10 диванов. Каждый из вас займет по дивану. Месье Дюма займет два, и вопрос будет исчерпан. У вас есть кровати на судне? Тогда отправляйтесь на пароход; я вас предупредил, что у меня их нет.
– Ладно, в самом деле, у меня есть матрас и подушка, что мне подарили в Казани; испытаю их у вас.
– Сибарит!
– Калино, дружок, принесите нам чай и велите принести мой матрас и подушку.
Выходя, Калино посторонился, чтобы уступить дорогу маленькой даме лет 28-30-ти, круглой, полной, с живыми глазами, скорой на слово. Она идет прямо ко мне, протягивая руку.
– Ах! Наконец, это ― вы! ― сказала мне она. ― Мы знаем, что вы ― в России; но мыслимо ли было подумать, что когда-нибудь вы окажетесь в Саратове… здравствуйте, князь! здравствуйте, Аделаид! …то есть на краю света! И вот вы здесь. Добро пожаловать.
В России есть очаровательный обычай. …Я открываю его не всем, а только тем, кто достоин о нем услышать… Когда целуют руку русской дамы, она немедля возвращает поцелуй ― в щеку, глаза; куда придется, наконец; будто боится, чтобы не случилось несчастья, старается от него оградить. Я поцеловал руку de madam Zenaide ― мадам Зенаид, которая тут же вернула мне поцелуй. Такая манера здороваться в высшей степени ускоряет знакомство. Есть доброе в старинных русских обычаях.
– Ну, хорошо, ― сказал я ей, ― мы ведь пишем стихи?
– А чем еще, вы хотели бы, чтобы занимались в Саратове?
– Об этом скажете вы.
– Вы, случаем, не говорите по-русски?
– К несчастью, нет; но вы переведете.
– Если это способно доставить вам удовольствие.
Открылась дверь, вошел офицер в эполетах полковника.
– Хорошо, ― сказала хозяйка дома, ― вот и месье Позняк, начальник полиции. Вам нечего здесь делать месье Позняк. И мы не хотим вас.
– Ох! Хотите или нет, нужно меня терпеть, о чем я вас предупреждаю; у вас иностранцы, мой долг узнать, кто они, и если внушают подозрение, то увести с собой, держать в поле зрения и не позволять им общаться с их соотечественниками. Примите теперь меня плохо.
– Дорогой месье Позняк, прикажите нам усадить вас. Как чувствует себя мадам Позняк? Как здоровье ваших детей?
– Бог миловал! Это искупает ваш первоначальный прием. Месье Дюма, знаю, что вы ― любитель оружия, и вот что я вам приношу.
И он вытащил из кармана прекрасный кавказский пистолет с гравированным стволом и рукоятью из слоновой кости, инкрустированной золотом.
– Если вы так обращаетесь с людьми подозрительными, то как вы обращаетесь с друзьями?
– Моих друзей, когда их встречаю, приглашаю на завтрак, на следующий день, и если они отказываются, то с ними ссорюсь.
– Это ваш ультиматум?
– Это мой ультиматум.
– В таком случае, очень следует завтракать у вас.
После этого разговора и проектов, как провести два эти настолько неясные дня, стало видно, что они могут оказаться лучшими из всего путешествия. Маленький парижский бельевой магазин с его очаровательной атмосферой цивилизовал этот угол полурусской-полутатарской земли.
Что касается нашей поэтессы, то мне хотелось бы суметь представить читателю ее талант, но могу лишь, чего крайне недостаточно, сделать вот что: передать тоже стихами два из тех произведений, которые она мне перевела и автором которых является. Бросьте взгляд на карту, найдите Саратов и оцените, за сколько лье от нашей цивилизации родились эти два цветка Севера, орошенные льдистыми водами Волги и иссеченные суровыми ветрами Урала:[266]266
Подстрочный перевод Ишечкина.
[Закрыть]
МЕТЕЛЬ
Я метелью была и преследовала, дикая,
В степи вечером затерянного путника.
Пела ему песни ангела в черной мантии,
Чтобы усыпить, сделать степь его последним ложем,
Страшной я становилась тогда, я была безнадегой.
И люди говорили: «Грядет последний день;
Тщетно верить, что Христом будут отпущены наши грехи,
Ярость Всевышнего становится бурей,
Мир обречен, приходит конец: на колени!
Бог милосердный, имей сострадание к нам!»
Но, я приближалась к окну, в час,
Когда луна на тебя роняет нежный луч,
Меня охватывала дрожь, как плачущего ребенка,
И я сдерживала дыхание свое и шептала: «Прости!»
Ничто, кроме как видеть тебя, не делает меня доброй.
И люди говорили: «Буря успокаивается,
Зима бежит, возродилось все, что недавно гибло.
Бархатистый газон покрыл обрывистый берег,
На Востоке виден угол открытого неба;
Это весна, которая приходит,
розы вот-вот расцветут.
УМИРАЮЩАЯ ЗВЕЗДА
Я породила день, который увидел рождение
Еще необитаемого мира.
Но вечером я погибну
И паду в небытие.
Мое светозарное царствование оканчивается!
И уже я вижу луч
Моей соперницы, которая восходит
И движется на смену мне вослед.
Я умираю без злобы и не жалею
Ни о принце этого мира, ни о короле,
Но только ― о красавце поэте,
Который мечтал, глаз положив на меня.
Он забыл, что это мое пламя
Купало его вдохновенный лоб
И, проникающее в его душу,
Разжигало там священный огонь.
Не сомневаюсь, что он курит фимиам
Звезде, что видела мой закат.
Неблагодарный, не замечающий моего отсутствия,
Он споет ей свою самую нежную песню.
Но, если эта любовь тебя опьяняет
Больше, чем меня, то ты должна будешь страдать,
Бедная сестра! потому что я ее узнала, чтобы жить,
А ты, ты ее узнаешь, чтобы умереть.
Занятная вещь это ― во всем находящий поэзию универсальный язык больных сердец, который заставляет льва Атласских гор рычать в песнях араба и который саму метель в степях Урала делает влюбленной, не правда ли? Если когда-нибудь я совершу кругосветное путешествие, то всюду, где ступит моя нога, подберу песню любви и опубликую эти пестрые знаки страсти человеческой, одинаковой на всех широтах, под титулом История сердца.
В восемь часов вечера мы покинули новых друзей, которые, уверен, сохранили память обо мне, как я сохранил память о них. Они проводили нас до парохода и оставались, когда был поднят якорь. Пламя зажженных с нашим отъездом факелов, которыми они размахивали, было видно нам около получаса.
Впереди ожидалась остановка, так как в связи с просьбой о двух днях, которые нам были обещаны, капитан высаживал нас напротив Камышина ― в Николаевской, деревушке на левом берегу Волги. Мы должны были подойти туда к девяти часам утра. За час до прибытия, предупрежденные капитаном, мы велели поднять на палубу немногое из багажа, необходимое на время экскурсии.
* * *
Итак, мы высадились в Николаевской и направились к дому почтовой станции с подорожной в руке. Кажется, уже говорилось, что подорожная ― приказ русских властей начальникам почтовых станций давать лошадей ее предъявителю. В России больше не возьмешь почтовых лошадей без подорожной; как во Франции не попутешествуешь без паспорта. Подорожные выдаются на более или менее длительный срок, действительны для разъездов на большие или малые расстояния. Моя подорожная была взята в Москве; ее выдал мне губернатор ― граф Закревский[267]267
Закревский Арсений Андреевич (1783―1865) ― граф, генерал от инфантерии, генерал-адъютант, участник военных действий в 1805―1814 годах, финляндский генерал-губернатор, член верховного уголовного суда по делу декабристов, министр внутренних дел; в 1831 применил войска для подавления волнений, вызванных эпидемией холеры; в 1848―1859 годах был московским военным генерал-губернатором.
[Закрыть], который никогда не позволил бы мне появиться в Москве, не будь сильной руки. А так как мое пребывание в городе, подвластном губернатору, было ему тем более неприятно, что являлось в известном роде ему навязанным, то стоило запросить подорожную, знаменующую отъезд, как он выдал воистину княжескую подорожную, чтобы обеспечить мне в пути, насколько возможно, быстрое обслуживание.
При виде нашей подорожной смотритель не пошевелился, чтобы выделить нам пятерку испрашиваемых у него лошадей; обычные трудности. Вообще нет большего жулика, чем начальник почты, если только их не двое. Поскольку лошади в низкой цене ― за каждую берут по две копейки (шесть лиардов[268]268
Лиард ― старинная медная французская монета.
[Закрыть]) с версты ― смотрители, в общем-то, занимаются дурными делами: в конечном счете, стремясь вознаградить себя, несмотря на дешевизну лошадей, идут на всевозможные ухищрения, чтобы три шкуры содрать с путешественников; те, кто к путешествиям расположен, годятся для того, чтобы им заявить, что конюшни пусты, но что они могут раздобыть лошадей по соседству. Только, добавляют они, лошади принадлежат частникам, и те отдают их внаем за двойную почтовую цену. Попадись вы хоть раз в эти тенета, вы ― потерянный человек. От кучера начальнику почты и от начальника почты кучеру передают вести о вашем простодушии, и почти всегда вам придется за это расплачиваться.
Но если у вас есть какое-нибудь представление о почтовых законах в России, то вы мне скажете:
– Каждый начальник почтовой станции[269]269
Начальник почтовой станции ― станционный смотритель.
[Закрыть], даже в самой маленькой деревеньке, обязан держать на конюшне, по меньшей мере, три тройки, то есть девять лошадей.
Если же вы очень сильны в почтовых законах России, то вы добавите:
– У каждого начальника почты, сверх того, постоянно находится на столе опечатанная, скрепленная восковой печатью округа, почтовая книга от корешка на шнуре, перерезать который ему недвусмысленно запрещено. Он лишается аттестата, если восковая печать сломана, и starostat [надо полагать, он же] не приводит достаточно доводов к ее нарушению. В этой книге он указывает число едущих пассажиров и количество лошадей, которых они взяли.
Да, все как надо; но так как никто и никогда не проверяет книгу, то они могут держать эту книгу в руке и ― ни лошадки на конюшне.
Русские, у которых есть опыт разъездов по своей стране, встречая подобные виды препятствий, обычно сверяются по книге не пером, а нагайкой; после пяти-шести ударов нагайкой почти всегда на конюшне находится тройка. Нагайка ― плетка, которой по обыкновению обзаводятся в день, когда берут подорожную. Придет время, и будут снабжать пассажира тем и другим для удобства в одном и том же бюро. В 1858 году это продавали еще по отдельности.
Иностранные путешественники, нужно отдать им должное, испытывают отвращение к поведению такого рода, но позже, видя, что становятся жертвами собственной филантропии, воспринимают мало-помалу нравы страны.
Запомните хорошенько, что от Екатерины II смотрители имеют офицерский ранг.
Плетка, принуждающая смотрителя предоставлять лошадей, имеет еще одно применение: заставлять лошадей идти, стегая не по их спинам, а по спине кучера.
В России все не так, как в других краях; но когда хорошо узнаешь Россию, достигаешь намеченной цели. Лишь дорога немного длинней и неровней, вот и все. Через пять-шесть тысяч верст пути по России нужда заставит купить новую плеть, хотя не припомнится ни одного удара по крупу лошади.
Приводимые нами детали ― чистая правда и вызывающая крайность. Справиться об этом можно у любого встречного подданного его величества императора Александра.
* * *
Нам предстояло проехать 260 верст. Почти 65 французских лье. По ровной степной дороге можно было бы одолеть эти шесть десятков лье за день, если бы не терять по два часа на каждой станции.
Крест на шее, который всякому русскому служащему говорит о полковничьем ранге, сокращает ожидание примерно на полчаса; орденская звезда поверх одежды, которая указывает на генеральский ранг, сокращает то же время приблизительно на час.
В России всем заправляет чин.
Чин ― перевод французского слова «ранг». Только в России ранг не зарабатывается, он приобретается; мужчины там служат в соответствии с чином, а не личными достоинствами.
По словам одного русского, чин еще и настоящая оранжерея для интриганов и жуликов. Вот русская иерархия[270]270
Русская иерархия ― Табель гражданских чинов России XIX века: коллежский регистратор, губернский секретарь, коллежский секретарь, титулярный советник, коллежский асессор, надворный советник, коллежский советник, статский советник, действительный статский советник, тайный советник, действительный тайный советник, действительный тайный советник 1-го класса или канцлер; чин канцлера давался очень редко, за 80 лет с лишним, вплоть до 1917 года, его получили несколько человек.
[Закрыть] и способ, которым поднимаются вверх: губернский секретарь, коллежский секретарь, титулярный советник, коллежский асессор, надворный советник, коллежский советник, статский советник, действительный статский советник, тайный советник, действительный тайный советник 2-го класса, действительный тайный советник 1-го класса.
Россия ― страна, где больше всего советников и которая меньше всего требует советов.
Ну, ладно, все эти титулы служат чино-ступенями и дают звания по аналогии с армейскими. Таким образом, если для капитана уже запрягли лошадей в экипаж, и приезжает полковник, то нужно выпрячь лошадей из экипажа капитана и заложить его экипаж. Так же поступает генерал по отношению к полковнику и маршал ― к генералу.
В моей подорожной значилось: «Господин Александр Дюма, французский литератор». Итак, поскольку слово литератор, возможно, не имеет русского эквивалента, и было написано по-французски, и так как ни один начальник почты не знал, что такое литератор, то Калино переводил это звание как генерал, и мне воздавали соответственно моему чину.
Нет ничего более унылого, чем эти плоские, покрытые серым вереском, настолько совершенно безлюдные равнины, что выдается случай увидеть силуэт всадника на горизонте, и вы едете иногда 30-40 верст, и хоть бы птица взлетела на вашей дороге. Между первой и второй станциями мы приметили несколько киргизских палаток. Как и калмыцкие, они ― войлочные и пирамидальной формы, с отверстием наверху, чтобы выходил дым.
Киргизы[271]271
Киргизы ― киргизами или киргиз-казаками ошибочно называли казахов, перенося на них название соседнего народа, собственно киргизов; официально казахи считаются коренными жителями Республики Казахстан.
[Закрыть] вовсе не коренные жители, они ― выходцы из Тypкестана и, видимо, являются уроженцами Китая. Они ― магометане и делятся на три орды: большую, среднюю, малую.
Прежде здесь жили калмыки[272]272
Калмыки ― предки калмыков (самоназвание: хальмг) в первом и начале второго тысячелетия н. э. жили в Центральной Азии, входили в состав крупных политических объединений: дун-ху, сянби, жужани и кидании; в конце XVI и первой трети XVII века перемещались в Прикаспийский регион России, включая низовье Волги.
[Закрыть], которые занимали всю степь между Волгой и Уралом. Но однажды 500 тысяч калмыков оседлали коней, погрузили свои кибитки на верблюдов и во главе с ханом Убачей снова ушли в Китай. Река вернулась к своему истоку.
Теперь о том, почему случилась миграция. Наиболее возможная причина: методическое ограничение власти вождя и свободы людей, практикуемое русским правительством. Убача только что существенно помог русским в экспедициях против ногайцев и турок. В знаменитой кампании, которая окончилась осадой Очакова, он сам водил 30 тысяч всадников. Его вознаграждением стали новые ограничения. Своей властью он бросил клич орде, и клич обернулся почти полной эмиграцией. Одним махом Екатерина потеряла полмиллиона подданных. Правда, Убача ничего от этого не выгадал. Поднявшись 5 января 1771 года, в день, объявленный первосвященниками счастливым, в количестве 70 тысяч семей и 500 тысяч душ, калмыки пришли в Китай к концу того же года числом 50 тысяч семей и 300 тысяч душ, только. За 8 месяцев на пройденном пути в 2500 лье они потеряли 200 тысяч своих. Край, покинутый Убачей и его ордой, оставался пустынным в течение ряда лет, но к 1803―1804 годам некоторые киргизские племена, с согласия русского правительства, стали лагерем на берегах реки Урал; мало-помалу они продвигались с востока на запад и появились на берегах Волги. Россия, желая восстановить понесенные потери, уступила им семь-восемь миллионов гектар территории между реками; этого было достаточно для восьми тысяч семей: почти 40 тысяч человек. Но совсем в противоположность калмыкам ― нежному и смиренному племени, исповедующему лама-буддизм, киргизы, исповедующие магометанство, ведут себя отвратительными грабителями; нас об этом предупредили, и сказанное мы приняли к сведению.
Мы их видели в 1814 году ― заброшенных детей русской армии в островерхих колпаках, с луками, стрелами, копьями, в широких штанах, с веревочными стременами и мохнатыми лошадьми. Они были ужасом наших крестьян, которые не имели понятия о подобных людях и, особенно, ― о таких нарядах.
Сегодня у большинства ружье заменило лук и стрелу, но некоторые, либо слишком бедны, чтобы купить ружья, либо держатся национальных традиций, сохранили лук и стрелу.
Палатки, мимо которых мы проехали, на пороге которых держались группами женщины и дети, имеют 10-12 футов в диаметре и, следовательно, 30-36 футов в окружности. Внутри ― ложе или кошма, шкаф и некоторая кухонная утварь. Мы миновали два-три таких кочевья и можно было различить вдали другие, рассыпанные по пять-шесть палаток. Нужно четыре верблюда или восемь лошадей, по крайней мере, чтобы увезти одну из палаток и семью, которой она дает приют.
Киргизские лошади маленькие, быстрые, неутомимые; едят степную траву, и редко всадник занимается ими: не иначе как для того, чтобы освободить от удил и, таким образом, предоставить им свободу жевать. Понятно, что о ячмене или овсе нет и речи.
Мы решили ехать день и ночь степями, не предлагающими ничего любопытного, что можно было бы посмотреть, до самых озер. Зная, что в дороге не найдем абсолютно ничего из еды, запаслись хлебом, крутыми яйцами и вином. Кроме того, наши друзья из Саратова велели зажарить для нас двух цыплят и приготовить судака в пряном отваре.
Когда наступила ночь, возникли некоторые осложнения с выделением нам лошадей. Доводом этого почти отказа служило опасение, что мы могли быть захвачены киргизами. Мы возражали, показывая наши ружья; впрочем, мы были убеждены, что в соседстве с таким внушительным казачьим постом, как на озере Эльтон, нам абсолютно нечего было бояться. Все решил другой довод; мы задержались на почтовой станции до двух часов утра не потому, что боялись киргизов, а потому, что замерзли. Холод, как сказано, застал нас в Казани, а снег ― в Саратове; и в степи, где ничто не препятствует ветру, могло быть шесть-семь градусов ниже нуля.
Мы уже говорили, что все русские станции устроены по одной модели; кто видел одну из них, тот видел все. Беленые известью четыре стены, две скамьи, представляющие собой и канапе, и кровати, как посчитает тот, кто ими пользуется, и выдвинутая в комнату печь; на ней то неизменное, в чем уверен, что будет горячая вода, в которой вместо чая заваривают растения местной флоры. Только в киргизских степях вода солоновата, и несколько нежные рты должны от нее отказаться! Насчет того, чтобы поесть, ― ничего, ну, абсолютно ничего!