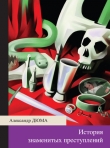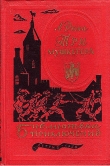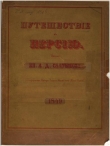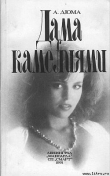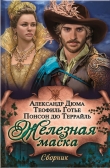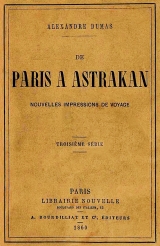
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 52 страниц)
Лошади, которым волки внушают инстинктивный ужас, становятся безумными. Та, что идет рысью, рвется в галоп, а те, что идут галопом, стремятся ее искусать. В это время охотники палят без разбора: нет нужды целиться.
Свинья верещит, кони ржут, волки воюют, ружья грохочут. Этот концерт ― на зависть Мефистофелю на шабаше. Тройка, охотники, свинья, волчья погоня становятся единым вихрем, уносимым ветром и вздымающим снег вокруг, и в то же время все подобно грозовой туче, мечущей в небе гром и молнии.
Пока кучер справляется с конями, мчащими напропалую, все хорошо. Но если он им больше не хозяин, если упряжка за что-нибудь цепляется, если тройка опрокидывается, то тогда все пропало. На следующий день, на послезавтра, восемь дней спустя, находят обломки экипажа, стволы ружей, обглоданные скелеты лошадей и не все, а только крупные кости кучера и охотников.
Минувшей зимой князь Репнин устроил такую охоту, и она едва не стала для него последней. С двумя друзьями был он в одном из своих имений, что на степной границе: решил добыть волка или, вернее, устроить охоту на волков. Приготовили широкие сани-розвальни, где свободно могли поместиться трое, запрягли тройку сильных коней и вверили их бывалому кучеру ― уроженцу тамошнего края. Каждый охотник прихватил с собой по паре двустволок и по 150 зарядов.
Места были распределены следующим образом: князь Репнин сел лицом назад, а его друзья ― лицом в разные стороны.
Выехали в степь, то есть в безбрежную заснеженную пустыню. Это была ночная охота. Полная луна блистала ― ярче некуда, и ее свет, отраженный снегами, разливался вокруг и мог поспорить с дневным.
Свинью спустили на снег, сани поехали. Почувствовав, что ее потащило, свинья завизжала. Появились волки, но сперва в небольшом количестве, боязливые и держащиеся в отдалении. Мало-помалу, их число увеличивалось, и, по мере того, как их становилось больше, они приближались к охотникам, которые, чтобы начать забаву, все еще сдерживали тройку, несмотря на пугливое нетерпение коней.
Волков было около двух десятков, когда они подступили достаточно близко, чтобы начать бойню. Раздался ружейный выстрел, волк упал. Великая тревога охватила стаю, и охотникам показалось, что она уменьшилась наполовину. В самом деле, вопреки поговорке, гласящей, что волки друг друга не едят, семь-восемь оголодавших зверей поотстали, чтобы сожрать убитого. Со всех сторон в ответ неслись другие волчьи завывания, со всех сторон показались заостренные носы с глазами, горящими как карбункулы. Волки были в пределах досягаемости, и охотники открыли беглый огонь. Но, хотя почти все выстрелы попадали в цель, вместо того, чтобы уменьшаться, стая постоянно разрасталась; вскоре она не была больше стаей, а стала полчищем, плотные ряды которого не отставали от охотников. Волчий бег был таким стремительным, что они, казалось, летели над снегом, и таким легким, что не сопровождался ни малейшим шорохом. Вал их, похожий на немой морской прилив, все время нагонял тройку и не подавался назад перед обильно кормящим его, как было, огнем трех охотников. Они охватывали тройку сзади огромным полумесяцем, оба рога которого начали обходить лошадей. Количество волков множилось с такой быстротой, что можно было сказать, что они появлялись из-под земли. И в их появлении было что-то фантастическое. Действительно, невозможно было объяснить себе, откуда взялись среди пустыни, где за весь день с трудом увидишь двух-трех, две-три тысячи волков.
Перестали принуждать визжать и снова втащили свинью в сани, потому что ее вопли удваивали отвагу преследователей. Огонь не прекращался, но израсходовали уже более половины боеприпасов. Оставалось, может быть, сделать две сотни выстрелов и попасть в окружение двух-трех тысяч волков. Два рога полумесяца все больше выдавались вперед и грозили замкнуться, образуя кольцо, центром которого стали бы сани, кони и охотники. Если бы одна лошадь сейчас упала, то все было бы кончено, а кони в смятении дышали огнем и неслись невиданными скачками.
– Что ты об этом думаешь, Иван? ― спросил князь своего кучера.
– Думаю, князь, что добра здесь не жди.
– Ты чего-то боишься?
– Черти отведали крови, и чем больше вы будете стрелять, тем больше их, чертей, соберется.
– Что же ты предлагаешь?
– Если позволите, князь, то я сейчас отпущу вожжи моих лошадей.
– Ты в них уверен?
– Отвечаю за них.
– А за нас отвечаешь?
Кучер промолчал: очевидно, не хотел принимать на себя это обязательство. Он дал волю коням скакать в направлении замка [господского дома]. Бедные животные, которые итак, можно было подумать, неслись во весь опор, пришпоренные ужасом, рванули вдвое быстрей. Их отчаянная скачка буквально поглощала расстояние. Кучер еще подбадривал их пронзительным свистом, в то время как они описывали кривую, чтобы сбить один из рогов живого полумесяца. Волки потеснились, чтобы дать проскочить лошадям; охотников охватила радость.
– Ради вашей жизни, ― бросил им кучер, ― не стреляйте!
Ивана послушались.
Волки, изумленные неожиданным маневром, мгновение пребывали в нерешительности. Его хватило, чтобы тройка пронеслась версту. Когда волки бросились следом, было слишком поздно: они не могли ее догнать. Через четверть часа охотники были в виду замка. Князь был уверен, что за эти четверть часа кони пролетели более двух лье. На следующий день он объехал верхом поле битвы; обнаружились кости более двух сотен волков. Как видите, такая охота полна острых ощущений.
Читателей, которые столь добры, что готовы после этого поинтересоваться моей дальнейшей судьбой, просим не дрожать заранее: я был приглашен на обычную облаву, что намечалась в лесных угодьях князя Трубецкого, а не на охоту с тройкой.
Пока князь Трубецкой рассказывал мне различные охотничьи перипетии, Санкт-Петербург казался мало-помалу поднимающимся из воды в конце залива. Другие купола, пониже первого, поразившие нас своим видом, сверкали тут и там; одни были золоченые, как купол Исаакиевского собора, другие красовались только звездами. Это были купола Казанского, Троицкого и собора св. Николая. Полагаем возможным не перечислять остальные религиозные памятники; в Санкт-Петербурге не сорок сороков церквей, как в Москве, но все же 46 кафедральных и иных соборов, 100 филиалов-церквей и 45 часовен; все вооружено 626 колоколами! Впрочем, живописного в этом мало, потому что Санкт-Петербург построен на ровном месте.
Два непривлекательных желтых строения типа казарм с двумя крашеными в зеленое куполами бросились в глаза. Два зеленых купола ― головные уборы двух церквей кладбища. Русские питают особое пристрастие к зеленому цвету для церквей и крыш своих зданий, что в обоих случаях неудачен: зеленые купола не сочетаются с голубым небом, зеленые крыши не гармонируют с зеленью деревьев. Правда, здесь небо не часто голубое, и деревья недолго зелены.
– У нас здесь ни зима ни лето, ― говорила Екатерина, но зима белая и зима зеленая.
Минутой позже мы вошли в Неву, что в устье шире Сены в шесть раз, прошли вдоль Английской набережной и остановились перед Николаевским мостом, торжественно открытым четыре года назад.
Со времен Петра I в городе не было мостов на Неве. Морской упрямец хотел, чтобы все население его города, как он, вело морской образ жизни. Переправлялись через реку на лодках и судах, что не всегда было безопасно.
Нас встречали 25-30 человек. Вдруг Хоум, щедроты которого по отношению к рыбам Финского залива были достоверно установлены, ударил в ладоши, радостно подпрыгнул и обнял меня. Он только что среди встречающих узнал свою невесту. Меня же никто не встречал, и я никого не ждал.
На этот раз наш переход с борта «Кокериля» на набережную был легким, и вещи не мешали нам. Мы простились с княгиней Долгорукой, простились с князем Трубецким, повторившим мне свое приглашение на волчью охоту в Гатчину, и расселись по трем-четырем экипажам графа Кушелева, которые ожидали, чтобы доставить нас на виллу Безбородко, расположенную на правом берегу Невы за чертой Санкт-Петербурга, в километре от Арсенала, против Смольного монастыря.
Первое, что должно поразить иностранца, высаживающегося в Санкт-Петербурге, это одноконные экипажи под названием drovskis ― дрожки с их кучерами в длиннополом одеянии, перетянутом поясом с золотым шитьем или следами такого шитья, в колпаке, напоминающем пирог с жирной печеночной начинкой, и носящими на спине медную ромбообразную бляху. Бляха с номером всегда перед глазами того или той, кого они везут, и для которых, если жаловаться на кучера, достаточно снять ее у него со спины и отослать в полицию. Стоит ли говорить, что русская полиция, как и французская, очень редко устанавливает правоту кучеров.
Русские izvoschiks ― извозчики, как все горожане, крайне редко являются уроженцами Санкт-Петербурга. Они, в основном, крестьяне из Финляндии, Великой или Малой Руси, Эстонии или Ливонии. Занимаются извозом с разрешения хозяев, которым платят за эту полусвободу, обычно, от 25 до 60 рублей, то есть от 100 до 250-260 франков. Плата называется оброк.
Есть два вида дрожек.
Первый: небольшой tilbury (фр.) ― легкий двухколесный экипаж; может взять двоих, если потесниться. Экипаж нисколько не выше наших обычных детских повозок.
Второй вид не имеет аналога во Франции; вообразите седло, в котором всадник поместил впереди себя еще двоих. В повозке на скамейку садятся верхом, как на лошадь, только ноги не вставляют в стремена, а ставят на подножку с каждой стороны. Кучер, кто впереди, имеет вид старшего из четырех сыновей Аймона, едущего во главе трех своих братьев на большой турнир к их дяде-императору Шарлеманю. Очевидно, это татарский и общепризнанный экипаж; первый же заимствован за границей и приспособлен к вкусам и потребностям страны.
Мы поднялись вверх по набережной, миновали дом месье Лаваля-Монморанси и оказались на площади Адмиралтейства, понемногу утрачивающей это название в пользу нового сооружения ― Исаакия. Там я признался себе, хотя понимал, что никогда не бывал в Санкт-Петербурге, что я действительно здесь не был.
На набережной слева от меня были дворцы, справа ― сенат, дальше ― Исаакий, прямо ― две колонны, памятник Петру Великому (скульптора Фальконе), Адмиралтейство и бульвар ― обычное место прогулки императоров Николая и Александра, которые, первый особенно, искали там встреч а-ля Генрих IV. Нам представится случай поговорить об этих памятниках, теперь же мы только проедем мимо них.
Через несколько минут мы двигались уже по Марсову полю, где высилась казарма Павловского полка, основанного Павлом, при зачислении в который еще и сегодня требуется иметь вздернутый нос, каким обладал император. Бедный Одри! Если бы он появился в Санкт-Петербурге, то, несомненно, волей-неволей, стал бы полковником Павловского полка.
На Марсовом поле взгляд упирается в Красный дворец, желтый сегодня, ― постоянную резиденцию Павла, зловещий памятник, что, как и замок в Ропше, слышал крики агонизирующего императора. Мельком увидел я угловое окно, занавешенное и закрытое все последние 57 лет. Это окно комнаты смертника. Прежде запрещалось останавливаться и заглядывать в него. Один молодой ливонец, допустивший такую неосторожность, был втолкнут во дворец ― высшую инженерную школу сегодня, раздет, побрит и обращен в солдата на 20 лет. Это случилось при императоре Николае. Теперь Муане может открыто здесь сделать зарисовку, устроившись на углу Летнего сада, без риска стать солдатом и даже без риска быть сосланным в Сибирь. Это действительно так в царствование императора Александра.
Мы поворачиваем налево, проезжаем у подножья памятника Суворову ― не произносите Souvaroff, как произносим мы, французы, безжалостно коверкая фамилию одного из величайших воинов, какие когда-либо существовали, ― и оказываемся на набережной перед крепостью. Да, заметим мимоходом, что это не только очень бездарная, но и очень потешная статуя, перевоплощающая Суворова в Ахилла. Ахиллес оказывает дурную услугу тому, кто одолжил его наряд: то ли наг, то ли в доспехах, Скорей всего, видите статую Веллингтону в Гайд-парке. Такой памятник Суворову стал возможен лишь после его смерти; при жизни он этого не позволил бы, потому что был весьма здравомыслящим человеком. Но поговорим о Суворове в другой раз; вы должны понять, дорогие читатели, что теперь, после 350 лье железной дорогой и 400 лье пароходом, мы торопимся добраться до места.
Мне доставило удовольствие также бросить взгляд с набережной на Летний сад и на его знаменитую ограду, ради которой совершил путешествие в Санкт-Петербург один англичанин.
Высадившись на Английской набережной, он берет дрожки, сказавши:
– Letny sad.
Это значит: «Au jardin d’été (фр.) ― В Летний сад».
Дрожки подвозят его к Летнему саду. Оказавшись у решетки:
– Stoi! ― говорит он.
Вы понимаете, что это означает: «Arrête (фр.) ― Стой!»
Дрожки остановились. Англичанин рассматривал решетку минут десять и два-три раза совсем тихо прошептал:
– Very well! Very well! (англ.) ― Очень хорошо! Очень хорошо!
Затем à l’izvoschik ― извозчику:
– Parrakod, ― крикнул он. ― Paskarré! Paskarré!
Извозчик привез своего седока на Английскую набережную прямо ко времени, когда еще можно было успеть на судно, что возвращалось в Лондон.
– Carracho, ― сказал он извозчику, давая ему гинею.
И он поднялся на борт и отбыл. Решетка Летнего сада, вот все, что он хотел видеть и увидел в Санкт-Петербурге.
Поскольку я прибыл сюда не только из-за ограды Летнего сада, то продолжил путь и проехал по деревянному мосту, поглядывая на крепость ― колыбель Санкт-Петербурга, на колокольню собора Петра и Павла, всю укутанную в деревянные леса, что показалось мне произведением искусства, сравнимым с колокольней в том виде, в каком однажды она предстанет взорам. Эта колокольня ― целая история; будьте покойны, дорогие читатели, мы ее вам расскажем наряду с совсем другими историями; вот куда нас забросило, и надолго.
С деревянного моста Нева смотрится великолепной, именно отсюда она развертывается во всем своем величии. Немногие столицы сравнятся с Санкт-Петербургом, который своим видом обязан этой прекрасной реке. Усвоим хорошенько: грандиозный вид; но я не сказал, что грандиозная действительность. Мы дадим вам возможность пощупать разницу между видимостью и реальностью. Другую сторону медали являет собой, например, мостовая Санкт-Петербурга. В сравнении с ним, улицы Лиона покрыты паркетом. Представьте себе уложенный сплошь овальный булыжник ― камни размером с череп патагонца, одни, и не больше головенки крохотного ребенка, другие ― а поскольку он весь безнадежно расшатан, то и приплясывающие экипажи и танцующих в них пассажиров; кроме того, глубокие колейные рытвины посередине улицы, как на проселочной дороге, груды камней, которым, припасенным заранее, придет черед служить полотном мостовых; брошенные местами вдоль движения шаткие доски, что поднимаются то одним концом, как рычаг, когда наезжает колесо, то другим, когда оно съезжает; после досок ― щебень с пылью на четверть версты; потом снова булыги, проселочные рытвины; еще доски и еще пыль. Такова мостовая Санкт-Петербурга.
Князь Вяземский написал оду, где показана Россия XIX века; первая строфа посвящена улицам и проселкам. Помните, дорогие читатели, что это говорю не я, а русский князь, который должен был в свое время, будучи генеральным секретарем министерства внутренних дел, знакомиться с проселками и захолустьем:
РУССКИЙ БОГ
Нужно ль вам истолковенье,
Что такое русский бог?
Вот его вам начертанье,
Сколько я заметить мог.
Бог метелей, бог ухабов,
Бог мучительных дорог,
Станций – тараканьих штабов,
Вот он, вот он русский бог.
Бог голодных, бог холодных,
Нищих вдоль и поперек,
Бог имений недоходных,
Вот он, вот он русский бог.
Бог грудей и "…" отвислых,
Бог лаптей и пухлых ног,
Горьких лиц и сливок кислых,
Вот он, вот он русский бог.
Бог наливок, бог рассолов,
Душ, представленных в залог,
Бригадирш обоих полов,
Вот он, вот он русский бог.
Бог всех с анненской на шеях,
Бог дворовых без сапог,
Бар в санях при двух лакеях,
Вот он, вот он русский бог.
К глупым полн он благодати,
К умным беспощадно строг,
Бог всего, что есть некстати,
Вот он, вот он русский бог.
Бог всего, что из границы,
Не к лицу, не под итог,
Бог по ужине горчицы,
Вот он, вот он русский бог.
Бог бродяжных иноземцев,
К нам зашедших за порог,
Бог в особенности немцев,
Вот он, вот он русский бог.
Петр Андреевич Вяземский
Раз уж мы находимся в России, удовольствуемся этим самым добрым богом, и не будем относиться к тяготам с большим переживанием, чем народ этой страны.
Итак, продолжая знакомство с мостовой Санкт-Петербурга, в три года разламывающей лучший английский или французский экипаж, мы миновали Арсенал ― громадное кирпичное здание, которое архитектор додумался оставить без окраски, сохраняя его натуральный цвет, потом повернули направо и оказались у Невы, против очаровательного Смольного монастыря, расположенного на ее другом берегу. Проехали набережной еще примерно une verste ― версту… Отлично! Я уже ловлю себя на удовольствии употреблять русские слова. Уясните, дорогие читатели, раз и навсегда, что верста и километр ― одно и то же, что одно понятие можно заменять другим… Проехали, значит, по набережной с версту и остановились перед большой виллой с двумя крыльями, полукругом примыкающими к ее центральной части. Вилла расположена не как у нас ― между двором и парком, а между двумя парками. Экипажи въехали один за другим под своды цветущей сирени. В Санкт-Петербурге мы застали весну, которая простилась с нами в Париже два месяца назад.
На ступени парадного входа высыпала вся графская прислуга в праздничном ливрейном наряде. Внизу у ступеней толпились 25-30 moujiks ― мужиков в красных рубахах и с бородами до пояса.
Граф и графиня высадились из экипажа, началось целование рук. Далее мы поднялись по лестнице на второй этаж и попали в просторный салон с алтарем. Перед ним ожидал нас русский священник, и как только граф и графиня переступила порог, он начал служить мессу. Каждый из нас подошел поближе и набожно слушал молитву. Это была месса счастливого возвращения.
По окончании мессы ― достойный роре ― поп имел доброе разумение не сделать ее долгой ― обнялись, разбрелись по салону, и, по распоряжению графа, слуги проводили каждого в отведенные для нас места. Так что позвольте, дорогие читатели, сначала успокоить вас относительно того, как я устроился.
* * *
Моя квартира ― на первом этаже, выходит окнами в сад, полный цветов; я вам сказал, что весна только что пожаловала сюда. Она ― квартира, разумеется ― с вместительным превосходным салоном для театральных представлений, она ― моя квартира, опять же ― включает еще прихожую, меньший салон, бильярдную залу, спальню для Муане и спальню для меня. Как видите, нам, кого ожидает степной бивак, устроили сладкую жизнь. Если не считать, что нас торопят с туалетом, потому что завтрак ждет, а с туалетом задержка. Вспомните, что первый завтрак опрокинулся на паркет «Кокериля», но граф подобен Антонию, у которого всегда жарилось разом восемь вепрей на вертеле в разных местах, чтобы всегда, когда захочется перехватить кусок между завтраком, обедом и ужином, жарево было под рукой. Несмотря на завтрак, посланный в Кронштадт, метрдотель и здесь, на всякий случай, держал завтрак наготове.
Я поспешил на зов с некоторым беспокойством: сейчас отведаю русской кухни, а ведь наслушался о ней довольно скверных рассказов. Сели за стол…
Вернемся позже к русской кухне, о которой много чего можно поведать не только в гастрономическом, но и в санитарном отношении.
Завтрак окончен, моим первым актом доброй воли было бежать на балкон салона, выходящий на Неву. И вот кое-что о том изумительном виде, что открывается с этого балкона; о том сначала, что видишь прямо перед собой.
Прямо перед балконом ― набережная, от нее вниз на берег реки ведут две большие гранитные лестницы с 50-футовым флагштоком. На нем полощется гербовый флаг графа. Здесь его дебаркадер или, скорее, дебаркадер, на который ступила великая Екатерина, когда оказала честь князю Безбородко прибыть к нему на праздник, устроенный для нее. За дебаркадером, омывая его своими водами, ― медленная Нева; она в 8-10 раз шире Сены в Париже у моста Искусств; река усеяна судами под полощущимися на ветру длинным красными вымпелами, что нагружены еловым строевым и дровяным лесом, идущим из центра России по внутренним каналам работы Петра Великого.
Эти суда никогда не возвращаются туда, откуда прибыли; построенные для доставки леса, они продаются вместе с лесом, разбираемые потом и сжигаемые как дрова. Сопроводители отсюда возвращаются посуху.
На другой стороне Невы, прямо против балкона, высится самое прекрасное из культовых сооружений Санкт-Петербурга: Смольный монастырь, ставший пансионом благородных девиц.
Обзору правой стороны мешает сооружение, заслоняющее горизонт. Центральная его часть подана в восточном стиле, а его главный купол в окружении четырех других, что меньше и ниже, усеян звездами. Еще четыре купола ― в 500 шагах один от другого ― расположены по четырем сторонам света и объединены крепостной стеной. За стеной ― мало привлекательное, казарменного типа четырехугольное здание с 60-80 окнами через равные промежутки. Там живут благородные девицы, принятые в Смольный. Здание построено при Екатерине II итальянским скульптором Растрелли, чтобы служить кафедральным собором институту знатных вдов.
Влево от меня Нева изогнута дугой, она уходит ― не в смысле течения ― к Ладожскому озеру, что лежит в 80 верстах от Санкт-Петербурга. И будьте спокойны, дорогие читатели, мы не покинем Санкт-Петербурга без того, чтобы не сопроводить вас в экскурсии на Ладогу.
Кроме упомянутых, стоящих на якоре у берегов, чтобы не мешать движению, с предпочтением левого берега, вверх-вниз по реке идет под парусом множество других судов, и между ними от одного берега к другому снуют юркие, как рыбы, раскрашенные зеленым, желтым и красным бессчетные лодки ― карикатуры на каики Константинополя.
В стороне двух колоколен, что высятся на нашем, то есть на правом берегу, постройки невысокие и без претензий. Напоминаем, что мы за городской чертой. Равнинная местность, где маловато движения, но роскошные зеленые массивы наполняют ее очарованием. В лье отсюда, примерно, обрывается излука Невы.
Против меня, на том берегу, левее Смольного монастыря возвышается Таврический дворец с приплюснутой ротондой, с огромным густолиственным парком, над которым, будто над темно-зеленым ковром поднят золотой купол Владимирского собора. Эта гранитная импровизация Потемкина вблизи, должно быть, производит эффект так себе, но издали, с приличного расстояния, когда детали не просматриваются, вся ее масса величественно вторгается в пейзаж. Таврический дворец ― известный дар Потемкина вместе с великолепной мебелью, мраморными статуями, золотыми рыбками в прудах, золотой совой, что поворачивает голову и вращает глазами, золотым павлином, веером распускающим хвост, золотым поющим петухом (этих трех золотых птиц и золотое дерево мы увидим в Эрмитаже); дар Потемкина, повторяем, Екатерине II в честь победы над страной, имя которой носит этот дворец. Удивителен даже не размах подносителя даров, а надо сказать, что Потемкин, из года в год радующий свою повелительницу в январе корзиной свежей вишни стоимостью 10 тысяч рублей и приучивший Екатерину к подобным подаркам, удивителен прямо-таки религиозный стоицизм до последнего момента держать все это в тайне. Дворец с парком на четырех арпанах[57]57
Арпáн (фр. arpent) – старинная французская единица измерения длины – примерно 59 м, и площади, равнявшаяся квадратному арпану – примерно 3 425 м2.
[Закрыть] земли появился посреди ее столицы, а Екатерина ничего об этом не знала. Для нее он возник настолько внезапно, что тем вечером, когда министр пригласил императрицу на ночной праздник, устраиваемый в ее честь, и на месте известных ей болотистых прерий она увидела, вдруг, брызжущий светом, полный гармонии и весь украшенный глазурью из живых цветов дворец, то он, показалось ей, встал здесь по мановению фей. Мы позже вернемся к Потемкину и ― добрая фортуна свела нас с 86-летней здравствующей ныне его племянницей, на руках которой он умер, ― позволим себе сообщить о нем некоторые данные, каких никогда не приводили историки.
Это отступление оторвало нас от панорамы, и мы спешим к ней вернуться.
В глубине, правее некуда, раскинулся до самого горизонта, теряясь из виду, Санкт-Петербург ― необъятное беспорядочное нагромождение зданий, разделяемое рекой и вскинувшее шпиль Адмиралтейства, золотой купол Исаакия и звездчатые купола Измайловского кафедрала; все это четко обрисовано на фоне жемчужного неба, слегка тронутого голубым, что отменяет другие цвета, за исключением зеленого цвета крыш. Зеленый цвет ― болезнь, которой страдают все петербуржуа [петербуржцы]. Как месье барон Жерар, автор «Въезда Генриха IV в Париж», который видел все в зеленом свете, так их архитекторы воспринимают только зеленое. Назовем сразу истинную причину этой ереси в живописи. Петербуржуа [петербуржцы] в прежние времена не красили крыш зеленым, как теперь, будто бы в стремлении добраться до 53-го оттенка этого цвета ― у природы, полагаю, их 53; но так как кровли были из черной жести и требовали окраски, им надлежало выбрать краситель, самый стойкий к снегу, дождю и льду. Дешевой и стойкой была черная краска. И вот, одно время, добрая половина крыш северной и восточной России оделась в траур. Император Николай нашел этот цвет скорбным и запретил красить крыши черным, сохранив эту привилегию за короной ― для своих замков.
Вдоволь еще красной краски, цветом в кирпич и гармонирующей с деревьями и небом, да она слабовата, и любители красного вынуждены заново красить свои крыши каждые три года. А вот зеленая краска, содержащая мышьяк, служит семь лет, почти столько, сколько папа римский… Блаженные римляне рассказывают, что подсчитано: правление каждого папы ― от св. Петра до Пия Девятого ― длится в среднем около девяти лет; никто, кроме св. Петра, не правил 25 лет. С появлением каждого нового папы ― бледного, злобного, хилого, рахитичного, с подагрой или разбитого параличом ― которого славят и который почти всегда избран лишь потому, что состояние его здоровья подает надежду в скором времени унаследовать от него святой престол, говорят и такое: «Вот еще один, кто не дотянет до возраста св. Петра». Мой друг папа Григорий XVI не должен был вроде бы подтвердить общее пророчество, но остался, в конце концов, в привычных рамках ― умер на 24 году своего правления.
Я все еще был на балконе и, конечно мог оставаться там еще долго, если бы меня только что не позвали на променад по парку. Парк я видел лишь из окон своей спальни, и впечатление о нем было неполным.
Выходя на ступени подъезда, видишь прямо перед собой липовую аллею шириной в 20 футов и протяженностью с километр. Это главная артерия парка. Справа и слева от нее, на цветочных клумбах, в гуще зелени, высятся на мраморных пьедесталах два бронзовых бюста вчетверо крупнее натуры ― князя Безбородко и графа Кушелева, родоначальников фамилии Кушелевых-Безбородко.
Парк имеет в окружности более трех лье. В его ограде ― река, коринфского стиля храм, в ротонде которого помещена колоссальная статуя Екатерины Второй в виде богини Цереры; статуя бронзовая: князь Безбородко не поскупился на металл; [еще в парке находятся] две деревни и 150-200 разрозненных домов с садами. Не надо думать, что парк вмещает в себя две деревни и 150-200 домов, а ротонду нет; посеянная версия такой злонамеренности ― результат неудачного построения моей фразы. Замок графа обслуживают 80 человек, от дворецкого до женщин на кухне для черной работы; делать черную работу означает ― мыть посуду.
На территории парка живут две тысячи человек. Весь этот маленький мир обожает графа и графиню. Нам встречались только улыбчивые и более того ― лучезарные лица.
Заметим тут же ― может быть, случая больше не представится ― что памятник великой Екатерине воздвигнут в ознаменование присутствия на своем празднике у фаворита Безбородко. Со скульптурным памятником в Екатеринославле, это единственное, что хранит ее образ. Не говорю о купленной мною серебряной медали; она того же выпуска, что и медаль, по которой Мишле[58]58
Мишле Жюль (1798―1874) ― французский историк, считающий народ героем исторического процесса, а великих людей ― лишь «символами», по сути «пигмеями», которые вскарабкались «на послушные плечи доброго гиганта ― Народа».
[Закрыть] сделал выразительный портрет Екатерины ― в несколько линий, полных энергии. Мишле суров к немецкой авантюристке, как он ее называет; это понятно, он ее судит за убийство Польши. Но если бы он приехал в Санкт-Петербург, если бы он с близкого расстояния и твердым беспристрастием оценил вклад, внесенный здесь вдовой Петра III, то целиком и полностью воздал бы ей по справедливости. Что правда, то правда ― Екатерину Великую, так ее назвал Вольтер, он называл ее еще Семирамидой Севера, несомненно, по аналогии с тем, что Семирамида Востока отравила своего мужа Нина. Но, когда мы углубимся в дела такого рода, увидим, что так же, как Петр I не мог спасти Россию, не отделавшись от Алексея, Екатерина никак не могла продолжать труды Петра I, не избавившись от Петра III. Обвинят нас в приверженности к королям или нет, но я нахожу, что историк ― и тот же романист как подлинный народный историк ― не имеет права быть несправедливым к королям по той одной-единственной причине, что они ― короли. Конечно, преступление ― всегда преступление, и история его регистрирует как таковое; но так же, как на суде присяжных ― трибунале для простых людей, на суде потомков ― трибунале для королей нужно учитывать смягчающие обстоятельства. Вы не поставите в один ряд Вильгельма Телля, убивающего Гесслера во имя освобождения Швейцарии, и кюре Maingrat ― Менгра, рубящего на куски свою служанку, чтобы скрыть ее беременность.
Вернемся в парк графа.
Почти 50 арпанов, такой парк находится в распоряжении графа и его семьи, а в конечном счете ― еще и публики, по воскресеньям.
Трижды в неделю, к удовольствию гуляющих, в этом парке звучит музыка. В воскресенье выступают музыканты одного из полков столичного гарнизона; они устраиваются перед замком, в 30 шагах от входных ступеней, в самом начале главной, липовой аллеи, о которой я вам говорил; липовая аллея вся в цвету, как у нас в мае, хотя мы здесь находимся в конце июня, и гудит от медоносов.
По воскресеньям музыка собирает вокруг замка три тысячи человек. Ни ребенок ― тут же мимоходом заметим, что посильно одетые в национальный русский костюм, куда входят шапочка с павлиньим пером, красная или желтая шелковая рубашка, широкие штаны в полоску, заправленные в сапожки с красными отворотами, дети, скажем сразу, милы ― не топчет клумбы, ни женщина, о которых хотелось бы сказать то же, что и о детях: не срывает цветка. В пестрой толпе прогуливаются кормилицы в старинных русских нарядах: чепчик и платье златотканого сукна в крупных цветах. Каждая семья, даже купеческая ― мы говорим о богатых купеческих семьях ― старается нарядить кормилицу. Некоторые наряды обходятся в тысячу, 15 сотен, две тысячи франков.