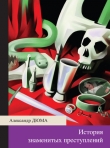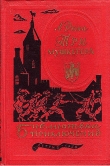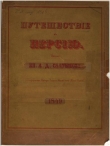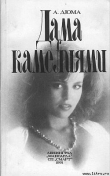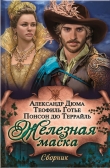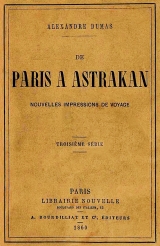
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 52 страниц)
В момент отъезда увидели, что к нам спускается маленький охотник, на которого мы не рассчитываем. Это была Женни, которая, не предупредив никого, велела в Москве заказать ей костюм ополченца, подобный нашему, и с ружьем на плече только теперь объявила свое участие в наших охотничьих забавах.
Ехать понадобилось примерно версту. Охота началась на выходе из парка, а дичь, беспокоемая здесь только Семеном, была непуганой.
Впрочем, этот край России, суровый к своим детям, выглядит не получившим от природы жгучего зародыша изобилия. Я уже говорил, сколько птиц там ― редкость. Известно, что и людей здесь меньше, чем в любом другом краю мира, за исключением пустынных необитаемых широт. Дичь придерживается этого общего закона малочисленности, и не рассыпалась за пределы количества, в которых предназначено ей держаться. Правда, есть компенсация: волки здесь водятся тысячами; трудно поднять глаза и не увидеть даже над Москвой, коршуна, сокола или ястреба, кружащего в небе. Конечно, волк охотится на такую живность, как косуля и заяц; с приходом зимы, в снегах, одолевает голод, и волк охотится на охотника. Несколько лет назад нагрянула такая суровая зима, что, по поговорке ― «голод гонит волка из леса», они вышли из лесов и явились в деревни напасть не только на скот, но и на жителей. Перед лицом такого нашествия власти приняли меры. Организовали облавы и установили премию ― 5 рублей за каждый волчий хвост, который будет предъявлен. Были предъявлены 100 тысяч волчьих хвостов, и было выплачено 500 тысяч рублей ― 2,5 миллиона [франков]. Заинтересовались, справились, провели расследование и обнаружили в Москве фабрику волчьих хвостов. Из волчьей шкуры, что стоила 10 франков, делалось 15-20 волчьих хвостов, которые стоили 350-400 франков; увидели, что с учетом затрат на махинацию, барыш составлял 3,5 тысячи процентов.
Однако у нас были все необходимые условия для удачной охоты. Сто крестьян служили нам загонщиками, а нас, охотников, только двое, Нарышкин и я. Правда, зайцы, что выбегали на меня, сначала не внушали мне желания их стрелять; одни из них были совсем белые, другие ― белые на три четверти. Будто шла облава на ангорских кошек. К великой радости Нарышкина, я упустил первых трех или четырех, в которых стрелял. Окрас не увлекал меня. Бедные зверьки облачались в свой зимний мех.
Русские зайцы ― совершенно другой вид, нежели наши зайцы; шерсть у них по цвету более тяготеет к серой шерсти кролика, чем к рыжей ― зайца; и каждый знает, что они меняют цвет к зиме и становятся белыми, как снег. Это ― защита от врагов, данная им предусмотрительной природой.
Мы охотились четыре или пять часов, и настреляли два десятка зайцев.
Возделана едва ли четвертая часть, может быть, из 60 ― 80 тысяч арпанов земли ― этого огромного владения Нарышкина; по сторонам не видно следов приложения рук, всюду не достает земле человека; и все-таки земля хороша, а там, где зреет урожай, она прекрасна.
У Нарышкина есть другое владение, недалеко от Казани, на берегу Волги, более обширное, чем в Елпатьево, площадью в сотню тысяч арпанов. Ладно, пусть 80 тысяч арпанов, но так же заброшенных и производящих только траву. А по сколько продается сено? По две копейки за дюжину связок, нет даже двух су.
Россия может прокормить в 60-80 раз большее число жителей, нежели она имеет. Но Россия останется малонаселенной и незаселенной, пока будет в силе закон, запрещающий иностранцам владеть землей.
Что касается закона об отмене рабства, с проведением в жизнь которого должно удвоиться, если не число трудящихся, то, по меньшей мере, количество труда, понадобится не менее полувека, прежде чем ощутят здесь первую отдачу.
На протяжении восьми дней, что я оставался в имении Елпатьево, мы охотились трижды. Последние два раза ― в присутствии Муане и Калино; всякий раз мы одолевали целые лье по нетронутым землям, по степям, три четверти которых не производят то же сено, но только вереск, который ни что не годен. Я дал совет Нарышкину устроить там хотя бы пастбища.
– Хорошо! ― сказал он. ― Чтобы говорили: «Porcius Нарышкин», как говорят: «Porcius Катон».[221]221
«Porcius Нарышкин» и «Porcius Катон» ― каламбур, построенный на разном восприятии латинского имени: «Свинарь Нарышкин» и «Порций Катон».
[Закрыть]
Волга
Как я ни цеплялся за время, чтобы его удержать, к моему великому отчаянию, оно всегда уходило, летели часы, за часами ― дни, за днями ― недели. Прошло больше месяца, как я приехал в Москву. Рассчитывал на 15-ть, а оставался 30 дней. Планировал провести в Елпатьеве 3-4 дня, а пробыл 8 дней.
Нижегородская ярмарка, что открылась 15 августа, действовала только до 25 сентября. И надо было покидать добрых и дорогих друзей, с которыми хотел бы провести всю мою жизнь. Было решено, что уеду 13-го вечером, в субботу.
Хотя небо было великолепным, хотя комета[222]222
Комета ― комета Донати со спиральным хвостом, изогнутым на юге, и длинным лучом, отходящим на север, с веерным сиянием в направлении Солнца; по наблюдениям и вычислениям в Дерпте, к 7 октября она приблизилась к Солнцу и Земле соответственно на 12 миллионов и на 16 миллионов миль; прошла под Большой Медведицей, через северную часть Волос Вероники и южную часть Ладьи, мимо Возничего к созвездиям Змея и Весов; по вечерам скрываясь за горизонтом, исчезла с неба Северного полушария в середине октября 1858 года.
[Закрыть] совершала прогулку среди звезд, затмевая их пламенеющим султаном, холод давал о себе знать, и можно было ожидать, что Волга встанет, едва я закончу свою навигацию. Пропустить судно, что курсирует между Тверью и Нижним и отходит из Калязина утром в воскресенье, стоило бы нам еще 8-ми дней, и эти дни могли бы жестоко осложнить путешествие на последнем этапе. Между тем, почти всюду нас ждали; в Москве один молодой офицер, ведающий вопросами армейских лагерей, снабдил меня распоряжением, на основании которого в Казани мне выдали бы полковничью палатку. В Москве же богатый астраханский негоциант месье Сапожников[223]223
Сапожников Александр Александрович ― промышленник и меценат.
[Закрыть] заранее написал управляющему, чтобы тот предоставил в мое распоряжение его дом, самый лучший в городе. Все в той же Москве, о чем упоминал, очаровательная графиня Ростопчина уже написала, думаю, князю Барятинскому[224]224
Барятинский Александр Иванович (1815―1879) ― князь, генерал-фельдмаршал, с 1856 года командующий войсками и наместник царя на Кавказе; сломил сопротивление Шамиля и в 1859 году взял его в плен.
[Закрыть], чтобы известить его о моем приезде на Кавказ. Затем, в Елпатьеве мы приняли доброе число визитеров и среди них ― полкового хирурга из гарнизона в Калязине, взявшего обещание с нас не подниматься на борт, не предупредив его. Двое других визитеров написали, каждый от себя, один ― месье Гpaccу в Нижний Новгород, чтобы мы были уверены, что найдем там пристанище, другой ― калмыцкому князю, в степи которого я намеревался совершить экскурсию.
Наконец, наступило время, когда оставаться дольше стало невозможным для нас, и, должен сказать, в той же степени ― препятствовать нам уехать. За два дня до нашего отъезда Дидье Деланж исчез; вечером, когда предстояло расстаться, я увидел его у Нарышкина, только с дороги, с великолепной гусарской венгеркой, отороченной каракулем. Забираясь на дрожки, обнаружил венгерку расстеленной в экипаже; захотелось побрюзжать, в свою очередь.
– Перестань, ― произнес Нарышкин, ― воображаешь, что позволю тебе ехать на Кавказ в мужицком тулупе? Узнали бы, случись так, что гостил у меня, и был бы я опозорен.
Как поступить? Принять. Что я и сделал. Она мне мало служила в России в 1858-м, эта роскошная шуба; но она мне очень пригодилась в Италии в 1859 году.
Деланж имел поручение проводить нас до Калязина. Временно нагрузив Деланжа заботами обо мне, Нарышкин сделал гораздо больше, чем отдал свою шубу. Два дня, что Деланж употребил, чтобы съездить в Москву и обратно, и день, что потратит теперь, чтобы проводить нас в Калязин и вернуться в Елпатьево, это ― самый долгий отпуск, какой получал Деланж за последние 15 лет. Я же так дурно обращался с моим дорогим боярином в течение шести недель, занимался его перевоспитанием, что мне, конечно, полагалась какая-нибудь казнь.
Прощание было грустным; путешествие к киргизам, калмыкам, татарам и на Кавказ не лишено определенной опасности, кто знает, увидимся ли еще когда-нибудь?
Мы расстались лишь в два часа утра. Я никогда не знал прекрасней ночи даже у берегов Сицилии; комета, сверкающая все ярче по мере приближения к полюсу, пылала, чертя на небесном своде дорогу из перламутра и серебра; высь имела глубину, которая внушала мысль о бесконечности.
Кормушка понял, что, если он не возьмет дело в свои руки, то мы никогда не уедем. Он повернул свою пару коней ударом кнута, и наша легкая повозка понеслась, увлекаемая их двойным галопом. Горизонт был охвачен огнем; несомненно, это ― один из пожаров, о которых уже упоминали, и которые пожирают целые леса.
Через два часа, наверняка сделав от шести до семи французских лье, остановились, чтобы дать отдышаться лошадям, в сельце Троицкое-на-Нерли.
Троицкое-на-Нерли ― вольная деревня.[225]225
Сельцо Троицкое ― до 1764 года принадлежало Переславскому Данилову монастырю; с упразднением монастырских вотчин здесь поселились вольноотпущенные крестьяне помещицы Куманиной.
[Закрыть]
Каким образом Троицкое-на-Нерли оказалось вольным? Выкупило свободу у правительства или у своего хозяина? Сослужило какую-то службу, за которую бесплатно даровали свободу. Этого я не знаю. Ни на один из вопросов держатель постоялого двора, куда я заглянул, не смог ответить. Я узнал, что деревня вольная, вот и все; как она стала такой, не узнал, но, судя по внешнему виду, неоспоримый факт, что Троицкое-на-Нерли куда чище, богаче и более счастливо, чем каждая из рабских деревень, что я повидал.
Маленький постоялый двор, особенно, если учесть его кухню ― всю в фаянсе, был очарователен. Упомянутая кухня представляла собой все понемногу: кухню, столовую, зал и спальню. По необходимости, могла стать даже танцевальным залом, ибо была украшена гигантской шарманкой. Излишне говорить, что хозяин дома не позволил, конечно, пройти мимо такого шедевра, заставил обратить на него внимание. Пока мы принимали его водку из стакана, он устроил для нас парад всего репертуара русских мотивов. Потом, проведав вдруг про нашу национальную принадлежность, сменил пластинку, несомненно, чтобы сделать сюрприз, и бросил в атаку французский репертуар. Мы порывались засвидетельствовать музыкальное удовлетворение и заплатить за водку вдвое против того, что она стоила, но он, со своей стороны, претендуя на роль гостеприимного хозяина, не желал получать ни за водку, ни за музыку. Я вернул рубль в свой карман и заменил его рукопожатием. При посещении избы этого славного человека мне доставило большое удовольствие ощутить приятно разлитое мягкое тепло вместо удушающей, смрадной, нездоровой жары, которая охватывает путника, со свежего воздуха переступающего порог, чтобы провалиться в одну из печей этого рода, где живут русские крестьяне. Во время моей поездки в Бородино, а ночи там не были теплыми, хотя стоял август, дважды я пробовал войти в эти избы, и оба раза был вытолкнут зловонием и жарой.
В пять часов снова отправились в путь. В семь прибыли в Калязин. Пароход отходил в полдень.
Калязин не показался свободным городом, ибо я не видел ничего более мерзкого, чем постоялый двор, где мы были вынуждены остановить наших лошадей. Попытались устроиться в номере, вроде чердака, откуда мы вытурили дюжину воронов. Но несколько мгновений спустя нестерпимый зуд в ногах принудил нас тут же уйти искать другое пристанище.
Я остановился на минуту у одного грязного двора взглянуть на дюжину русских девушек, которые готовили квашеную капусту, напевая глубоко грустный мотив. В России много таких вот напевов, и они очень хорошо передают несказанную меланхолию, о чем я говорил, сопровождающую русского в его радостях.
Между тем, я торопился увидеть Волгу. В каждой стране есть своя национальная река: в Северной Америке ― Миссисипи, в Южной Америке ― Амазонка, в Индии ― Ганг, в Китае ― Желтая река, в Сибири ― Амур, во Франции ― Сена, в Италии ― По, в Австрии ― Дунай, в Германии ― Рейн. В России есть Волга, то есть самая большая река Европы. Рожденная в Тверской губернии, она 78-ю устьями впадает в Каспийское море, одолевая расстояние в 750 лье. Волга, стало быть, ― само величие. Я спешил приветствовать Ее Величество Волгу.
К реке вело подобие небольшой лощины, вырытой среди города; понятно, что здесь к хозяйскому, господскому ложу стремятся потоки от проливных российских дождей. Исполинский берег, под которым течет река, мы увидели издали; но, что касается реки, ее не было видно. Только выйдя на самый берег, обнаружили ее лежащей внизу, шириной как одна из наших второстепенных рек: l’Orne ― Орн или l’Yonne ― Ионн. Весной, когда начинается таяние снегов, она поднимается на 20 футов и часто выходит из берегов; но стояла осень, и потому Волга была укрощена донельзя. Пребывая в некотором разочаровании от экскурсии на реку, повстречали нашего хирурга. Деланж, человек слова, предупредил его о нашем приезде, и он прибежал предложить у него позавтракать. С легким сердцем мы приняли приглашение, потому что, благодаря нашей успешной охоте и таланту Кутайсова [Кутузова], который обратил в снедь зайцев, тетеревов и куропаток, мы прихватили к завтраку часть этих припасов; и это наше богатство, образованное, благодаря погребу Нарышкина, откуда в ящики повозки было переложено всякое разнообразие, вкупе с богатством хирурга придало ему отваги испросить у нас позволения ― пригласить к столу несколько товарищей. Разумеется, разрешение было дано. Но, несомненно, в товарищах у него состоял весь офицерский корпус, так как через час все, кто носил эполеты с бахромой и без, от младшего лейтенанта до подполковника, переполнили его необъятный салон. Каждый принес, что сумел раздобыть, таким образом, наше пиршество достигло размаха свадеб Каны[226]226
Кана ― Кана Галилейская, где Христос на свадебном пиру обратил воду в вино (см. Евангелие от Иоанна).
[Закрыть], а по закускам ― свадеб Гамаша[227]227
Свадьбы Гамаша ― пир на весь мир; Гамаш ― богатый крестьянин, у которого Дон-Кихот и Санчо Панса были на свадебном пире.
[Закрыть].
Это еще не все: по приглашению, в свою очередь, прибыла музыкальная команда, и под нашими окнами вдруг грянул огромный духовой оркестр.
Мы пили кофе, когда, ровно в полдень, предупредили, что пароход причалил и ждет нас. Пароходы ― мессье, которые быстро утомляются ждать, поэтому мы поспешили опорожнить рюмки и вышли, взявшись под руки, друзьями, как если бы знали друг друга 20 лет. Оркестр, который, понятное дело, не был обойден вниманием и много получил от наших щедрот, завидев, что мы направляемся к пароходу, почел за лучшее, что мог он сделать, это сопровождать нас туда. Он и последовал за нами, оглашаясь самыми веселыми мотивами. Все население Калязина, который никогда не видывал подобного празднества, шло за оркестром.
Мы поднялись на борт, к великому удивлению пассажиров, что задавались вопросом, кем были путешественники, в честь которых могло греметь такое многократное «ура» и могли так реветь взбешенные трубы. Но их удивление удвоилось, когда увидели, что офицеры прошли по трапу, ведущему на пароход. Оркестр, играющий без передышки, последовал за офицерами. И самый веселый из общества крикнул мажордому:
– Гарсон, все шампанское, что есть у тебя на борту!
Капитан подумал, что пора вмешаться.
– Господа, ― подобострастно обратился он к офицерам, ― имею честь обратить ваше внимание, что мы отправляемся через пять минут, и в этом случае, разве что вы едете с нами до Углича…
– Дельно, ― сказал я, смеясь, ― почему бы вам ни прокатиться до Углича?
– Да, да, идем в Углич! ― закричали самые удалые из общества.
– Господа, ― сказал подполковник, ― напоминаю вам, что без разрешения полковника вы не можете сделать подобную каверзу.
– Хорошо, направим депутацию к полковнику! ― закричали офицеры.
– Это было бы лучше всего, но полковника нет в Калязине.
– Хорошо, дайте нам разрешение в отсутствие полковника.
– Господа, это выше моих полномочий.
– О, командир, командир! ― заговорили все умоляющим тоном.
– Невозможно, господа; не могу вам дать такое разрешение.
– Командир… ― сказал я, в свою очередь.
– Но, ― добавил командир, ― я могу дезертировать, как и вы, и понести такое же наказание, что и вы, отправляясь с вами провожать до Углича господина Дюма.
– Ура командиру! Да здравствует командир! В Углич! В Углич!
– С оркестром? ― спросил я.
– Отчего же нет? ― ответили офицеры. ― Музыка, алле!
– А, черт возьми! ― вскричал Деланж, бросая вверх свою шляпу. ― Пусть боярин говорит, что угодно; я тоже, я дезертирую, еду до Углича.
– Сколько бутылок шампанского, мажордом?
– Сто двадцать, господин офицер!
– Что поделаешь! Не много, но довольно, чтобы похмелиться. Ставь 120 бутылок.
– В таком случае, господа, можем отправляться? ― спросил капитан.
– Как хотите, старина.
И мы отчалили в шуме труб и пробок шампанского, которые взлетали вверх. Каждый из этих милых сумасбродов рисковал получить две недели ареста ради того, чтобы остаться со мной дольше на пять-шесть часов.
Нужно видеть, как русские пьют шампанское, грузины ― кахетинское и флорентийцы ― напиток «Тетуччьо», чтобы оценить вместимость некоторых привилегированных желудков. Я воспользовался первым, какой осенил, предлогом, позволяющим выйти из игры и удалиться от действия к покою. Поэт Лермонтов давал здесь такую возможность.
Русские, вчера рожденный народ, еще не имеют ни литературы, ни музыки, ни живописи, ни национальной скульптуры; у них есть лишь поэты, музыканты, художники и скульпторы, но их не так много, чтобы сформировать школу. Впрочем, люди искусства в России умирают молодыми; можно сказать, что древо искусства пока недостаточно сильное, чтобы растить свои плоды до созревания.
Пушкин был убит на дуэли в 37 лет [1799―1837].
Лермонтов был убит на дуэли в 26 лет [1814―1841].
Гоголь, романист, умер в 42 года [1809―1852].
Иванов, художник, ― умер в 51 год [1806―1858].
Глинка, музыкант, умер в 52 года [1804―1857].
Лермонтов, кого я уже назвал, ― дух масштаба и силы Альфреда де Мюссе[228]228
Альфред де Мюссе (1810―1857) ― французский поэт-романтик и автор романа «Исповедь сына века», датированного 1836 годом.
[Закрыть], с которым он имеет огромное сходство, будь то стихи, будь то проза. Он оставил два поэтических тома, где можно прочесть поэму «Демон», стихи «Терек», «Спор Казбека с Шат-Эльбрусом» и множество других – в высшей степени замечательных произведений. В прозе его схожесть с Альфредом де Мюссе еще больше. Печорин или Герой нашего времени ― брат Сына века; только, по-моему, лучше построенный и конструкции более прочной, он предназначен для более долгой жизни.
Русские к Пушкину и Лермонтову, а женщины ― особенно к Лермонтову, относятся с таким энтузиазмом, какой испытывают бедные поэзией народы к первым поэтам, придающим ритм и гибкость их языку. Их энтузиазм тем более легко плещет через край, что не может быть разделен другими народами, так как русский почти незнаком никому, кто не рожден на пространстве от Архангельска до Кракова и от Ревеля до Дербента. Поэтому самый надежный способ польстить русскому это попросить у него перевод одного-двух стихотворений Пушкина или Лермонтова, учитывая, что вообще русские великолепно говорят на нашем языке.
В наши добрые трогательные вечера в Москве и Елпатьеве переводчиков было в избытке. И никого, включая настоящего потомственного боярина Нарышкина, вечно недовольного переводами других, кто ни снизошел бы сделать собственный перевод.
Мы сказали, что женщины были особенно расположены к Лермонтову. Я видел женщин, которые знали наизусть всего Лермонтова и даже изъятые цензурой стихи, каковых нет в томах. Приведу пример по ходу моего плавания вниз по Волге.
Многие стихотворения Лермонтова просятся положить их на музыку; те, что положены, русские женщины держат на фортепьяно и никогда не заставят себя упрашивать спеть Лермонтова. Маленькая пьеса из одной строфы, напоминающая мелодию Шуберта и названная «Горные вершины», для всех русских девушек есть то, чем для всех немецких девушек является гетевская «Маргарита за прялкой». Этот небольшой романс замечателен глубокой грустью. Вот он, насколько может, разумеется, французский перевод дать представление о русском оригинале:
ИЗ ГЁТЕ
Горные вершины
Спят во тьме ночной;
Тихие долины
Полны свежей мглой;
Не пылит дорога,
Не дрожат листы…
Подожди немного,
Отдохнешь и ты.
Неуловимый, но реальный шарм этого стихотворения очевиден.
Тот из наших офицеров, к кому я обратился, был счастлив, таким образом, оказать мне услугу, о которой я его попросил. Он перевел для меня очень значимое стихотворение Лермонтова под названием «Дума», оно тем более интересно, что выражает взгляд самого Лермонтова на этих вот соотечественников.
Я передам его содержание почти так же, как фотография передает жизнь.
ДУМА
Печально я гляжу на наше поколенье!
Его грядущее – иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомненья,
В бездействии состарится оно.
Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом,
И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом.
К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно-малодушны,
И перед властию – презренные рабы.
Так тощий плод, до времени созрелый,
Ни вкуса нашего не радуя, ни глаз,
Висит между цветов, пришлец осиротелый,
И час их красоты – его паденья час!
Мы иссушили ум наукою бесплодной,
Тая завистливо от ближних и друзей
Надежды лучшие и голос благородный
Неверием осмеянных страстей.
Едва касались мы до чаши наслажденья,
Но юных сил мы тем не сберегли;
Из каждой радости, бояся пресыщенья,
Мы лучший сок навеки извлекли.
Мечты поэзии, создания искусства
Восторгом сладостным наш ум не шевелят;
Мы жадно бережем в груди остаток чувства –
Зарытый скупостью и бесполезный клад.
И ненавидим мы, и любим мы случайно,
Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,
И царствует в душе какой-то холод тайный,
Когда огонь кипит в крови.
И предков скучны нам роскошные забавы,
Их добросовестный, ребяческий разврат;
И к гробу мы спешим без счастья и без славы,
Глядя насмешливо назад.
Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодовитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьи и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом.
Мы закончили перевод, когда после поворота на одном из изгибов Волги услышали крики наших компаньонов:
– Углич! Углич!
Я поднял голову и увидел на горизонте настоящий лес колоколен.
* * *
Я занимался переводом Лермонтова с таким рвением, потому что невозможно увидеть ничего более грустного, чем берега Волги от Калязина до Углича. На протяжении этих 30 ― 40 верст река глубоко запрятана между разрушенными всеми паводками Волги двумя склонами, лишенными даже зеленого шарма. С приближением к Угличу, расположенному в излучине Волги, правый берег реки понижается и развертывается в плато, где и построен город.
Слава Углича совсем уж легендарная; жуткая драма, значение которой должно было сказаться на судьбах России, произошла здесь в 1591 году. Мы много говорили об Иване IV, кого русские назвали Грозным, другие князья, его современники, ― Палачом, и кого мы назовем Безумным. Подлый и суеверный, никогда не видавший поля боя, ни одной из победных баталий, которые прославили его правление, в то же время он ― определенная историческая величина, и некоторое народное уважение до сих пор связано с его именем. То, что было в его правление, это ― отброшенные поляки, побежденные татары, начало смутного прозрения русских относительно своих великих судеб и познание собственной нарождающейся силы, русских, объединенных рукой его тирании, организованных его деспотизмом. Мы рассказали, как он умер. Умирая, он оставил от семи-восьми браков двух сыновей: Федора и Démétrius ― Димитрия. В приступе гнева, вспоминают, он убил Ивана, третьего сына. Отцу наследовал Федор, а титул царевича перешел к маленькому Dmitry ― Дмитрию, хотя греческая [ортодоксальная, православная] церковь признает законными наследниками только детей, которые родились в результате первых четырех браков; Дмитрий же был рожден от седьмого. Но, так как Федор был человеком мягкого характера и слабого здоровья, ему не предрекали долгой жизни и боялись волнений вслед за возможной смертью Федора, если трон не будет закреплен за подрастающим Дмитрием.
Для него большим удовольствием ― мы говорим о Федоре ― было проговаривать молитвы, предаваться чтению божественных легенд или самолично звонить в колокола, чтобы сзывать верующих к службе.
– Это пономарь, а не царевич, ― говаривал, вздыхая, Иван Грозный.
С подобным характером, с подобной организацией управление такой империей, как Россия, было невозможно; поэтому Федор, весь в молитвах, чтении, религиозных забавах, отдал власть своему шурину ― Борису Годунову[229]229
Годунов Борис Федорович (около 1552―1605) ― царь с 1598 года; скоропостижно скончался в разгар борьбы с Лжедмитрием I; царем был провозглашен малолетний царевич Федор, но 1 июня 1605 года восставшие горожане свергли Годуновых, и Федор был убит.
[Закрыть]. Сначала, прежде чем стать фаворитом, он ходил в звании обер-шталмейстера, потом в более значительном ранге ― регента. Праздный король из рода Рюрика, Федор держал у себя дворцового управделами. Благорасположение к нему вело начало от Ивана, хотя Годунов происходил от татарского мурзы. При старом короле он занял место в имперском совете, и, странная вещь, милость к нему пришла подле хищника с человеческим лицом, потому что он был единственный, кто отважился протянуть руку, когда тот ударил своего сына, и поднять умирающего сына ― жертву отца. Он воспользовался влиянием, чтобы выдать замуж за Федора свою племянницу Ирину. Регент сразу определил каждому свое место: Федору ― ответственность, себе ― акты, своей родственнице ― расположение и милости. Таким образом, ответственность, то есть самый тяжкий груз, свалилась на того, кто был чужд всякой административной деятельности. Борис обеспечил себе почет, родственнице ― признательность.
По завещанию Ивана, город Углич был определен как удел малолетнему Дмитрию. Борис отослал ребенка в его удел и, под предлогом заботы о воспитании молодого князя, он туда удалил ― выражение «он туда сослал» было бы более правильным ― вдовствующую царицу, Марию Федоровну, и трех дядей царевича: Михаила, Григория и Андрея Нагих. Борис знал от родственницы, что у нее с Федором не будет ребенка, знал от врачей, что тот умрет молодым. И он поступил соответствующим образом.
В 1591 году, то есть в эпоху, когда Генрих IV осадил и взял Париж, малолетнему Димитрию [Démétrius] было 10 лет, и он держал в Угличе свой маленький двор из воспитателей и офицеров большого звания. Не стоит говорить, что некоторые из этих сановников были платными шпионами Бориса. Значительное пособие на содержание малолетнего князя выплачивалось через секретаря регентской канцелярии по имени Михаил Битяговский[230]230
Битяговский Михаил (?―1591) ― дьяк, приближенный Бориса Годунова, управлял дворцовым хозяйством вдовы Ивана IV, Марии Нагой, жившей в ссылке в Угличе с сыном, царевичем Дмитрием Ивановичем; он действительно был обвинен Нагими в убийстве царевича и вместе с сыном Даниилом растерзан угличанами.
[Закрыть], всецело человека Бориса Годунова. Нужда в деньгах этого маленького двора, особенно из-за трех развратных дядей, охотников и пьяниц, была огромной; они вели дискуссии, в которых князья ссылались на свой ранг, как бухгалтер на свои ведомости, и которые всегда заканчивались триумфом Битяговского, чувствующего поддержку регента. Битяговский мстил за себя мелочными притеснениями, что всегда доступно человеку, заведующему кассой. Дяди отвечали непристойными речами. Царица принимала сторону своих братьев и внушала юному Дмитрию [Dmitry] ненависть к Борису. Эти речи повторялись при дворе. Эта ненависть ребенка переходила границы: говорили, что слабеющее здоровье царя находилось в зависимости от колдовства, творимого тремя татарами, что один из них, в частности, Михаил, содержал астролога, который сообщался с коллегами Франции и Италии. Припоминаются восковые изображения, Ла Моля и Коконна, препровожденные на эшафот 20-ю годами ранее, такие же приемы были-де испробованы в отношении Федора.
Что касается юного Дмитрия, то это был достойный сын Ивана Палача; в 10 лет, утверждают, он обладал всеми кровавыми инстинктами покойного тирана. Не довольствовался тем, чтобы смотреть, как бьют животных. Он калечил их своими руками с варварской изощренностью, что заставляло обливаться кровью сердце чувствительного Бориса. Более того, налицо было самое большое преступление из приписываемых ему; однажды зимой будто бы играл он со своими пажами, и дети, забавляясь, вылепили снежных баб. Каждой дали имя одного из фаворитов Бориса. Самая большая из них получила имя регента. Потом в этих призраков швыряли камни, набранные из разваливающейся стены, тогда как малолетний Дмитрий, вооруженный деревянной саблей, лично снес голову тому, что носил имя Бориса, сказав:
– Так же поступлю, когда буду большой.
Теперь обратимся исключительно к факту, простому, историческому.
Около трех часов пополудни 15 мая 1591 года малолетний Дмитрий, которого мать оставила в этот момент, дурачился с четырьмя детьми-пажами и дядьками во дворе своего дворца, в широкой ограде с различимыми еще сегодня пределами, охватывающей сколько-то отдельных жилых построек, из которых какие-то сохранились. Возле него находилась гувернантка Василина Волохова, его кормилица и горничная. Он вытащил нож, чтобы ради забавы втыкать его в землю, целясь в лесные орешки. Вдруг, не слыша ни единого вскрика, кормилица увидела ребенка лежащим на земле и бьющимся в собственной крови. Она подбежала к нему; у него ― открытое горло, перерезана артерия. Он скончался, не проронив ни слова.
На крики кормилицы прибегает царица Мария Федоровна, теряет голову, увидев сына мертвым, хватает палку и сильно бьет ею гувернантку, которую она обвиняет в сообщничестве с убийцами. Затем, безумная от горя, она зовет своих братьев, показывает им тело ребенка и всю ответственность за преступление адресует Битяговскому.
Один из трех братьев, Михаил Нагой, как всегда был пьян. Он приказал ударить в набат с дворцовой церкви.
С первыми ударами набата сбегаются люди, думая, что пожар. Царица показывает мертвого ребенка, избитую до потери сознания гувернантку и, увидев появление Битяговского в сопровождении сына и дворян:
– Вот убийцы, ― говорит она.
Битяговский пытается защищаться, говорит, что ребенок убился сам, упав на свой нож, или поразил себя в одном из приступов эпилепсии, которым был подвержен; но на все его доводы, на всю его защиту мать отвечает только криком обвинения, горя и ненависти:
– Вот убийца!
Битяговский видит, что всякий довод будет бесполезным; он осужден заранее, два десятка рук поднимаются уже его ударить. Он примечает ближайший от него дом, убегает туда, там баррикадируется в минуту; но дверь выбита, его убивают ударом ножа, вилами и палкой. Его сын растерзан.
Ожесточение было так велико, что сын крепостной гувернантки, пытавшийся вернуть на голову хозяйки чепчик, что один из Нагих сорвал с нее в знак высшего оскорбления, был убит в тот же миг и разорван на куски. Сыну гувернантки перерезали горло на глазах матери, которая стала приходить в себя. Василина и дочки Битяговского были спасены священниками церкви Спасителя.
Шум этой резни докатывается до Москвы; царь Федор объявляет, что сам намерен выехать в Углич, чтобы разобрать дело. В момент, когда он выезжает из Москвы, Борис Годунов распоряжается поджечь городской квартал. Крик «Пожар! Москва горит!» стрянет в ушах царя; он возвращается, видит свою столицу, охваченную пламенем, мгновение колеблется; но так как его присутствие может спасти Москву и никак не спасет брата, поскольку тот умер, он возвращается в Москву.
Между тем, Борис взялся провести расследование и наказать виновных.
Материалы следствия сохранились, и протокол в оригинале находится в имперских архивах Москвы, только все историки заявляют, что невозможно доверять одной детали, записанной под давлением такого могущественного министра, каким был Борис Годунов. Из этого протокола следовало, что юный Дмитрий убился сам ножом, который держал в руке, и что обвинения, выдвинутые царицей и ее братьями против Битяrовокого и его детей ― результат безумия или ненависти.