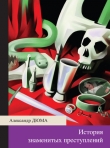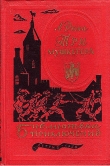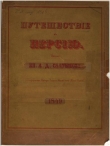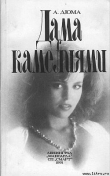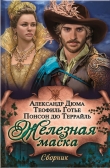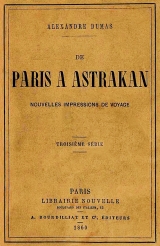
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 52 страниц)
Граф вернулся к себе в глубокой задумчивости. Он почувствовал странную симпатию к девушке, но решил этого ей не показывать. В течение года, говоря с нею, как с посторонней, следил за нею взглядом, тая в себе растущее чувство. Через год он был убежден, что встретил женщину, созданную самим богом для его счастья; через год они оба встретились на той же могиле. Она была той же: очень красивой, наивной, чистой, скромной девушкой. В этот момент граф принял решение.
На следующий день он явился к ней и просто, но серьезно сказал, что полюбил ее, и умолял ее согласиться стать его женой. Девушка упала на колени, воздев руки к небу и позволив вырваться лишь этим вот словам:
– И я тоже люблю вас!
Ничто не препятствовало свадьбе, с обеих сторон оговоренной такими счастливыми условиями. Через месяц свадьбу отпраздновали.
В течение 15 лет граф был самым счастливым человеком в России. С молодой женой он повторил путешествия, что прежде совершил один, показал ей Европу, а ее ― Европе. Потом он вернулся в Россию и обосновался в Санкт-Петербурге, сокрушаясь только вслух о том, что бог не благословляет его в детях, которые любили бы их мать так же, как он любит свою жену. Этот нежный союз двоих оставался стерильным.
Однажды странная весть разнеслась по Санкт-Петербургу, а оттуда облетела всю Россию: граф в возрасте 56 лет пустил себе пулю в лоб, а его вдова немедленно ушла в монастырь, передав свое богатство в церковные фонды. Долго не знали причины самоубийства и самозаточения, но вот что, наконец, приоткрылось в этой странной истории.
Граф вернулся домой настолько разгоряченный вином после вечера с ужином, что не узнал свою мать, несмотря на сопротивление, стиснул ее в объятьях, заглушил ее слова поцелуями. На следующий день, ничего не говоря, мать удалила сына от себя и осталась наедине с угрызениями совести. Они привели ее в монастырь ― на промежуточную станцию перед могилой. Умирая, она исповедалась попу, сказав ему, что в результате этой кровосмесительной ночи родилась девочка.
Молодой граф вернулся в Россию, увидел ту, которая приходилась ему одновременно сестрой и дочерью, влюбился и женился на ней. Поп не отважился что-либо сказать: чтобы никогда не раскрыть тайну исповеди? Но, умирая в свой час, он обо всем написал в синод, делая его судьей ужасного, не укладывающегося в сознании события. Синод постановил, что должен все открыть графу и потребовать от него немедленного разрыва с женой.
Граф получил письмо синода, отослал его своей жене и, пока слуга нес его из его комнаты в комнату графини, пустил себе пулю в лоб. Женщина ушла в монастырь.
Такова первая из обещанных историй. Переходим ко второй; она совсем свежая, в чем можно будет убедиться.
В этом году, где-то в начале мая, месье Суслов ― богатый или, как минимум, богатеющий собственник из Олонецкой губернии, следовал Невским проспектом в двухместной карете; пара коней шла быстрой рысью. Ехал он с дочкой, девушкой 17-18 лет ― очаровательной невинной невестой одного человека, которого она любила. Люди, хорошо осведомленные, в каком состоянии богатство месье Суслова, говорили, что свадьба его дочери весьма выгодна и в этом отношении превосходит всяческие ожидания. Итак, дитя было счастливо вполне. Что касается отца, то те, кто его знал 15-16 лет, утверждали, что ни разу не видели его улыбки.
Вдруг, месье Суслов вспоминает забытый маршрут; его кучер должен тут же поворачивать, и он просит дочь передать кучеру этот приказ. Дочка высовывает голову в оконце кареты; но, прежде чем она успела сказать хоть слово, молнией проносятся одноконные дрожки и оглоблей расшибают голову мадемуазель Сусловой. Девушка падает в кузов кареты с раздробленным черепом, и на руках месье Суслова оказывается бездыханное тело.
Это дитя было его жизнью, единственным, что держало его на земле. Его друзья слыхали от него, что если он ее потеряет, то застрелится.
И, однако, он не проронил ни слезинки. Приказал кучеру повернуть домой, взял на руки тело своей дочери и послал за врачом не для того, чтобы пытаться вернуть ее к жизни, так как душа покинула тело некоторое время назад, а чтобы констатировать смерть. Кончина была подтверждена, и грустно, но хладнокровно, как все, что делал, он занялся похоронами. Один иностранец, который его повидал, даже не догадывался, что тут же угодил в такую пропасть в жизни этого человека. Через три дня после похорон у того ничего не осталось от прекрасной лилии, которая так ослепительно цвела какой-то миг. По возвращении из склепа месье Суслов попросил, чтобы его отвезли к главному полицейскому чину, доложили о нем, и рассказал следующее.
– Ваше превосходительство, ― сказал он, ― десять лет назад я отравил своих тестя и тещу, чтобы быстрей прибрать к рукам их состояние. После этого преступления, о котором никто не знал, ничто мне не удавалось; и наоборот, все оборачивалось злом против и вокруг меня. Банкир, у которого я положил на счет 100 тысяч рублей, обанкротился; мои деревни и леса сгорели, неизвестно от чьего огня; мой скот пал от эпизоотии; жена умерла от злокачественной лихорадки; наконец, моя дочь только что погибла от известного вам и почти непостижимого несчастного случая. Тогда я сказал себе: «Божья десница на тебе; повинись и искупи вину». Вот он я, ваше превосходительство, во всем признаюсь, делайте со мной, что хотите.
Месье Суслов, заключенный в крепость, ожидает суда и выглядит, если не повеселевшим, то, по крайней мере, более спокойным, чем когда-либо.
Мои истории невеселые, но признайтесь, дорогие читатели, что они оригинальны. Как и страна, которая, несмотря на офранцуженную поверхность, не похожа на другие страны.
* * *
Вы помните, что я вышел из резиденции герцога д’Оссуна, оставив визитную карточку в когтях медведя, убитого его величеством Александром II ― самым отважным и самым неутомимым охотником на медведей в империи, где среди других империй больше всего медведей. Я не стал затягивать свой визит по двум причинам: костюм, на верность которому осудила меня таможня, и желание отправиться за несколькими нужными мне книгами к соотечественнику Дюфуру. Он преемник Белизара и издатель la Revue francaise ― «Французского журнала», лучший французский, подобно тому, как Исаков ― лучший русский книгопродавец в Санкт-Петербурге. Я рассчитывал найти у него несколько книг, которые мне были необходимы, и которые я не взял с собой, опасаясь затруднений, чинимых русской таможней путешественникам из-за некоторых книг, что находились, как мне было известно, под запретом при императоре Николае. Я не знал, что в этом отношении, как и во многих других, императором Александром предоставлена самая большая свобода.
Я застал Дюфура дома. Он уже слышал о моем приезде. У него побывала очаровательная молодая женщина ― мой друг последние 25 лет, хотя ей только 33 года, чтобы спросить, видел ли он меня и знает ли место моей петербургской остановки. Она немного и ваш друг, дорогие читатели, потому что не скажешь, что вам совсем неизвестна Женни Фалькон[63]63
Фалькон Женни ― младшая сестра Мари-Корнели, актриса Михайловского театра в Санкт-Петербурге, жена Дмитрия Павловича; супруги были похоронены в имении Елпатьево Переславль-Залесского уезда Владимирской губернии, в каменном храме; Елпатьево ныне отнесено к Ярославской области.
[Закрыть] ― сестра Корнели Фалькон[64]64
Фалькон Мари-Корнели (1812―1897) ― известная французская певица, дала свое имя голосу драматического сопрано.
[Закрыть], которой вы аплодируете 10 лет подряд в театре «Опера», и которой вы аплодировали бы еще, если бы болезнь, влияющая на голос, не заставила ее уйти со сцены в расцвете таланта.
Я знал Корнели Фалькон со времени ее дебютов. С 1832 года нас связывает истинно братская дружба. В то время ее сестра Женни была 7-летним ребенком… Но, надо сказать, самой красивой, самой шаловливой и самой избалованной изо всех 7-летних девочек.
Ее мать, в ту пору в возрасте 37 лет, была еще одной из самых красивых женщин Парижа. Вы вспоминаете Корнели, не правда ли? Она была очень красива! Ну и хорошо, ее мать, по виду ее старшая сестра, могла бы вполне конкурировать с нею.
Корнели занималась воспитанием своей маленькой сестры. Пансионат Парижа, из числа лучших, не избаловав сердца девочки, что случается редко, от природы живой и восприимчивый ум сделал одним из самых изысканных, какие я знал. Она дебютировала в театре «Жимназ» что-нибудь в возрасте 16-17 лет, в пьесе Скриба. Ее дебют был счастливым, и Санкт-Петербург, по своему обыкновению, завладел молодым талантом. Да, ей было тогда 16 лет. В 26-ть она получила содержание и оставила театр, чтобы держать зимний салон, один из самых модных в Санкт-Петербурге. Нет такого благовоспитанного француза, который, будучи в Санкт-Петербурге, не был бы принят на Михайловской площади у мадемуазель Женни Фалькон. Вот уже 15 лет ей принадлежит привилегия давать самые прекрасные балы, держать лучших рысаков и самые элегантные сани из тех, какие когда-либо скользили по деревянному или железному мостам, чтобы попасть на острова.
Один из моих друзей, с которым нас связывают 20 лет дружбы, обладатель самого знаменитого, если не самого древнего имени в России, стал вместе с нею 10-12 лет назад душой этого салона. Этого друга зовут Дмитрий Павлович Нарышкин[65]65
Нарышкин Дмитрий Павлович (1797―1868) ― камергер, представитель рода, известного с середины XVI века; этот род выдвинулся на политическую арену в 1671 году, после второго брака царя Алексея Михайловича, женившегося на Наталии Кирилловне Нарышкиной (1651―1694), будущей матери Петра I.
[Закрыть].
Та мужественная Наталия Кирилловна, которая вызволила своего сына Петра из устроенной стрельцами бойни и увлекла его в Троицу ― Троице-Сергиеву лавру, была Нарышкиной. Она стала женой царя Алексея Михайловича в его втором браке и родила единственного сына ― царя Петра. От первого брака у Алексея был Федор, умерший в 23-24 года; Иван, идиот всю свою жизнь, одно время деливший трон с Петром и умерший в 1696 году (предположительно: у меня нет под рукой никакого справочника, чтобы проверить эту дату); наконец, знаменитая царевна Софья, сыгравшая, как мы видели, слишком авантюрную роль в жизни своего брата.
Нарышкины никогда не стремились быть графами или князьями; они остались просто Нарышкиными, но в их родовом гербе ― орел России.
Есть одно довольно милое предание ― может быть, далекое от правды, за его историческую достоверность не отвечаю, особенно потому, что это предание ― о Наталии Кирилловне и о том, как она стала царицей.
Боярин Матвеев, тот самый, кто был убит стрельцами тогда же, когда они убили Леонида и Афанасия Нарышкиных, о чем я вам рассказал, проезжал через деревушку Киркино, что находится в Рязанской губернии в 25 верстах от города Михайлова, почти полностью населенную разорившейся знатью, кого называют odnodvortzi ― однодворцы, то есть теми, у кого остался только дом. Очаровательный ребенок примерно 12-13 лет заливался горючими слезами на пороге одного из таких домов. Пока в экипаж запрягали лошадей, Матвеев поинтересовался, какое горе обернулось страданием девочки-подростка. И узнал, что единственная раба, которая у нее оставалась и служила ей горничной и гувернанткой, только что повесилась. Отсюда и слезы, проливаемые бедным ребенком. Дальше из расспросов он узнал, что юная сирота происходит из хорошей семьи, жившей в Крыму; увез ее с собой, воспитал как дочь и представил двору. Алексей Михайлович, овдовев, увидел ее, полюбил и сделал ее своей женой.
Правдиво ли предание? Я уже сказал, что за эту его сторону не отвечаю; но и сегодня в родной деревне Наталии Кирилловны бытует еще поговорка, которая гласит: «Если бы девка не повесилась в Киркино, то на свет божий не появился бы Петр Великий». Достоверно, что отец и дед Наталии Кирилловны были записаны в боярскую книгу.
Итак, Женни Фалькон ― мой маленький друг с 1832 года, став моим большим и делаясь все большим и добрым другом, побывала здесь, чтобы узнать обо мне новости у Дюфура. Она оставила для меня краткий наказ-рекомендацию: не медлить ни минуты, чтобы ее обнять. Просила сказать еще, что я нашел бы у нее моего друга Нарышкина, которому тоже, как и ей, не терпится меня увидеть.
Я помчался на Михайловскую площадь и, войдя в салон, увидел четыре руки, раскрытые для дружеских объятий, не считая двух рук, протянутых на мой голос из столовой мамашей Фалькон.
Они меня ожидали уже восемь дней. Объясните-ка это. Я еще не знал, что оставляю Париж, а в Санкт-Петербурге уже знали, что я приеду сюда. И чтобы увидеть меня, Жени и Нарышкин отложили свой отъезд в Москву. Если я задержусь в Санкт-Петербурге не больше, чем на две недели, то они меня подождут, чтобы я поехал вместе с ними. Мне было предложено гостеприимство на их вилле в Петровском парке на все время моего пребывания в Москве. Вот как понимают гостеприимство в России. В этом отношении никого в целом мире не знаю, кто любезностью превосходил бы русскую знать. Я просил дорогих друзей не стеснять себя ради меня, согласился на предложенный особнячок в парке, но мне столько нужно было увидеть в Санкт-Петербурге, что не хотелось брать на себя обязательство о дне отъезда. Назавтра был день рождения Женни. Условились, что, если я получаю вещи из таможни, то принимаю участие в торжестве.
Покидая Михайловскую площадь, я приказал ехать к меняле. У меня было с собой две-три тысячи золотых французских франков, которые я хотел обменять на русские бумажные деньги. Вы же знаете, дорогие читатели, что в России ― стране серебряных и золотых рудников ― почти нет звонкой монеты, а в ходу одни бумажные деньги. Есть казначейские билеты достоинством от ста рублей до одного рубля. Мне было известно, что каждый из моих золотых равен пяти рублям. Каково же было мое удивление, когда меняла дал мне не только положенные 750 рублей, но и 25-30 франков сдачи. Курс французского золотого повысился до пяти рублей и, не знаю, скольких-то копеек. С возрастающим вниманием, чего не было до этого момента, я смотрел на честного менялу, а так как он немного изъяснялся по-французски, я и попросил его объяснить эту нежданную прибавку. Пока он говорил, я слушал и разглядывал его. Он обладал одним из тех чистых и серебряных голосов, какие слышны иногда в Сикстинской капелле. И у него была реденькая, рассеянная мелкими клочками борода. Я понял, что имею дело с индивидом, принадлежащим к секте des scopsi ― скопцов. Есть у вас русский словарь? Найдите глагол ― оскопить. У вас нет словаря, а вы хотите узнать, что такое скопцы? Сейчас попытаюсь растолковать, хотя, предупреждаю заранее, что это нелегкое дело.
Сидит ли в кресле против вас прекрасный длинношерстный ангорский кот, который, вместо того, чтобы бегать по крышам, и прыгать с одной водосточной трубы на другую, преследуя кошек, занят только тем, чтобы есть, тучнеть и спать? Он принадлежит к секте скопцов.
Подан ли к вашему столу один из славных граждан провинции Мен, воспетых Беранже как земные счастливцы, жирный, подрумяненный, хорошо проваренный, вкусный, сочный и с головой, лишенной украшения, которое составляет гордость петуха? Он принадлежит к секте скопцов.
Однажды король Луи-Филипп, будучи ребенком, спросил у мадам де Жанли, своей гувернантки:
– Что такое бык?
– Это отец теленка.
– Что такое корова?
– Это мать теленка.
– Что такое вол?
Автор «Бессонных ночей Замка» минуту пребывала в нерешительности, определение затрудняло ее; наконец, она подобрала перифраз:
– Это дядя теленка.
Пусть так, дядя теленка ― из секты скопцов.
Вот вы и просветились, не правда ли? Теперь мне, в роли непредвзятого судьи, остается объяснить вам, как по собственной воле попадают в такую секту. Попытаемся.
Слово rascol ― раскол в русском языке означает ересь; еретиков называют rascolniks ― раскольники. Скопцы ― раскольники. Раскольники всплыли в правление Алексея Михайловича.
Когда его фаворит ― патриарх Никон, пересмотрел или, вернее, модернизировал священное писание, фанатики сохранили верность старому тексту, отказавшись признать новый; отсюда бунт. После утверждения нового текста, бунтовщики стали еретиками.
Путешественники, которые писали о России, мало или совсем ничего не сказали о раскольниках. Да, но я-то собираюсь вам поведать много такого, о чем вам еще никогда не рассказывали. А чтобы начать, как бы ни было это трудно, расскажу о скопцах ― ответвлении раскольничьей ереси.
Известно ли вам, сколько раскольников в России? Официально, пять миллионов; в действительности ― одиннадцать. Как видите, они стоят того, чтобы их не обойти молчанием; тем более что эти 11 миллионов человек, число которых с каждым днем возрастает, призваны, и неминуемо, по-моему, играть в будущем некоторую социальную роль. Раскольники делятся на несколько сект, все более противостоящих одна другой и отдающихся во власть все более абсурдных идей. Самая абсурдная и, мало сказать, что самая жуткая из этих сект ― скопцы; она верует в земное существование Иисуса, его святой Матери и святого Иоанна Крестителя. В правление императора Павла эта секта очень разрослась; один крестьянин был ее Христом, одна женщина из простых ― ее Марией, и один жестокий мужик ― ее Иоанном Крестителем. Только его крещение было кровавым. Оно заключалось в кастрации, а так как креститель был варваром, он делал эту операцию варварски при помощи раскаленного докрасна кривого ножа. Каждый третий крещенный умирал.
После появления первого ребенка мужского пола, способного продолжить род, мужа делали немощным, а жену ― стерилизовали. Против церкви Знамения, близ Невского проспекта, фасадом туда, где теперь Московский вокзал, стоял большой деревянный дом с глухо закрытыми ставнями. Здесь и совершались все таинства. В этот дом шли поклоняться Христу, который, по их мнению, был первенцем императора Петра, и в котором они узрели своего бога.
Уверовав в народную легенду, что, после первого ребенка, Петр III сам лишился мужественности в результате несчастного случая, они отказывают в праве престолонаследия Павлу I, кого рассматривают как незаконнорожденного и узурпатора. Что же касается Петра III, то для них не существует его убийства в Ропше. Он только исчез, но не умер; он вернется на землю, и наступит день славного царствования. Как видите, что-то от Мессии евреев.
В дни собраний, а мы сказали, что собрания проходили в большом доме с закрытыми ставнями, их Христос, как бы сын Петра III, и бог под Петра III восседали на троне подле своей матери ― девы Марии. Члены секты входили и падали ниц перед Христом.
Следом за этим со своего места поднималась и держала речь богородица, советуя им быть чистыми и верными культу. Далее начиналось пиршество, стол которого состоял исключительно из фруктов, овощей и молочного. Мясо, рыба, любая убоина, наконец, для них настрого запрещены. Иногда, однако, и в определенных лечебных случаях, они могли есть рыбу, но сырую, чтобы не воспламенять кровь.
После пиршества начинались strady ― страды (производное от глагола stradat ― страдать, что значит souffrir le martyre ― испытывать мученичество). Слово страды ― старинное, забытое, которое помнят только ученые.
Страды были медленным и спокойным вначале танцем, похожим на танец вертящихся или, скорее, кружащихся дервишей; мало-помалу он становился неистовой, исступленной, все ускоряющейся пляской, несущейся вокруг трона Христа и его матери. Танец всегда заканчивался прострацией плясуна, который, исполнив все его стадии, испытывал чувство удовольствия, смешанное с безотчетным ужасом, ― все во славу божью, безграничную. Отсюда слово страды. В разгар плясок делались операции.
Павел I узнал об этой секте и пожелал увидеть Христа. Призвал к себе мужика, игравшего роль Иисуса. Он увидел фанатика, который верил сам в свое божественное происхождение и возглашал свое право не только на небесную корону, но и на корону всея Руси. Павел сослал Христа и Марию в Сибирь, а святого Иоанна Крестителя ― в Олонецкую губернию. Поскольку Христос и Мария, поглощенные столь ужасающими просторами, которые так редко отдают назад однажды взятое, не объявились больше никогда, скопцы сочли их вознесшимися на небо и ждут их возвращения. Что касается святого Иоанна Крестителя, его адепты радовались, что не теряли его из виду: Олонецкая губерния соседствует с Санкт-Петербургской. Он умер и был погребен в Олонецкой губернии, где сохранилась его могила. Сектанты совершают паломничество к этой могиле и, отправляясь в обратный путь, уносят камешки или землицу, взятые возле нее, измельчают это до состояния пудры и, когда больны, принимают с водой. Никак не заметно, чтобы от этого они умирали чаще правоверных, которых пользуют местные врачи. Могила стала святым местом, и по ночам там делают операции.
Эта секта, преследуемая правосудием, очень богата. А правосудие в России подобно Аталанте[66]66
Аталанта ― участница Калидонской охоты и похода аргонавтов.
[Закрыть]: останавливается, когда ему бросают золотые яблоки. Почти все les menialy ― менялы являются скопцами. Менялами называют les changeurs от слова менять, означающего changer (фр.). Эти менялы скупают все золото и серебро царства; отсюда и дефицит металла двух этих видов. Так как вера запрещает им любые излишества стола, а физическое состояние исключает любовь, они живут без особых расходов и, будучи избавленными от страсти в любой степени ее проявления, почти всегда скапливают колоссальные богатства. Ими владеет не только любовь к барышу, но и желание быть при деньгах в день, когда приидет славное царствование, то есть в день, когда святое семейство спустится на землю. Скопец ― мужской род от слова scopsi ― испытывает ужас перед иностранцем, но больший ужас, быть может, ему внушают правоверные соотечественники. Все, чего коснулся иностранец, считается poganai ― поганым, то есть оскверненным.
Мы сказали, что раскольники разделились на множество ветвей, мы должны были бы назвать самые крайние из них.
В числе сект, которые ― полная противоположность скопцам, есть секта Татаринова. Этот Татаринов был статским советником в чине бригадного генерала и руководителем секты.
Одна пророчица собрала сторонников у себя и назвалась матерью Христа. После ряда посвящений в таинство принесли две клятвы: никогда ничего не открывать другим и всегда оставаться холостяками. Женщины, со своей стороны, решили никогда не выходить замуж или, если они насильно выданы замуж родителями, не порывать с сектой. По окончании официальной части, связанной с приемом новых членов, гасили свет и дружились наугад.
А вот как все открылось.
Молодой человек, по имени Апрелев, брат которого был старшим помощником морского министра, женился, несмотря на клятву, данную ассоциации. Павлов, другой посвященный фанатик, мать которого дважды пешком ходила в Иерусалим на положении нищей странницы, хотя была женой полковника, вечером спрятался в спальне новобрачных за дверной портьерой и ударил Апрелева кинжалом со словами:
– Это я!..
Апрелев свалился замертво. Павлов даже не пытался бежать. Арестованный, заключенный в крепость, он по-старинному был допрошен с применением пыток и осужден на смерть. Старик, который находился при крепости 55 лет ― а это, думаю, происходило в 1812 году ― сказал одному из моих друзей, что только второй раз за последние полвека он видел применение пытки. Первый раз такому допросу подвергся Мирович, который хотел освободить молодого Ивана (Антоновича). Мы расскажем вам эту историю, когда отправимся в Шлиссельбург.
Павлову не достало сил выдержать следствие. Он все признал, отказался от общества, каковое и было рассеяно по разным монастырям. Татаринов и пророчица исчезли. В России, как в Венеции, исчезают. Император Александр II решил, что в его царствование такого не будет, и что всякий обвиняемый, кем бы он ни был, будет судим публично.
У Татаринова были две дочери, которых он силой вовлек в общество, бросив их, таким образом, в этот сладострастный коммунизм.
Не кажется ли вам, что я рассказываю один из эпизодов античной вакханалии, что немного приподнимаю завесу, за которой сокрыты тайны Доброй Богини? Взгляните-ка сюда, мы одалживаем страницу у Мишле:
«Некий Тит Семпроний Рутилий предложил своему зятю, опекуном которого был, посвятить его в тайны вакханалий, что из Этрурии и Кампании пришли в Рим. Когда молодой человек сообщил об этом куртизанке, которую любил, ту, казалось, охватил ужас, и она сказала, что его теща и тесть, вероятно, испугались отчитаться перед ним в расходах и захотели от него отделаться. Он укрылся у одной из своих теток и обо всем поставил в известность консула. Куртизанка, допрошенная, сначала запиралась, боясь мести посвященных, затем призналась. Эти вакханалии были исступленным культом жизни и смерти, среди обрядов которого были проституция и убийство. Тех, кто отвергал бесчестие, отдавали в объятия механического приспособления, и сбрасывали в глубокие подвалы. Мужчины и женщины вслепую соединялись во мраке, потом буйно бежали к Тибру и плавали в реке с зажженными факелами, что пылали над водой символом немощи смерти перед неугасимым светом жизни в этом мире.
Следствие вскоре позволило установить, что только в Риме семь тысяч человек замешаны в этих мерзостях. Всюду поставили стражу, провели ночные проверки; целую толпу женщин, которых обнаружили среди задержанных, отослали к их родителям для домашнего наказания. Из Рима очистительный террор распространился на всю Италию: по сигналам с мест, консулы прочесывали город за городом».
Так вот, эти секты, вместо того, чтобы угасать, каждый день плодят в России новообращенных. В Москве мы снова наткнемся на раскольников, которых, повторяем, насчитывается 11 миллионов среди населения всея Руси.
* * *
Мимоходом мы сказали пару слов о Красном дворце, сегодня окрашенном в желтый цвет, о старой императорской резиденции, ставшей Инженерной школой. Он высится за Летним садом, на другом берегу реки Фонтанки, через которую переброшен мост. Построить его велел Павел I, как и казарму знаменитого Павловского полка, куда могли попасть только курносые, потому что это был полк императора, а император имел вздернутый нос. Дворец и казарму соединял подземный ход.
Дворец покрасили в красный цвет в память о капризе любовницы Павла ― носить красные перчатки. Любовницу звали Анна Лопухина. Она происходила из рода несчастной Евдокии Лопухиной ― первой жены Петра Великого, матери Алексея, которая увидела сына после того, как ему сделали кровопускание из рук и ног, посаженного на кол любовника и четвертованного брата, уж не считая, что Петр велел перепилить надгробный камень другого ее брата, опоздав перепилить ему шею.
Павел был без ума от любовницы. Ее отец ― генерал сената, то есть министр юстиции ― возымел желание, какого не было у Нарышкиных, хотя обе фамилии, Нарышкины и Лопухины, были императорскими; он захотел стать графом. Однажды, подталкиваемая своим отцом Анна попросила Павла I оказать ему эту милость.
– Хорошо! ― сказал тот. ― Вижу, к чему вы клоните; хотите стать графиней; ну, хорошо, вы будете княжной, моя прелесть!
И на следующий день, 18 января 1799 года, Лопухины стали князьями.
У Павла I были фантазии такого рода, и он иногда забавлялся тем, что заставлял взбегать по ступеням социальной лестницы, гражданской или военной некоторых счастливцев, по своей прихоти, за время, меньшее, чем требовалось, чтобы заполнить и подписать дипломы.
Однажды он совершал прогулку в открытой коляске; увидел идущего прапорщика, лицо которого ему показалось симпатичным. Он остановил экипаж и сделал знак прапорщику подойти. Когда Павел пребывал в гневе или радости, его лицо приобретало жуткое выражение. Прапорщик приблизился, весь дрожа.
– Кто ты, труха и пыль? ― спросил Павел.
Павел величал пылью своих подчиненных, несмотря на их ранги. И кто же, если не пыль, любой перед суверенами, которые могут все?
Пыль ответила:
– Покорнейший прапорщик полка вашего величества.
– Врешь, ― отозвался император, ― ты ― младший лейтенант; садись сюда!
И он указал молодому человеку на заднее сидение в своем экипаже, приказав слуге уступить ему место. Молодой человек поднялся в коляску, И она покатила дальше. Шагов через 20 император оборачивается.
– Ты кто? ― спрашивает молодого человека.
– Младший лейтенант, sire, благодаря милостям вашего величества.
– Врешь, ты ― лейтенант.
Еще через 20 шагов император оборачивается вторично.
– Ты кто? ― опять спрашивает он.
– Лейтенант.
– Врешь, ты ― капитан.
К дворцу прапорщик прибыл генералом. Если бы Красный дворец располагался на сотню шагов дальше, то прапорщик подъехал бы к нему фельдмаршалом.
Были у Павла и странные привязанности; примером тому генерал Копьев. Этот Копьев выступал в роли маленького пажа у Павла, когда тот сел на трон, и находился при нем все время от гатчинской ссылки до обретения всемогущества. Маленький паж был беден, но искрился остроумием. Грозный взгляд Павла, не пугавший его, когда тот был великим князем, не вселял в него страха и тогда, когда Павел стал императором всея Руси.
Павлу постоянно было душно; когда он находился один в своей комнате, он мерял ее большими шагами вдоль и поперек, затем подходил к окну, сам распахивал его, полной грудью вдыхал свежий воздух, притворял раму, подходил к своему столу, брал порцию табаку на манер великого Фридриха ― Павел I, как и Петр III, был фанатиком короля Пруссии ― закрывал табакерку, клал ее на стол, снова ходил, задыхался еще больше, опять подходил к окну, открывал его, дышал, вторично закрывал окно, вновь брал порцию табаку, и все это повторялось до бесконечности.
Табакерка была его фавориткой. Без приказа императора, никто не смел ее касаться. Тот, кто прикоснулся бы к ней, был бы на месте поражен молнией ― ни больше ни меньше ― и даже сильнее, наверняка, чем если бы он схватился рукой за святой нимб.
Копьев же однажды заключил с товарищами пари ― не только тронуть священную табакерку, что было бы преступлением лишь против табакерки, но взять из нее порцию табаку, что станет уже преступлением против его величества. Предприятие казалось настолько невозможным, что побились не обычным, а двойным закладом, как на скачках, когда иные зрители почти уверены, что выиграют. Копьев тоже не мог упустить выигрыша ― бог знает, каким чудом! Копьев уповал на свою счастливую звезду: не раз уже его проделки смешили императора, а император не смеется часто. Другой вошел бы, пока Павел стоял спиной к двери, другой наинежнейшим образом открыл бы табакерку. Копьев вошел, когда император направлялся от окна к двери; входя, он позволил скрипеть двери, сапогам и паркету; подошел к табакерке на столе и раскрыл ее с таким же щелком, какой 50 лет спустя понадобился, чтобы столь мощно содействовать успеху пьесы l’Auberge des Adrets (фр.) ― Корчма Адре; дерзко погрузил в нее два пальца, ухватил приличную порцию табаку и, вопреки рекомендации цивилизованного мира детям и благовоспитанным людям, шумно втянул ее через нос.
Император, глядя на то, что он вытворяет, пришел в изумление от его дерзости.
– Что ты там делаешь, плутишка? ― вымолвил он, наконец.
– Ваше величество видит, что делаю; беру табак.
– Зачем ты его берешь?
– Затем, что подле вашего величества нахожусь на страже со вчерашнего вечера, и бодрствовал всю ночь ― выполнял свой долг, не смыкая глаз; затем, что чувствую, что засыпаю и предпочитаю быть наказанным за непристойное поведение, нежели допустить нарушение моих обязанностей; я взял щепоть табаку, чтобы не уснуть.