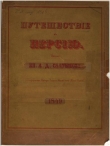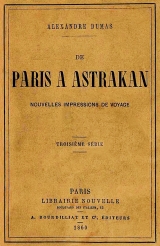
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 52 страниц)
Вот что написал о нем 25 августа 1751 года посол Англии лорд Букингем:
«В отношении Ивана мнения разделились: одни говорят, что он полный идиот, другие ― что ему недостает только воспитания».
А 20 апреля 1764 года узнали вдруг, что молодой князь убит в своей тюрьме в результате попытки его освободить, предпринятой лейтенантом Мировичем.
Одно и то же трактовали двояко; только оба рассказа сходились в одной и той же точке, то есть у пропасти. Этой пропастью была смерть.
Вот что говорили сторонники Екатерины.
Мирович был казаком, дед которого был разорен, потому что встал под знамена Мазепы; характера беспокойного, гонимый бедностью, не в силах смириться с упадком своей семьи, Мирович поддался идее восстановить ее благоденствие одним их тех путчей, какие предприняли Мюних и Лесток. Он забывал, что всякий раз, когда фаворит приводил к власти регентшу или императрицу, первой заботой регентши или императрицы было развязаться с фаворитом. Отсюда падение Мюнихa, отсюда падение Лестока.
Поскольку такое решение засело в мозгу молодого человека, как говорят только сторонники Екатерины, то поэтому якобы, будучи в страже Шлиссельбургской цитадели, он задумал освободить Ивана.
Такова первая версия. Теперь переходим ко второй, которая не лишена правдоподобия и, между прочим, замечательным образом подсудна гению той демократизированной политики, исходя из которой английский посол, месье Финч, сумел записать в одну из своих депеш следующую жуткую фразу:
«Я не знаю здесь никого, кто в другой стране мог бы сойти за мало-мальски честного человека».
Вот вторая версия.
Вроде бы Екатерина открылась своему фавориту; в то время ее фаворитом был Григорий Орлов, а не Потемкин, как это ошибочно заявляет автор, у которого мы заимствуем справочные данные. Екатерина, говорим мы, будто бы поделилась со своим фаворитом опасениями относительно заключенного, несмотря на категорический тайный приказ его стражу ― убить узника при первой же попытке его освободить, если она будет предпринята.
Вроде бы фаворит убедился, что такой приказ об убийстве действительно существует и, после этого, выстроил весь свой план.
Собранные сведения подтвердили то, что ему говорили: в самом деле, по характеру Мирович ― мятежен и честолюбив.
И якобы он вызвал молодого казака, дал ему возможность заметить страхи императрицы и пообещал золотые горы, если он их рассеет.
Но каким образом рассеять ее страхи? Дело довольно простое. Отдан приказ убить Ивана при первой же попытке его освободить, если она будет предпринята. Пусть Мирович совершит эту попытку, Иван умрет… Что же до него, то не только пощада, но еще и богатство ему обеспечено за мнимый заговор.
Получая подобное предложение от фаворита императрицы, молодой человек ничуть не сомневался, что в действительности оно исходило от самой императрицы. Он согласился и получил первую сумму денег ― тысячу рублей.
На эти деньги он подкупил человек двадцать; затем, с этими людьми, готовыми ему помогать, будто бы он направился к коменданту крепости и потребовал у него предоставить молодому Ивану свободу.
И здесь обе версии сливаются в одну.
Комендант отказался. По приказу Мировича, солдаты набросились на коменданта и связали его по рукам и ногам. Он уже не мог воспрепятствовать умыслу Мировича, и тот велел хранителю порохового склада выдать его солдатам боеприпасы. Когда боеприпасы были выданы, Мирович двинулся к дому князя.
Но все эти действия происходили не без шума, а шум донесся до слуха капитана и лейтенанта, из которых первый находился в спальне князя, а второй ― в его передней.
Мирович постучал в дверь, объявляя, что он ― хозяин положения в крепости, и требуя отдать ему императора. Капитан и лейтенант отказались. Мирович настаивал и, после вторичного отказа, приказал своим людям топором и прикладами выломать дверь. Тогда капитан и лейтенант заявили, что поскольку инструкции предписывают им убить заключенного в случае заговора, направленного на его освобождение, они будут вынуждены сейчас выполнить свои инструкции, если заговорщики не отступятся без промедления. Лишь с большим ожесточением Мирович принялся за дело.
Вдруг раздался крик, такой пронзительный, что, несмотря на шквал ударов, обрушенных на дверь, заговорщики его услышали.
– Убивают императора! ― закричал Мирович, подавая пример другим в сокрушении двери.
Дверь, наконец, была выбита. Но он слишком опоздал, стражники выполнили приказ.
Иван спал или притворялся спящим. Внутри железной клетки. Сквозь ее решетку капитан поразил его ударом шпаги. Этот выпад и был причиной крика, который услыхали заговорщики. Затем молодой князь встал грудью против нападающих, хватая клинки руками и сопротивляясь так, как только мог в подобной ситуации. Он вырвал одну из шпаг и через прутья клетки защищался, как умел. Бедный узник думал, что после стольких несчастных дней провидение должно его вознаградить; он не хотел уходить из жизни. Он получил уже семь ран, но еще сражался; только восьмая его убила.
В этот момент в спальню ворвался Мирович. Князь делал последний вздох. Убийцы сняли ограждение с окровавленной постели; затем, поднимая к потолку железную клетку:
– Вот его труп, ― сказали они; ― делайте с ним, что вам заблагорассудится.
Мирович берет на руки тело молодого князя, несет в кордегардию и покрывает его знаменем. Потом, предлагая своим солдатам преклонить колена перед императором, сам падает на колени и целует его руку. Потом, срывая с себя накладной ворот и перевязь с саблей и складывая их у тела:
– Вот ваш истинный император, ― говорит он; ― я сделал все, что мог, чтобы его вам вернуть; теперь, когда он мертв, не вижу больше никакого смысла жить, потому что своей жизнью я рисковал ради него.
Мирович был арестован, препровожден в Санкт-Петербург и заключен в крепость. Процесс по его делу начался на следующий день; он проявил там много выдержки, достоинства и стойкости. Те, которые утверждали, что Мирович был агентом Екатерины, под таким поведением узрели лишь его убежденность, что фаворит выполнит данное ему обещание.
На вопрос ― «Есть ли у вас сообщники?» он всегда отвечал отрицательно, поясняя, что солдаты и унтер-офицеры, которые пошли за ним, могут рассматриваться не как соучастники, а только как послушные ему подчиненные.
Наконец, 20 сентября было вынесено судебное решение: Мировича приговорили к колесованию. Императрица смягчила наказание, заменив эту казнь обезглавливанием.
Казнь состоялась в крепости. Единственными присутствующими на ней были солдаты, судьи и палач; поэтому неизвестно, что сказала жертва в свой последний час. Нет сомнения, что слишком опасно было повторить ее слова.
Молодой Иван мертв, Мирович мертв; несколько набожных голосов набрались мужества посоветовать Екатерине разрешить семье де Брунсвик покинуть Россию.
«Теперь поговаривают, ― писал Букингем за два дня до приговора Мировичу, ― что удовольствуются разрешить семье де Брунсвик уехать из России и что назначат ей пансион».
Это лучшее, что могла бы сделать Екатерина. Уверяют также, что она это обещала; но она ничего не сделала, и несчастный герцог де Брунсвик и его дети остались забытыми во льдах Северной Двины.
У меня есть рубль младенца Ивана, отчеканенный во время его 7-месячного правления; очень редкая монета, потому что Елизавета, вытравливая все следы этого правления, распорядилась о переплавке денег. Это, может быть, единственное в мире изображение императора в пеленках.
* * *
В Шлиссельбурге пароход останавливался на час. У Муане было время сделать рисунки крепости, вид с нижней точки, то есть с левого берега Невы. Не будем говорить, что он укрылся для этого, после моего предупреждения об опасности, которой чревато такое занятие; с русской полицией шутки плохи для артистов, делающих наброски цитадели. За преступление этого рода пострадал один молодой француз, практикующий в Санкт-Петербурге в качестве учителя, то есть de professeur (фр.). Молодой человек был братом моего доброго друга Ноеля Парфе. И случилось с ним это, на самом деле, в наше время, в период Крымской войны.
Словом, пока наши солдаты осаждали Севастополь, наш компатриот с двумя из своих друзей решил использовать праздник, не знаю, какой, дающий ему неделю отпуска, чтобы осмотреть места до западного побережья озера. Вряд ли стоит напоминать, что в начале марта Ладога, Нева, Балтика скованы льдом. Основной целью прогулки было катание на коньках. Бедный Иван или, скорее, память о нем, так как уже давно 9-месячный император был не более чем историческое воспоминание, бедный Иван был там ни при чем. Коньки были средством передвижения, позволяющим, не сказал бы ― школьникам на каникулах, но преподавателям на каникулах, очень легко приблизиться к цитадели. Ведь Шлиссельбургская крепость, расположенная прямо посередине истока Невы, в месте, где река вытекает из озера, со всех сторон окружена водой.
К великому беспокойству часовых, эти вот мессьe носились вокруг политических стен старой твердыни, касаясь льда коньками не более чем ласточки касаются воды своими крыльями.
И все бы ничего, если бы нашим французам ― а кто говорит «француз», тот говорит «сумасшедший» ― хватило ума с элегантной непринужденностью, почерпнутой на льду Тюильри, остановиться в элегантных позах; но один из них надумал сесть на скалу, извлечь из своего кармана альбом и, несмотря на 18-градусный мороз, делать зарисовки цитадели.
Часовой позвал капрала, капрал ― сержанта, сержант ― офицера, офицер кликнул восемь человек и, когда наши три француза, согреваемые жарким костром, сидели за добрым обедом и за неимением лучшего пили за Францию qwass ― квас, ворота отворились, и им объявили, что им оказана честь стать пленниками его величества ― императора всея Руси. В итоге, им даже не дали времени покончить с обедом; их обыскали, забрали документы, связали друг с другом из боязни, чтобы один или двое из них не потерялись, посадили в тележку и повезли в Санкт-Петербург. По прибытии в Санкт-Петербург, их препроводили в крепость. Они потребовали встречи с графом Алексеем Орловым, фаворитом императора.
К счастью, граф Алексей Орлов ― человек очень умный или, вернее, был таким, потому что, думаю, он уже умер, и повидал столько заговоров, что перестал о них думать. Он отправился в тюрьму, со строгостью, но учтиво допросил одного за другим заключенных, сказал им, что, хотя они очень провинились, он надеется, что, по своему великодушию, его величество может пожелать смягчить весьма тяжкое наказание, каковое они заслужили, тремя-четырьмя годами ссылки в Сибирь.
Бедные преподаватели были совершенно ошеломлены. Одно из главных преступлений, в каких их уличали, кроме зарисовок Шлиссельбургской цитадели, состояло в том, что они пили квас за процветание Франции. Казалось, что использование в подобных целях национального напитка России намного утяжеляло и без того огромную их вину.
На следующий день, около десяти часов вечера, у ворот крепости остановился тщательно закрытый экипаж ― наполовину карета, наполовину арестантская телега. Заключенным дали знать, что днем вынесен приговор, и теперь речь шла о том, чтобы они испытали его на себе. Окончательно сокрушенные, какими они стали, заключенные призвали на помощь свою французскую гордость и противопоставили превратностям судьбы свои славные сердца. Они отважно вышли, взяли друг друга за руки, утешились, увидев, что к ним проявили милость и не разъединяют их, и решительно поднялись в экипаж. Дверцы были герметически закрыты, и экипаж затрясся от рыси четверки сильных коней.
Но через десять минут, к великому удивлению ссыльных, карета остановилась, въехав под каменный свод. Дверцы раскрылись, И вместо казаков, кого ожидали увидеть заключенные, в проеме предстали перед ними лакеи в парадных ливреях.
Заключенные сошли к подножью великолепно освещенной лестницы, на которую лакеи указали им как на дорогу, которой они должны следовать. Колебаний не было. Они поднялись по ступеням наверх и были введены в залу со столом, сервированным со всем великолепием, какое бывает у крупных русских вельмож. В этой столовой их ожидал граф Алексей Орлов.
– Мессье, ― обратился он к ним, ― ваше главное преступление, как я вам это сказал, состоит в том, что вы пили за процветание Франции русский напиток. Этим вечером, поднимая бокалы шампанского за процветание России, вы искупаете свою вину.
Все, как один, патриоты, наши французы исполнили это с легким сердцем.
Муане оказался счастливее преподавателей. Он не только закончил рисунок без инцидента, но еще после этого пришли сказать, что в ответ на мою просьбу, комендант разрешил нам побывать в крепости. Не теряя ни минуты, мы сошли с парохода и велели вести к мрачной башне. Южные нервы Миллелотти не позволили ему нас сопровождать. Он видел столько римлян, погибших в замке Святого Ангела, что боялся, как бы ворота Шлиссельбурга, однажды закрытые за ним, больше не отворились. Мы чтим этот священный ужас.
Шлиссельбургская крепость не содержит внутри ничего особенного; как во всех крепостях есть там дом коменданта, казармы солдат, камеры заключенных. Только дом коменданта и казармы солдат на виду. Что касается казематов для заключенных, то неплохо кончил бы тот, кто угадал, где они находятся. Лишь в одном из углов крепости видна низкая и темная, отталкивающего вида железная дверь, к которой не позволяют приблизиться даже привилегированным посетителям. Я сделал знак Муане, и тогда как Дандре и я отвлекали внимание коменданта, он сделал набросок этой двери.
Понятно, что я не рискнул задать ни одного вопроса о тайнах крепости; между прочим, знал их довольно хорошо и, может быть, лучше, чем комендант.
Визит был коротким; пароход ждал нас, чтобы отправиться в путь; в Шлиссельбурге пересадка, так как невский пакетбот не осмеливается выйти в озеро, грозное бурями ни более ни менее, чем океан. Ожидал другой пакетбот, который прибыл к нам, и ради которого мы прибыли сюда. Мы увидели, как он двинулся вперед своим султаном дыма, и, когда испытали боязнь, что устал ожидать и сейчас оставит нас в крепости, несмотря на знаки отчаяния, с борта подаваемые Миллелотти, остановился и любезно дал время присоединиться к нему. Мы поднялись на борт, лодка вернулась к берегу, и мы углубились в просторы озера.
Ладожское озеро ― самое большое в Европейской части России; оно простирается на 175 верст в длину и на 150 верст в ширину. Что особенно поражает, это количество островов, которыми оно усеяно. Самые известные или самые большие из них ― Коневец и Валаам. Известность проистекает от расположенных на них монастырей ― мест народного паломничества, почти таких же святых для финляндцев, как Мекка для мусульман.
Сначала мы направились к острову Коневец, куда, если обойдется без происшествий, должны прибыть завтра на рассвете.
Наступил и даже прошел час обеда. Я все ждал, что, как на пакетботе, на Рейне или в Средиземном море, придут объявить, мол, для мессье пассажиров накрыто. Навели справки: увы! Здесь не только не было приготовленного обеда, но даже никакой провизии не держали на борту. Пакетбот предназначался для бедных паломников, каждый из них носит продукты с собой: хлеб, чай и соленую рыбу. Из таких продуктов у Дандре был чай, который необходим всякому русскому, и без которого он не может жить; но у него не было ни хлеба, ни соленой рыбы. Правда, с чаем и парой сахара, то есть с двумя кусками сахара, что разнятся по величине от чечевицы до ореха, русский обходится без всего остального. Но Миллелотти был римлянин, а я ― француз. Дандре отправился в поиск. Он нашел кусок черного хлеба и кусок медвежьего окорока. Мы вытащили из походного несессера тарелки, вилки и ножи; взяли по стакану ― в России лишь у женщин привилегия пить чай из чашек ― и приступили к обеду.
Дандре последовал традиции мадам Ментенон, когда она была еще Франсуаз д'Обинье[161]161
Франсуаз д'Обинье (1635―1719) ― внучка видного гугенота Теодора Агриппы д'Обинье и вдова известного поэта Скаррона (1610―1660); воспитывала побочных детей Людовика XIV, король сделал ее маркизой де Ментенон и тайно сочетался с ней браком.
[Закрыть], жены Скаррона: взамен жаркого рассказывал кавказские истории. Одна из них вынудила меня давиться от смеха, и должен признаться, что не простил бы себе гибели из-за такого скудного обеда. Потому что очень хотел бы пересказать вам, дорогой читатель, эту историю, которая, уверен, тоже заставит вас хохотать. Но я, тот, кто рассказал столько всего, черт меня возьми, не знаю, как мне собраться, чтобы ее рассказать. Тем хуже! Я рискую; вы же предупреждены. Вы ее вытерпите, дорогой читатель, если вы скромник; вы ее переживете, дорогая читательница, если вы ханжа, или со смаком ее прочтете и никому не расскажете.
Во Владикавказе был у Дандре один друг ― квартирмейстер Нижегородских драгун, к которому он привязался, как к брату. Со своей стороны, его друг свою привязанность делил между Дандре и двумя борзыми с кличками Ермак и Арабка.
Однажды Дандре приходит к нему с визитом, а того нет дома.
– Месье нет, ― говорит ему слуга, ― но проходите в его кабинет и подождите его.
Дандре проходит в кабинет и ждет своего друга.
Кабинет выходил окнами на очень красивый сад, одно из окон было открыто навстречу радостному кавказскому солнцу, сверкающему так, что, как и в Индии, оно имеет своих поклонников. Обе борзые дремали, прижавшись одна к другой в позе сфинксов, под бюро своего хозяина; услыхав, как открылась и закрылась дверь, каждая из них открыла глаза, протяжно зевнула и снова погрузилась в сон.
Оказавшись в кабинете, Дандре делал то, что делает каждый, когда ждет друга; он насвистывал нехитрый мотивчик, рассматривал развешенные по стенам гравюры, свертывал цигарку, зажигал серную спичку о подошву своего сапога и курил. Накуриваясь, он довел себя до небольшой колики.
Дандре огляделся вокруг и, убедившись, что находится в полном одиночестве, решил, что может рискнуть; он поступил как дьявол в XXI песне из «Ада» (Смотреть последний стих упомянутой XXI песни). При этих неожиданных звуках обе борзые вскочили, метнулись в окно и исчезли в глубинах сада, как если бы их умчал сам дьявол. Весь ошарашенный таким спонтанным их исчезновением, Дандре замер на какой-то миг с приподнятой ногой, соображая, почему столь заурядный звук сумел вселить в борзых такой ужас, когда они всякий день слышат ружейную и пушечную стрельбу. Между тем, друг появился.
После первого обмена приветствиями, после первых извинений за отсутствие, он пошарил глазами вокруг себя и не мог удержаться, чтобы не спросить:
– Где же мои борзые?
– Ах, да! ― отозвался Дандре. ― Твои борзые, поговорим о них, как о странностях во плоти.
– Почему это?
– Мой дорогой, вообрази: без того, чтобы я сказал им хоть слово или как-то задел, они одним махом вдруг рванули в окно, как бешеные, и, черт возьми, если несутся так же все время, то они должны быть уже в Тифлисе.
Друг глянул на Дандре.
– Ты, наверное… ― сказал он.
Дандре покраснел так, что стыд не залил краской только белки его глаз.
– Черт возьми, ― оправдывался он, ― признаюсь тебе, что, будучи один, не считая твоих собак и не предполагая в них такую обидчивость, я подумал, что мог бы, наконец, в моем одиночестве решиться на то, что декрет императора Клавдия разрешал делать в его компании.
– Это так, ― отреагировал друг, совершенно удовлетворенный, казалось, его объяснением.
– Это так, ― подхватил Дандре; ― очень хорошо! Но мне, мне это ничего не говорит.
– Ох, дорогой мой, все очень просто, и ты сейчас постигнешь тайну. Я очень люблю моих собак; я приобрел их совсем маленькими и совсем маленькими приучил их лежать под моим бюро. Ну вот, время от времени, они делали то, что сделал ты; и чтобы их от этого отучить, я брал кнут и важнецки вздувал собаку, повинную в неприличном поведении. Так как они, как видишь, весьма смышленые, собаки подумали, что им запрещен только звук. И тогда они делали совсем тихо то, что делали очень громко. Ты понимаешь, что предосторожность была несостоятельной, потому что обоняние заменяло слух. Ну, а поскольку я не мог задирать у них хвосты в поисках истинного виновного, то важнецки хлестал обеих. Таким образом, сразу, как только ты позволил себе то, что им запрещено, каждая из них, ни в малейшей степени не доверяя другой, подумала, что провинилась вторая, и из страха понести наказание за чужое прегрешение, бросилась в окно… Еще какое счастье, что окно было открыто, они пролетели бы и сквозь стекла! А теперь, пусть в другой раз это тебе послужит уроком.
– Я придерживаюсь этого совета, ― закончил Дандре; а когда это со мной случается, я смотрю, чтобы рядом не было даже собак.
С продвижением по озеру наш взгляд охватывал все большее пространство воды и берега и впереди, и позади нас. Правый берег относился к Олонецкой губернии, левый ― к Финляндии. По обе стороны тянулись большие леса. Из этих лесов в двух-трех местах, с каждого берега, поднимались столбы дыма. Их подняли моментально возникающие пожары, о которых я уже говорил.
Я пытался вытянуть какие-нибудь сведения об этом явлении из капитана пакетбота, но сразу понял, что не окуплю затрат. Это был тип удилища, тощий, длинный и желтый, затянутый с головы до пят в черный редингот, как в чехол из-под зонтика. Его голова была покрыта широкополой шляпой с таким раструбом, что ее верх достигал той же окружности, какую имели поля. Из-под шляпы к вороту редингота тянулся острый угол: так смотрелось его лицо. Он ответил, что эти пожары вызваны огнем. То есть открыл мне одну из таких бесспорных истин, что я решил, что на это абсолютно нечего возразить.
* * *
К 10 часам вечера началась легкая бортовая качка ― плохое предзнаменование. После восхитительного захода солнца, на горизонт нагромоздились облака, и в их сплошной массе с трещинами света прокатились глухие раскаты грома.
Мы проконсультировались. Нам угрожала буря ― это было ясно, но еще не понимали, с чего, вдруг, наша буссоль расстроилась и в своем безумии больше не отличала севера от юга. Я полагал, что наш капитан будет большим докой в отношении бурь, нежели по части пожаров, и обратился к нему за разъяснением; но он бесхитростно признался мне, что не знает, где находится. По крайней мере, он обладал одним достоинством ― искренностью.
Я не слишком ужаснулся признанию. Не нахожу, в конце концов, что бог плохой рулевой; такой вывод, быть может, вытекает из того, что всегда, когда полагаюсь на него, я попадаю в порт.
За разговорами мы оставались на палубе до полуночи. В полночь выпили чаю, чтобы протолкнуть наш обед, затем легли спать на скамьях: мои компаньоны по путешествию, завернувшись в свои манто, я ― как был. Я приобрел прекрасную привычку всегда быть в одном и том же наряде, днем и ночью, летом и зимой.
Проснулся около четырех часов утра; судно, которое, подобно почтовым лошадям, привыкло к своему однообразному маршруту, обошлось без помощи буссоли и пребывало правее острова Коневец.
Поначалу, открыв глаза, я мало интересовался видом озера, крапчатого от черных точек, сквозь бледные сумерки Севера, кажущиеся прозрачным туманом. Но эти черные точки были головами монахов, тела которых скрывала вода, и руки которых были заняты тем, что тянули огромную сеть. Было их около 60-ти.
Против обыкновения русских ночей, всегда таящих что-то от зимы, эта ночь была тяжело жаркой и удушливой. До берега было около сотни шагов; не знаю, почему, но капитан не оказывал никакого давления, чтобы нас высадить. Я молча сбросил с себя одежды, сложил их в углу и прыгнул за борт в озеро.
Мне приходилось купаться на другом краю Европы, в Гвадалквивире, и я не досадовал на возможность искупаться на этом краю все той же Европы, в Ладожском озере; с бухтой Дуарнене[162]162
Бухта Дуарнене ― находится на северо-западе Франции.
[Закрыть], где я тоже купался, составился довольно изящный треугольник; чтобы построить четырехугольник, задаюсь целью искупаться также в Каспийском море, как только представиться случай.
Монахов острова Коневец весьма заинтриговал любопытствующий прыгун в костюме Адама, только что приплывший взглянуть на результаты их рыбной ловли. Их сеть ― огромный невод ― наполняли тысячи рыбок, размером и видом напоминающих сардин; но меня особенно восхитило, что в оба конца полукружья, образованного снастью, они впрягли по коню и, таким образом, им оставалось лишь перебирать сеть; лошади делали остальное, то есть самую тяжелую работу. Это вмешательство «третьих лиц» показалось мне достойным всяческих похвал, и я попытался выразить жестами добрым отцам, насколько я этим удовлетворен. К несчастью, заставить их меня понять было так же трудно, как если бы я имел дело с жителями острова Чатем[163]163
Остров Чатем ― расположен к востоку от Новой Зеландии в группе тихоокеанских вулканических островов; открыт английским мореплавателем У. Р. Броутоном.
[Закрыть] или полуострова Банкс[164]164
Полуостров Банкс ― восточная часть острова Южный Новой Зеландии.
[Закрыть]. В последнем усилии попытался говорить с ними на латыни, но с тем же успехом, как если бы я заговорил по-ирокезски.
Нет ничего более, невежественного, чем русское духовенство, черное или белое. Оно делится на священников и монахов, поэтому я говорю: черное или белое. Все священники ― сыновья крестьян или священников; после первой женитьбы они не могут жениться заново, но могут постричься в монахи и стать епископами; нельзя стать епископом, минуя монашество.
Священник получает плату в зависимости от величины церковного прихода. А начальное образование он получает в школе, именуемой Prichodskoe Outchilische ― Приходское училище; детей там учат приходские священники; не зная ничего, они обучают их ничему; как исключение, некоторые из этих преподавателей умеют читать, писать и делать четыре первых арифметических действия; те, кто очень учен, толкуют и рассказывают священное писание, которое знают. Посвященный из этого пансиона переходит в семинарию, где его снова учат тому, что он изучил в школе, и еще грамматике и логике. Наконец, даже большему ― молиться. С этой точки зрения, русский священник может служить примером французскому носильщику, немецкому барышнику и английскому боксеру.
Нравы священников постыдны: кто говорит «семинарист», тот говорит ― «слабоумный» или «бандит».
Более одаренные или большие лицемеры из семинаристов, когда их знания немного превосходят общий уровень, переходят в духовные академии; у них появляется епископский шанс. Ученые или нет, эти епископы отличаются грубостью.
Архиепископ Серафим просил крест для одного из своих секретарей ― архидиаконов. Вместо креста ему предложили благословение Священного синода.
– Что вы хотите, чтобы я сделал (f – asse) c вашим благословением? ― ответил он. ― Наплевать (c – racher) на него сверху!
Не трогайте начальные буквы и поменяйте местами остальные части двух слов, получите точный перевод.
Вы могли бы узнать, что он же, будучи еще просто епископом, гнал из церкви священника, не оказавшего ему знаков внимания, словами:
– Изыди отсюда, или врежу тебе по физиономии своим епископским посохом.
Все это, возможно, немного грубая картина, но тем хуже тем, кто готовит краски.
В иерархии русского духовенства пять степеней, включая пономаря: djatschek ― дьячок (sacristain ― пономарь), кто никак не священник; diakon ― дьякон (diacre); jerei ― иерей (prétre); archejerei ― архиерей (évêque); metropolit ― митрополит (métropolitain). Две первые степени, дьякон и иерей, называются белым духовенством ― beloe doukhovenstvo. Оно должно быть обязательно женато; поэтому дьякон почти всегда наследует какому-нибудь священнику, на дочери которого женится. Дальше идет черное духовенство ― tchornoe doukhovenstvo. Это монахи. Они совсем не женятся, поэтому в их среде происходят самые постыдные дебоши, самые чудовищные совокупления. К тому же, в греческом духовенстве[165]165
Греческое духовенство, греческий крест ― православное духовенство, православный крест; прямого перевода термина «православный» во французском языке нет, это понимается как «греческий» или «ортодоксальный».
[Закрыть] нет капуцинов, августинцев, бенедиктинцев, доминиканцев, обутых или разутых кармелитов; нет серых, белых, голубых, каштановых или других темных одеяний, какие рассыпаны по улицам Неаполя или Палермо. Черные монахи, вот и все; они носят длинную бороду, на голове у них нечто вроде кивера без козырька со спадающим сзади полотнищем черной материи, в руке ― длинный камышовый посох. Служит ли камышовый посох частью наряда? Этого я совсем не знаю, но склонен думать так, потому что никогда не встречал священника без его камышового посоха.
Женщины, епископы и архиепископы носят такой же головной убор, только белый.
Священники, особенно монахи, почти всегда развращены; но редко когда их развращенность доходит до преступления, караемого законом. Все без исключения ― пьяницы и гурманы.
Монашенки в основном мудры.
Приходские священники, особенно в деревнях, пребывают в таком невежестве, которое не способно обернуться никакой мыслью.
Один епископ, будучи в деревне при инспекции своих приходских священников, входит в церковь во время службы, что длится примерно 1,5 часа. Со все возрастающим вниманием он слушает то, что говорит священник, который, замечая его присутствие, прибавляет елейности голосу и бормочет вдвое быстрей.
По окончании мессы епископ подходит к священнику.
– Черт возьми, что ты сейчас говорил? ― спрашивает он.
– Что вы хотите! ― отвечает приходский священник. ― Я собрал это из того лучшего, что у меня есть.
– Как, из лучшего?
– Да.
– Понятно, а знаешь ли ты церковный язык.
Старославянский язык смахивает на сербский говор.
– Очень плохо.
– Тогда скажи, какую молитву ты читал?
– Гм! Определенной молитвы не было.
– Что же было тогда?
– Я читал из «Отче наш», из «Аве», из литаний и всеми усеченными молитвами-уродцами, как видите, закончили службу.
Во время одной из своих поездок император Александр останавливается у приходского священника. Того не было на месте; император обратил внимание на брошенную в угол и покрытую пылью книгу; это была Библия. Император вкладывает между ее страницами три тысячи рублей и кладет том туда же, где он лежал.
Входит священник. Между ним и императором происходит разговор.
– Как часто вы читаете Евангелия? ― спрашивает его император.
– Каждый день.
– Не пропуская ни дня?
– Ни дня.
– С чем вас и поздравляю, ― говорит император. ― Это очень полезное чтение.
Через два года он снова едет через ту же деревню, заходит к тому же священнику, видит Библию на том же месте, раскрывает ее и забирает свои деньги.
– Ты отлично знаешь, что не читаешь Евангелий, скотина! ― говорит Александр, тыча ему в нос Библию и деньги.
И император на глазах остолбеневшего священника кладет деньги в свой карман.
Всем в России известны невежество и коррупция греческого [православного] духовенства, все его презирают, и все его почитают и целуют ему руку.
Когда я увидел вытащенную на берег снасть, нагруженные уловом корзины, рыбаков и лошадей, которые направились к другому месту, я вошел в воду, добрался до судна и нашел свою одежду в том же углу, где ее оставил.
Наступило время нашей высадки.
Перекинули трап на широкие мостки на озере, и мы сошли на берег. Более чем умеренный обед накануне и утреннее купанье возбудили во мне зверский аппетит. Мы пришли к постоялому двору монастыря; у всякого мало-мальски известного монастыря есть постоялый двор, где останавливаются паломники и паломницы. Нам приготовили завтрак, в котором съедобной была только рыба, выловленная на наших глазах.