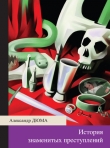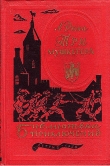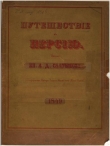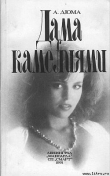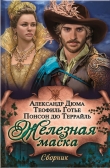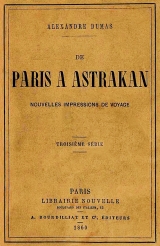
Текст книги "Из Парижа в Астрахань. Свежие впечатления от путешествия в Россию"
Автор книги: Александр Дюма
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 52 страниц)
Переходим к караульным. Karaoulnoy ― караульной (единственное число от слова karaoulny ― караульные), как правило, ― старый солдат. В России отставные солдаты, хотя и были взяты в армию из крепостных крестьян (обычный рекрутский набор ― восемь на тысячу человек населения), через 18, 20 или 25 лет службы возвращаются свободными туда, откуда были взяты рабами. Во Франции мы назвали бы это поэтично: возвращение к родным очагам. Но, увы! В России, так было до настоящего времени, по крайней мере, у бедного ветерана нет своего очага. У него больше нет права на собственной двор, на хлебопашество на шести арпанах земли, на la zastolnaia ― застольную [чарку], короче, ни на что нет права. Служа своей стране, он стал парией. В вознаграждение за заслуги правительство преследует его, собственник захлопывает перед ним свою дверь. Хорошо еще, что на дороге в Царское Село есть приют для инвалидов, построенный наподобие нашего и способный принять три тысячи человек. Но в этом приюте, заведении нового типа, насчитывается 150 служащих и 18 инвалидов. В России, как и в других странах, однако чаще всего в России, филантропические заведения, главным образом, ориентированы на то, чтобы дать возможность жить определенному количеству служащих. Те же, для кого приюты созданы, попадают туда только потом, а бывает, совсем не попадают. Ничего! Заведение существует; это все, что нужно.
Россия ― громадный фасад. Но никто не занимается тем, что находится за фасадом. Тот, кто пытается заглянуть за фасад, напоминает кошку, которая впервые увидела себя в зеркале и заходит за него, в надежде найти вторую кошку с другой стороны. И что забавно, в России ― стране злоупотреблений все, начиная императором и кончая дворником, хотят с ними покончить. Все говорят о злоупотреблениях, все знают о них, анализируют их и сожалеют о них; это вынуждает воздеть глаза к небу и сказать: «Отец наш небесный, избавь нас от злоупотреблений!» Выходит, они помогают только выше держать голову. Очень рассчитывают на императора Александра II в деле освобождения общества от злоупотреблений, и правы. Искренне, всем сердцем он желает универсальной реформы. Но едва касаются какого-нибудь злоупотребления в России, знаете, кто поднимает крик? Те, кого задели? Нет, это было бы слишком неуклюже. Вопят те, кого еще не тронули, но кто боится, что наступит их черед.
У артишока самые прочные на отрыв листья первыми идут в пищу. Злоупотребления ― огромный усеянный шипами артишок: не добраться до лакомства, не исколов пальцев. Впрочем, перейдем к их обзору.
Те из русских, которые решат, что я дурно отзовусь об их стране, поскольку укажу на злоупотребления, как на ее язву, ошибутся. Они поведут себя не лучше ребенка, который видит врага во враче, ставящем ему пиявки, или в дантисте, вырывающем у него больные зубы.
Возвращаемся к нашему караульному.
Мы уже сказали, что солдаты, оставляя службу, ― настоящие парии, не имеющие права на собственный двор, на возделывание шести арпанов земли, на застольную чарку. Если у солдата есть семья, и семья принимает его из жалости, то ветеран возвращается домой; и, если у него еще целы руки и ноги, то он помогает семье: его работу терпят. Но, если у него нет семьи, то он не имеет права даже наняться как rabotnik ― работник, то есть как travailleur (фр.) ― трудящийся. Если у него нет медали, то он становится вором, в этом ― его единственный жизненный ресурс. Если у него две-три медали, то он становится нищим, становится на колени на больших дорогах или на церковных папертях, целует землю, когда вы идете, и живет на 4-5 копеек в день, что ему бросают милосердные души. В дни, когда милосердные души ему не встречаются, а такие дни есть в календаре, он не ест, разве чего-нибудь не осталось от их вчерашних щедрот. Если у него пять, шесть, семь или восемь медалей, то ему повезло: станет караульным. Караульные графа имеют по шесть-восемь медалей.
Мы уже сказали, что деревенские сторожа называются караульными. Karaoul ― караул, в буквальном смысле службы, ― стража. Когда ночью нападают на человека, и он хочет позвать на помощь, он кричит:
– Karaoul! Karaoul!
Это призыв, обращенный к страже.
Итак, вокруг нас шесть-восемь караульных, которые день и ночь на ногах. Они дежурят у ворот со стороны набережной, у дверей дома, в начале аллей, по углам садов.
По всей вероятности, они делят службу между собой: пока одни бодрствуют, другие спят. То, что мне доподлинно известно, так это то, что в любой час дня и ночи, когда бы мы ни выходили, мы видим караульного в прихожей, караульного у двери, караульного на площадке в саду. С нашим появлением бедные дьяволы вскакивают и бухаются на колени с картузом в руках. Невозможно также шага ступить, в любое время суток, без того, чтобы не наткнуться на караульного: мизинец левой руки касается шва штанов, правая рука вскинута к картузу.
Вообразите фантазера, который вместо того, чтобы исполнить определенный ритуал, не выходя от себя, решает под луной проделать одну из вещей, учтенную нашим старым и чудным префектом департамента Сена ― месье де Рамбюто; пока ритуал не будет окончен, в двух шагах от вас будет находиться караульный или караульные, не двигаясь и не сводя с вас глаз. Сначала чувство такое же, как при виде похоронной процессии под окном, но и к этому привыкаешь. По-доброму помянуть месье де Рамбюто заставило нас то обстоятельство, что России еще не явился достаточно склонный к экзотике шеф полиции, чтобы или на Невском проспекте, или на Большой Морской, или на набережных поставить такие же небольшие колонны под лазурными шарообразными крышами с золотыми звездами, какие служат орнаментом парижских бульваров. Установлен штраф для иностранца, который, не слишком смущаясь отсутствием полых колонн, усмотрел бы здесь упущение, а не действие закона. Запрещено курить, так же как останавливаться перед домами и на углах улиц, и кое-что другое, например, ― поправить подвязку или завязать свои шнурки. Любое из таких нарушений наказывается штрафом в 1 рубль.
Однажды император Николай встретил француза, который, не зная распоряжения или не воспринимая его, курил и пускал большие пахучие клубы дыма настоящей гаванской сигары. Николай, по своему обыкновению, прогуливался, сидя на дрожках, один. Он велел нарушителю порядка сесть рядом, подвез к Зимнему дворцу и ввел его в курительную молодых великих князей.
– Курите здесь, месье, ― сказал он; ― это единственное место в Санкт-Петербурге, где разрешено курить.
Француз докурил сигару и спросил, уходя, кто же был тот месье, который оказал ему любезность и привез в единственное место в Санкт-Петербурге, где разрешено курить.
Ему ответили:
– Император.
Впрочем, понятен запрет на курение в стране, где все построено из дерева, и где неосторожно брошенный окурок иногда становится причиной пожара всей деревни. Курят еще на Неве.
Пожары в России внезапны и страшны. Исторический пожар Москвы не смогла остановить 120-тысячная армия, хотя каждый солдат был заинтересован в том, чтобы его погасить.
От площади к площади высятся каланчи, увенчанные снастями на блоках. Эти блоки нужны, чтобы поднимать шары, равнозначные нашему крику: «Пожар!» Первыми к месту пожара прибывают пожарные квартала, поскольку им ближе. Потом съезжаются и другие. Если огонь средней силы и может быть обуздан, то тех пожарных, в присутствии которых нет необходимости, не вызывают; если же пожар значительный или обещает стать таким, то поднимают пожарных всех кварталов.
Нас уверяют, что мы не покинем Россию, не увидев какой-нибудь великолепный пожар. Еще, между прочим, нас уверяют, что в окрестностях Санкт-Петербурга горят пять-шесть лесов…
Кстати, дорогой читатель. Его высочество великий князь Константин передал приглашение месье Хоуму, нашему компаньону по путешествию, прибыть увидеться с ним. Месье Хоум велел передать со смирением и грустью, что он в отчаянии оттого, что не может ответить на приглашение его высочества, так как он утратил свое могущество.
Если оно к нему вернется, то даю вам слово предупредить вас об этом в ту же минуту.
* * *
Приодевшись, я взял дрожки и с одним моим другом, изъявляющим большое желание служить мне переводчиком, поехал посмотреть три исторических памятника: самую старую церковь Санкт-Петербурга, домик царя Петра и крепость. Все это расположено в старом Санкт-Петербурге, на правом берегу Невы.
Набережная устроена отдельными кусками, и, хотя едешь нужным берегом, через шесть верст нужно переправиться через реку, затем, почти через версту, вернуться на правый берег и тогда прямо перед собой или, верней, правее видишь первую и самую старую церковь Санкт-Петербурга и домик Петра, а влево ― крепость. Церковь не представляет собой никакой художественной ценности. Первую мессу в ней служили Всевышнему, первая молитва Te Deum (лат.) была в ней спета в честь царя Петра. Пока Муане зарисовывал церковь, я пошел к домику Петра. Первое пристанище, обретенное им на берегу Невы, он вынужден был строить своими руками: это настоящий голландский домик, деревянный, но крашенный под красный кирпич: чувствуется плотник императорского звания, новоиспеченный в Саардаме.
Чтобы сохранить этот дом как можно дольше, его забрали в «ларец» из дерева и стекла, так укрыли его от дождя, града, ветра; благодаря этому домик очень чистый, хорошо покрашен, хорошо ухожен и не боится ни солнца летом, ни снега зимой. Есть что-то глубоко трогательное в том, как русские берегут каждый объект, способный передать потомству любое свидетельство гения основателя их империи. Великое будущее живет в этом почитании прошлого.
Интерьер домика Петра представлен четырьмя комнатами: прихожей, салоном, столовой и спальней. В салоне, оборудованном под мемориальную exvoto (лат.) ― выставку, находятся его рабочее кресло, его станок, парус его корабля. Столовая превращена в часовню, где на почетном месте выставлен образ, от которого Петр брал чудодейственные свойства, и который всегда был с ним; спальня служит ризницей.
Толпа простонародья, в основном, матросы, только что там помолилась: возможно, они путают Петра Великого со св. Петром. Но и мы, ничего не путая, ставим героя, по меньшей мере, в один ряд со святым.
Вдоль одной из сторон защищенного остекленным павильоном домика вытянулась лодка, найденная царем Петром в Измайлове, та самая, на какой он маневрировал на Яузе, и которую построил Брандт. Может быть, приведенная генеалогия не строго точна, и этот баркас просто был тем, в котором Петр I отправился с визитом к своему другу Василию на остров, закрепленный за ним для оздоровления и колонизации и, по его имени, называющийся сегодня Васильев Остров. Во всяком случае, эта та барка, которую народ с признательностью, наполненной добродушием, величает бабушкой русского флота.
Павильон огражден. Это ограждение, скрытое живой изгородью, осенено великолепными липами в цвету. В их ветвях гудят мириады пчел. Они спешат построить свои соты; они знают, что время их измерено, что цветение наступает поздно, а зима спешит. В тени лип спокойным и беззаботным сном людей, у которых ничего нет, кроме веры в бога, почивают два-три мужика.
Мы присели на скамью этого сквера. Если мысли уходят, то это происходит здесь, на этой скамье, в тени этого дерева, возможно, посаженного царем Петром тогда, когда он растил Санкт-Петербург на другом берегу реки. И город, и липы раскинулись широко. Пчелы слетались собрать меду на цветы лип; корабли, в том же множестве, что и пчелы, сгрудились в городском порту, рассчитывая поживиться товарами. И надо всем этим витает дух Петра. Страшно помыслить, где была бы Россия, если бы наследники Петра разделяли прогрессивные идеи этого гениального человека, который строил, конструировал, основывал разом города, порты, крепости, флоты, законы, армии, мануфактуры, пушки, дороги, церкви и веру. Не считая, что он обязан был разрушать, а это порой ему удавалось много хуже, чем что-то основывать.
Я оставался там более часа. Муане зарисовывал домик. Я же, я пытался постичь идею великого человека. Когда рисунок был закончен, мы простились с колыбелью, чтобы поздороваться с тюрьмой.
Крепость Санкт-Петербурга, как и все крепости, построена, чтобы служить наглядным символом антагонизма между народом и его сувереном. Несомненно, она защищает город, но больше угрожает ему; несомненно, она, была построена, чтобы отринуть шведов, но служила тюрьмой для русских. Это ― Бастилия Санкт-Петербурга; и не оставляет такая мысль, что как Бастилия в предместье Сент-Антуан, она ― в робе заключенного. Если написать историю крепости, то получилась бы ужасающая картина. Крепость все видела, все слышала; только ничего пока не раскрыла. Настанет день, когда она, подобно Бастилии, откроет свои фланки [укрепления], и тогда поразятся глубине, сырости и тьме ее карцеров. Придет день, когда она заговорит, как заговорил замок Иф. С этого дня у России появится история; до настоящего времени в ее распоряжении только легенды.
Я сейчас расскажу вам одну из таких легенд.
* * *
Один мой друг охотился в сентябре 1855 года в сотне верст от Москвы. Охота завела его слишком далеко, чтобы в тот же вечер он смог вернуться домой. Он оказался возле домика, где вот уже 57 лет жил старый дворянин. Этот дворянин приехал сюда на жительство в 20-летнем возрасте, и никто не знал, как он приобрел домишко, откуда прибыл и кто он такой. Со дня приезда он никогда и никуда не отлучался, даже в Москву. В течение 10 лет не виделся ни с кем, не водил знакомства с соседями, говорил, по необходимости, лишь то, что нужно было сказать, и ни слова больше. Никогда он не был женат, хотя владение ― две тысячи десятин и пять сотен крестьян ― приносило ему четыре-пять тысяч рублей дохода серебром. Имение располагалось между Троице-Сергиевой лаврой и городком Переславль-Залесский.
Хотя этот дворянин имел репутацию мало гостеприимного хозяина, охотник ничуть не колебался попросить разрешения провести ночь под его крышей, занять скамью, разделить с ним ужин. Горячая сковорода, в ней никогда русский крестьянин не отказывает иностранному путешественнику. Тем более, дворянин ― своему согражданину; мы хотим сказать, соотечественнику, если в России еще сохраняется понятие «соотечественник». При императоре Александре II они должны стать согражданами.
Было семь часов вечера, смеркалось, и сумерки сопровождал тот холодный ветер, который за три недели вперед объявляет русскую зиму, когда охотник постучал в двери du palate ― палат. Так в России называют жилище, что поменее замка, но поболее дома. На стук дверь открыл старый камердинер. Охотник изложил ему свою просьбу, и старый камердинер пошел передать ее au pomeschik ― помещику, предложив просителю подождать минутку в прихожей. Он вернулся через пять минут. Помещик приглашал охотника войти. Тот вошел и увидел хозяина за столом с гостем, в котором узнал деревенского соседа своего отца. Итак, для него появлялась протекция у предполагаемого мизантропа на случай, если тот изменит свое первоначальное решение. Но нужды в ней не было; помещик поднялся и подошел к нему, приглашая занять место за столом.
Это был крепкий, красивый 75-летний старик с живыми глазами и несуетливый, прекрасные белые волосы и завидная белая борода которого не портили его энергичного облика. На нем была русская, без малейшего отклонения, одежда: сапоги до колен, штаны черного бархата с широкими складками, сюртук серого сукна, расшитый по-астрахански головной убор [тюбетейка].
Трапеза заканчивалась; оба, хозяин и гость, пили из чашек чай и дымили. Старик, извиняясь перед новым гостем за то, что лишен возможности его принять так, как хотел бы, распорядился поставить на стол остатки обеда. Они, впрочем, были достаточно обильны, чтобы удовлетворить аппетит самого голодного охотника. Наш друг поел довольно быстро, чтобы присоединиться к двум старым приятелям, пьющим уже по пятой-шестой чашке чая и выкуривающим по третьей-четвертой сигаре.
Не стоит говорить о том, что гость старика и мой друг охотник отдали дань обычной вежливости, и помещик знал, что оба его гостя не были чужды друг другу. Разговор шел о текущих делах; высказывались тогда свободно и в то же время, насколько возможно, мягко, что вытекало из последних 33 лет молчания.
Император Николай умер 18 февраля того же года, а император Александр II начал словами и актами, открывающими России будущее, на которое она перестала надеяться. Старик, в отличие от людей его возраста, всегда жалеющих о прошлом, казалось, радовался смене режима и дышал полной грудью; он выглядел человеком, на которого долгое время давил свод темницы, и который только что обрел свободу и вкушает ее с наслаждением.
Разговор в высшей степени заинтересовал охотника; старик, обладающий изумительной памятью, так говорил о самых отдаленных временах, как если бы рассказывал о событиях вчерашнего дня. Он вспоминал Екатерину II, Потемкиных, Орловых, Зубовых ― героев другого века, которых наше поколение воспринимает как призраков отлетевшей эпохи.
Итак, он жил в Санкт-Петербурге, прежде чем вступил во владение этим имением; итак, он видел двор, и общался с большими вельможами, прежде чем удалиться в крестьянскую среду. Такая словоохотливость хозяина больше всего удивила нашего охотника, потому что, как мы сказали, старый дворянин всегда был далек от того, чтобы болтать. Конечно, потребность выговориться становилась тем мучительней, чем дольше он молчал. С изысканной любезностью он отвечал также на бесконечные вопросы молодого человека. Но тот, внутренне скованный некоторой осторожностью, не осмеливался задать вопрос, что интересовал его больше всего:
– Почему человек с вашим положением в свете 18-ти лет покинул Санкт-Петербург, чтобы похоронить себя в провинциальной глуши на 57 лет?
И все-таки, когда старик встал и вышел на минуту, этот вопрос, который охотник не отваживался задать ему, он задал другу своего отца.
– Я знаю об этом ничуть не больше вашего, ― ответил тот, кого он спросил, ― хотя скоро 30 лет, как я знаком с моим таинственным соседом. Только думаю, некоторым образом, что нынче вечером он открылся бы мне полностью, если бы не посторонний: рассказывая, он был в ударе, и я впервые видел его в таком предрасположении.
Старик вернулся. Охотник, после откровенного заявления, которое только что услышал, посчитал нескромным продолжать оставаться третьим в беседе двух друзей. Он поднялся и спросил старика, не соизволит ли он указать спальню, отведенную для него. Старик назвал ему соседнюю комнату. Более того, он проводил туда гостя.
Простая перегородка отделяла эту комнату от столовой; и, будто считая, что этого недостаточно, чтобы любопытство, как конь, ударилось в карьер, он, выходя, оставил дверь открытой. Охотник с ужасом убеждался, что не прозвучало бы, и он не услышал бы ни слова, в столовой, когда бы там оставался. Это было испытанием божьим. И однако, надо отдать справедливость охотнику, он делал все, что мог, чтобы заснуть и, следовательно, ничего не слышать; но он долго ворочался с боку на бок на диване, закрывал глаза, натягивал одеяло на голову, а сон, казалось, бежал от него с тем же упорством, с каким он его призывал; или, если сон, казалось, приходил на его призыв, то в этот кульминационный момент, когда мысли путаются, когда сквозь закрытые веки видишь пляшущих вокруг тебя духов с крыльями бабочек, мышь принималась грызть доску, паук ― ткать свою паутину, собака ― стучать хвостом по полу, и он полностью открывал глаза, и, против воли, обращался в сторону полуоткрытой двери, потому что через оставленный проем в спальню входил свет, и летели все звуки. Он подумал тогда, что его долг обратить внимание хозяина дома, что он вообще-то рядом и не спит. Он кашлял, отхаркивался, чихал. С каждым его шумовым эффектом разговор, действительно, прерывался, но возобновлялся тут же, как только охотник затихал. Он имел неосторожность не проявлять себя в течение пяти минут и попытаться отвлечь себя размышлениями о вещах, которые обыкновенно нарушают мысленное равновесие; но чаши весов оставались неподвижными, и равновесие в его мозгу стало, напротив, таким, что все стихло в его памяти и сердце, в нем и вокруг него, и он услышал первые слова истории, узнать которую ему так хотелось, а, услышав первые слова, он уже не имел силы отвернуть своего слуха от последних.
Вот эта история. Рассказывает ее старик; дадим же ему высказаться.
«Мне было 18 лет, и последние два года я служил прапорщиком Павловского полка. Полк размещался в большом казарменном здании, что и ныне стоит по другую сторону Марсова поля, против Летнего сада.
Император Павел I царствовал уже три года и жил в Красном дворце, строительство которого только что завершилось.
Как-то ночью, когда, не знаю, из-за какой проказы, в отлучке, о которой я просил, чтобы составить партию в карты с несколькими моими товарищами, мне было отказано, и, когда я оставался в спальне почти один из офицеров моего ранга, меня разбудил шепот, и чье-то дыхание касалось моего лица, потому что шептали мне на ухо:
– Дмитрий Александрович, проснитесь и следуйте за мной.
Я открыл глаза; передо мною был человек, который повторил мне, разбуженному, приглашение, сделанное мне, когда я еще пребывал во сне.
– Следовать за вами? ― переспросил я. ― И куда же?
– Я не могу вам этого сказать. Однако знайте, что это ― по поручению императора.
Я задрожал. По поручению императора! Что может ему понадобиться от меня, бедного прапорщика, пусть сына из хорошей семьи, но во все времена слишком далекой от трона, чтобы мое имя было расслышано императором? Я припомнил мрачную русскую поговорку, что появилась в эпоху Ивана Грозного: «Рядом с царем ― рядом со смертью». Между тем, раздумывать было некогда. Вскочил с кровати и оделся. Потом я внимательно вгляделся в человека, который только что меня разбудил. Хотя он весь был укутан в шубу, мне подумалось, что узнаю в нем бывшего раба из турок ― брадобрея вначале и фаворита императора теперь. Впрочем, этот молчаливый экзамен длился недолго. Продолжать его, возможно, было небезопасно.
– Я готов, ― сказал я через пять минут, держа перед собой, на всякий случай, шпагу.
Мое беспокойство усилилось, когда увидел, что мой провожатый вместо того, чтобы направиться к выходу из казармы, начал спускаться по винтовой лесенке в залы огромного здания. Он сам светил нам потайным фонарем. После многих поворотов и загибающихся переходов, я оказался перед дверью, совершенно мне неизвестной. За все время, пока шли, мы никого не встретили; говаривали, что здание пустое. Я уверовал, что отчетливо вижу шевеление одной-двух теней, но эти неуловимые, между прочим, тени исчезли или, скорее, растворились в темноте.
Дверь, в которую мы уткнулись, была железной; мой провожатый как-то особенно стукнул в нее, и она сама отворилась, но, очевидно, не без участия человека, который ожидал нас за ней. И точно, когда нас впустили, несмотря на мрак, я заметил кого-то, кто закрыл ее и последовал за нами. Переход, куда мы попали, по виду был подземным, шириной 7-8 футов, вырытым в грунте, влага которого просачивалась сквозь кирпичную кладку и покрывала боковые стенки.
Через пять сотен шагов подземный ход перекрывала решетка. Мой провожатый достал ключ из кармана, отпер решетку и запер ее за нами. Мы продолжали идти. Тогда я начал припоминать легенду о подземной галерее, связывающей Красный дворец с казармой гренадеров Павловского полка. Подумалось, что мы идем этой галереей и, поскольку мы шли от казармы, то должны прийти во дворец.
Пришли к двери, такой же, как в том конце. Мой провожатый так же стукнул в нее, как в ту, первую, и она так же открылась, то есть при участии человека, который за ней ожидал условного стука. Мы оказались перед лестницей и поднялись по ее ступеням; она вела к передней апартаментов невысокого разряда, но по атмосфере которых можно было понять, что мы вошли в дом, согретый заботой. И вскоре этот дом обретает пропорции дворца. После этого, все мои сомнения рассеялись: меня вели к императору, императору, который послал за мной, за ничтожным и запрятанным в последние ряды гвардии. Я отлично помнил того молодого прапорщика, которого он встретил на улице, посадил позади себя в экипаже, и который меньше, чем за четверть часа, был возведен последовательно в звание лейтенанта, капитана, майора, полковника и генерала. Но я не мог надеяться, что он послал за мной, с той же самой целью.
Что бы там ни было, мы подошли к последней двери, перед которой взад-вперед расхаживал часовой. Мой провожатый положил руку мне на плечо, говоря:
– Держитесь молодцом, вы сейчас предстанете перед императором!
Он шепнул слово часовому. Тот посторонился. Провожатый открыл дверь, насколько мне показалось, не ключом от замка, а неким секретным способом.
Человек маленького роста, одетый по-прусски ― в сапогах до половины бедра, верхней одежде до шпор и гигантской треуголке, хотя и в своей спальне, ― и в парадную форму, хотя была полночь, повернулся к открытой двери. В нем я узнал императора. Это было нетрудно: он нам устраивал смотры все дни подряд. Я вспомнил, что накануне во время смотра его взгляд задержался на мне; он велел выйти из строя моему капитану, совсем тихо задал ему несколько вопросов, глядя на меня, затем заговорил с офицером свиты таким тоном, каким отдают исчерпывающие и окончательные приказы. Все это снова усилило чувство моей тревоги.
– Sire, ― сказал мой провожатый, склоняясь, ― вот молодой прапорщик, с кем вы изъявили желание говорить.
Император подошел ко мне и, так как был совсем мал ростом, приподнялся на носки, чтобы меня разглядеть. Несомненно, он узнал во мне того, к кому у него было дело, ибо одобрительно кивнул головой и, крутнувшись, как по команде «Кругом!», сказал:
– Идите!
Мой провожатый поклонился, вышел и оставил меня одного с императором. Заявляю вам, что мне это так же понравилось, как если бы я оказался в железной клетке наедине со львом. Сначала, вроде бы император не обращал на меня никакого внимания; ходил туда и обратно крупным шагом, останавливаясь у окна, остекленного одинарно, открывая, чтобы подышать, и закрывая после этого раму, возвращаясь к столу, на котором лежала табакерка, и беря из нее щепоть табаку. Речь идет об окне его спальни, где потом его убили, которое, говорят, остается закрытым со времени его смерти.
У меня была возможность окинуть взглядом обстановку, всю мебель, каждое кресло, каждый стул. Возле одного из окон стояло поворотное бюро. На нем лежал развернутый лист бумаги.
Наконец, император как бы заметил мое присутствие и подошел ко мне. Его лицо казалось искаженным яростью; однако его подергивал лишь нервный тик. Он остановился передо мной.
– Прах, ― сказал он мне, ― пыль; ты знаешь, что ты только пыль, не так ли, и что я есть все?
Не знаю, где я взял силы ему ответить:
– Судья судеб людских, вы избраны богом.
– Гм! ― вырвалось у него.
И повернувшись ко мне спиной, он снова прогулялся по спальне, опять открыл окно, взял еще табаку и тогда уж вернулся.
– Ты знаешь, что, когда я приказываю, мне должны повиноваться без прекословий, без замечаний, без комментариев?
– Как повиновались бы богу; да, sire, я это знаю.
Он пристально посмотрел на меня. Его глаза выражали такую экспрессию, что я не мог вынести взгляда. Я отвернулся. Его самолюбию, казалось, польстила та сила воздействия, какую он на мне испытал. Этот прием внушал не уважение, а отвращение к нему. Он прошел к своему бюро, взял бумагу, перечитал, сложил и сунул ее в конверт; конверт опечатал, приложив к сургучу не имперскую печать, а перстень, что носил на пальце. После этого снова вернулся ко мне.
– Помни, что для исполнения моих приказов я выбрал тебя среди других, ― сказал он, ― потому что посчитал, что тобою они могут быть отлично исполнены.
– Я буду видеть лишь таким исполнение воли, какого от меня ожидает мой император, ― ответил я.
– Хорошо, хорошо! Помни, что ты только пыль, и что я есть все, я!
– Жду ваших приказов, ваше величество.
– Возьми это письмо, отнеси его коменданту крепости, сопровождай его всюду, куда бы ни было угодно ему повести тебя, присутствуй при том, что свершится, и приди мне сказать: «Я видел».
С поклоном я принял конверт.
– «Я видел», слышишь? «Я видел».
– Да.
– Иди.
И он сам открыл мне дверь, через которую я входил; мой провожатый меня ждал. Император закрыл дверь за мной движением на себя, повторяя:
– Пыль, пыль, пыль!
Я ошеломленно стоял у его порога.
– Идите сюда! ― позвал мой провожатый.
И мы отправились, но уже другой дорогой. Вела она наружу из дворца. Во дворе наготове стояли сани; мы сели в них вдвоем, мой провожатый и я.
Дворцовые ворота против моста через Фонтанку отворились, и тройка коней, запряженных в сани, пошла крупной рысью. Мы проехали всю площадь и попали на берег Невы. Наши кони махнули на лед, и мы, держась колокольни собора Петра и Павла, как маяка, пересекли реку. Ночь стояла темная, тяжкое дыхание ветра обдавало заунывным и жутким.
Едва на линии берега я почувствовал, что сани коснулись твердой земли, как мы оказались у ворот крепости. Солдат принял пароль и пропустил нас. Мы въехали в крепость; сани остановились у двери коменданта. Вторично был назван пароль, и нас пропустили к коменданту, как впускали в крепость.
Комендант спал; подняли его всемогущим словом:
― По приказу императора!
Он очнулся ото сна, пряча за улыбкой свою тревогу. У такого человека, как Павел, немногим, в смысле безопасности, отличались тюремщики от узников, палачи от жертв. В глазах коменданта застыл вопрос, обращенный к нам; мой провожатый жестом указал ему на меня: у меня, мол, дело к коменданту. Тогда он взглянул на меня с большим вниманием; однако медлил обратиться ко мне. Конечно, его удивляла моя молодость. Чтобы вернуть ему доброе расположение духа, ни слова не говоря, я подал ему приказ императора. Он поднес конверт ближе к свече, осмотрел печать, узнал оттиск личного перстня императора ― знак для секретных приказов; поклонился, почти неуловимо, бегло перекрестился и вскрыл конверт. Прочитал приказ и глянул на меня, перечитал его и обратился ко мне со словами:
– Вы должны видеть?
– Я должен видеть, ― ответил я.
– Что вы должны видеть?
– Вы знаете, что.
– Но вы, вы-то знаете, что?
– Нет.
Он на минуту задумался.
– Вы приехали в санях? ― спросил он.
– Да.
– Сколько человек могут вместить ваши сани?
– Троих.
– Месье едет с нами? ― спросил он, показав на моего провожатого.