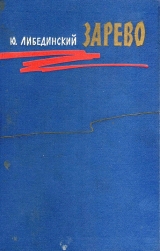
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 57 страниц)
1
Науруз, проводив Асада до дома Гедеминовых, пошел на розыски Василия Загоскина, адрес которого дал ему Константин. По пути встретил он какого-то веселореченца, который шел с подводой. Они хотя и жили в разных аулах и никогда не встречались, но сразу признали друг в друге единоплеменников. Земляк, у которого, наверно, были свои важные причины для того, чтобы покинуть родной аул, сейчас работал на байрамуковской заимке, в окрестностях Краснорецка. Науруз узнал у земляка, что паспорта на заимке не спрашивают и охотно берут веселореченцев, так как хозяин заимки Харун Байрамуков сам происходит из веселореченских князей. Но работать приходится за одни харчи. Наурузу есть было нечего, и, встретившись с Васей Загоскиным, он пошел к Байрамукову.
Харун Байрамуков действительно происходил из княжеской фамилии, но похоже, что совсем забыл об этом: занимался всякими торговыми делами, поставлял лес для постройки железной дороги, причем не считал зазорным сам ходить с волами, возившими бревна. Харун продавал и покупал скот, не брезговал скупать зараженный и отбракованный скот. На окраине Краснорецка, в глубоком овраге, на бросовой городской земле построил Харун землянку, начал мыло варить, стал кожу дубить – не пренебрегал заниматься этими для князя постыдными делами. Пока его родичи ездили по пирам, «показывали свое молодечество» в конокрадстве и увозе девушек и сокрушались о несчастном, потерявшем княжеское достоинство Харуне, он тихо богател.
Байрамуков с первых же слов Науруза определил, что перед ним пастух горец, и сразу предложил ему пойти с гуртом до Ростова в качестве младшего пастуха. Науруз сначала было отказался, у них условлено было с Константином, что, побывав к Краснорецке и Веселоречье, он вернется в Тифлис. Но когда Науруз рассказал Василию Загоскину о предложении Байрамукова насчет Ростова, Вася попросил Науруза согласиться с этим предложением. «Иди в Ростов, нам туда все равно посылать надо», – говорил он. Из Ростова шла в Краснорецк линия партийной связи, и по ней до краснорецких большевиков доходила не только петербургская «Правда», но порою даже заграничный «Социал-демократ». Поддерживалась эта связь через почтового служащего Стельмахова и нарушилась вместе с его арестом.
Науруз согласился помочь краснорецким большевикам, он уверен был, что Константин одобрил бы это.
И вот, волоча за собой длинный кнут, перекинутый через плечо, шел он за отарой черных овец, которые медленно двигались с востока на запад по широкой, непривычной для Науруза плоской земле. Осенняя тишина начала уже охватывать степь, хотя в полдень было еще знойно, как в середине лета, и воздух вдали дрожал и струился. Порою высоко в небе слышался еле уловимый печальный свист – то на юг пролетали птицы.
Старшим пастухом при гурте был старик ногаец Азиз-Али. Он ехал верхом, а двое младших пастухов шли пешком. Азиз-Али общался со своими младшими при помощи междометий: то он предостерегающе кричал: «Э-э!» – и указывал нагайкой на отбившихся от стада овец, то, приближаясь к водопою или к месту стоянки, пронзительно свистел. Впалые щеки, острые скулы; сквозь редкие усы и скудную бородку просвечивала желтая кожа. Лицо неподвижно, как степь вокруг. Третьим шел при гурте безродный дурачок, за все время не сказавший ни одного путного слова. Без пояса, слюнявый, брел он за отарой и без всякой необходимости щелкал кнутом.
Небо было громадно, степи беспредельны, путь, по которому Азиз-Али гнал гурт, обходил села и станицы. Только порою окруженный высоким глиняным тыном и похожий на крепость хутор попадался им на пути. Колодезный журавль, поднимая в небо свою тонкую шею, издали возвещал о водопое. Пока овцы пили, псы яростно метались по двору и сотрясали тяжелые грохочущие цепи. Иногда хуторским псам удавалось сорваться с цепи, между ними и овчарками, сопровождавшими гурт, закипала кровавая драка, и тогда пастухи поднимали кнуты…
Наурузу не нужны были собеседники, и он, так же как и оба его сотоварища, шел молча. Он мечтал о Нафисат и беспокоился за нее. Вспоминал о друзьях, раздумывал о Ростове – сумеет ли выполнить поручение Васи Загоскина? И Науруз напевал один и тот же мотив горской пляски – напев этот звучал иногда весело, а иногда печально. Сквозь прозрачные образы своего воображения он ясно видел курчавые волнующиеся спины овец и внимательно следил за их движением. Он не употреблял кнута, но овцы и без кнута слушались его ласкового окрика. Азиз-Али все уважительнее держался с Наурузом. Порою старик с неожиданной улыбкой, делавшей сразу приятным его неподвижное лицо, во время вечерней трапезы подносил Наурузу мозговую кость.
На пятый день пути нагнал их хозяин, казавшийся особенно маленьким и невзрачным на своей большой вороной лошади. Перещупав своими колючими глазами весь гурт, с блеянием протекавший мимо него, он обменялся несколькими словами с Азиз-Али на непонятном Наурузу ногайском языке. После этого хозяин обратился к Наурузу и сказал ему по-веселореченски:
– Старайся, награжу.
В день приезда хозяина резко переломилась погода. Прошел холодный дождь, и хозяин сразу зачихал часто и смешно, как кошка.
– Дождь – это хорошо, – говорил он, чихая, – трава сейчас поднимается, по этой последней траве вы прогоните скот до самого Ростова.
Дождь шел подряд двое суток, и трава за это время действительно поднялась. Но Азиз-Али заболел, стал натужно кашлять, губы его ссохлись, почернели. Теперь после ночлега он, накрывшись своим овчинным полушубком, оставался лежать у костра. Отару угоняли вперед без него, и только к полудню нагонял ее Азиз-Али.
Болезнь отомкнула уста Азиз-Али. На ломаном русском, языке рассказал он Наурузу свою незамысловатую и печальную повесть. В молодости полюбил он девушку, ее отдали за богатого, девушка бежала с Азиз-Али, по дороге их догнали и девушку убили. Сколько таких историй слышал Науруз за свою короткую жизнь, сколько песен об этих бедах со старины сложено! Наурузу даже казалось, будто с ним самим уже случилось что-то похожее. Азиз-Али сослали, всю жизнь прожил он, тоскуя по родине, и лишь года три назад вернулся сюда умирать. Он слабел и покорно сдавался смерти, – так же умирал на глазах Науруза русский старичок Сенечка. Та же обида, та же нужда и такая же безвестная гибель. Науруз пытался лечить ногайца, благо целебные травы росли здесь повсюду. Науруз настаивал полынь, в настой добавлял мяты и полевой горчицы. Азиз-Али слабым голосом благодарил его и уверял, что ему становится лучше. Но каждый раз все с большим трудом садился он на лошадь. И однажды к полудню старик не догнал отары. Что было делать Наурузу? Оставить отару на дурачка подпаска нельзя. Гнать ее дальше, не узнав об участи товарища, он не мог. Оставалось вместе с отарой вернуться на вчерашний ночлег. Но сделать это было не легко: овцы шли и шли вперед по свежей траве и не хотели поворачивать. Дурачок тоже упрямился. Если бы не умные овчарки, Наурузу не повернуть бы отару.
Стреноженная лошадь Азиз-Али пронзительно и грустно заржала при виде отары. Она понурившись стояла у погасшего костра. Азиз-Али лежал здесь же. Руки его были скрещены на груди, лицо спокойно, как всегда. Своим топором Науруз вырыл неглубокую могилу и похоронил старика, положив в изголовье камень.
Азиз-Али безропотно встретил свою смерть. Он был уже стар, и все же в его смерти было что-то такое, с чем никак не мог примириться Науруз. Погиб человек, и, кроме немого камня на могиле, ничего не осталось. А ведь жил, любил, трудился. Это было обидно, несправедливо, и Наурузу вспомнилось все то, что Константин толковал про общую большую несправедливость устройства человеческой жизни. Науруз вздохнул, сел верхом на коня – и снова на запад по осенним степям потекла отара.
Управляться с гуртом стало труднее. Дурачок приходил на ночлег, нажирался и укладывался спать, а Наурузу уснуть было нельзя. Места эти славились разбоями. Науруз научился дремать верхом, покачиваясь на лошади и чутко прислушиваясь к движению отары и к непрестанному щелканью бича, которым развлекался его помощник. Лай собак и монотонное блеяние овец сливались в дремотную мелодию и усыпляли.
Однажды собаки подняли лай сильнее обычного. Науруз открыл глаза и пришпорил коня. Овчарки во весь опор мчались вперед. Науруз увидел человеческую фигуру. Нахлестывая нагайкой коня и крича на собак, гнался Науруз следом за ними. На небольшом бугорке, среди бурьяна, стоял человек. В руке у него был нож. Он стоял, расставив босые почерневшие ноги, спокойно и твердо. Хотя он был очень оборван, Наурузу сразу бросилось в глаза его спокойствие: он стоял, засунув одну руку в карман, а в другой держал нож и без страха, даже презрительно, ждал нападения собак. Его загорелое, с правильными чертами лицо обрамлено было русой бородой, оставлявшей открытыми его впалые щеки. С равнодушным любопытством, словно то, что происходило, его совсем не касалось, следил он за тем, как Науруз укрощает овчарок.
– Здорово, князь, – по-русски сказал этот человек.
Серые глаза его невесело, но твердо глядели на Науруза из-под темных бровей. Сейчас видно стало, что он еще молод, – борода старила его.
Науруз соскочил с коня и протянул ему руку.
– Ты, видно, еще настоящих князей не видел, – сказал Науруз, улыбаясь.
– Раз верхом сидишь, значит князь, – чуть усмехнувшись, ответил незнакомец.
Они сговорились быстро. Леонтий (так звали этого человека) пропадал с голоду в пустых степях, где его недавно обобрали какие-то бродяги, когда он возвращался к себе в село Дивное, неподалеку от Краснорецка.
С тех пор как Леонтий прибился к гурту, Наурузу стало много легче. Это был разумный, толковый человек. Кормились пастухи сытно, он быстро отъелся и обнаружил силу и ловкость. У Науруза было с собой кое-какое запасное платье. Леонтий принял его и сказал:
– В Ростове разочтемся.
Леонтий кое-что рассказывал про себя. То одно скажет, то другое. Посреди ночи, когда вдруг на зябком рассвете встревожатся и залают овчарки, пробудившись и обойдя гурт, пастухи подбрасывали в костер влажной от росы, трескучей и дымной травы и, закутавшись в овчины, не могли заснуть. Так начинался разговор – не разговор, а раздумье вслух, невеселые воспоминания. Говорил Леонтий, Науруз больше слушал.
Отец Леонтия овдовел рано и вскоре женился. Мачеха народила много маленьких братьев и сестриц. Потом отец умер, – остался Леонтий семнадцати лет, а с ним отцовы дети, отцовы подати-недоимки, кабальные долги. Стряхнул все это с себя Леонтий и ушел искать свое счастье.
– И ухажерочку свою увел, была у меня приветочка… – сказал он так, что Науруз по звуку голоса понял, что и здесь скрыто горе. – Ушли мы за Маныч, в Сальские степи. Землю нам чуть не даром нарезали. Землица такая, что хоть на хлеб ее мажь. Но каждое лето – суховей. Два года подряд что сеяли – и того не собирали. Вот тебе и вольная жизнь. Один расейский туда прибегал к нам: «А у вас, слышно, по всей России говорят, за Ростовом-батюшкой вольготная жизнь». Помер он в эту зиму. Много народу померло. Проработал я у богатого казака, расплатился он со мной ничего, кое-что себе осталось. А когда обратно возвращался, напали на меня какие-то – тоже, может, от нужды. Вот раздели всего и пустили. Иду, пробираюсь к себе в Дивное. Что там у них? Мачехе-то, видно, тоже не легко…
Обстоятельно рассказав Наурузу о том, на каких условиях иногородние арендуют казачьи земли, Леонтий добавил:
– Должно быть, от буржуя никуда не убежишь. Буржуй, видно, и у нас, за Ростовом, так же царствует, как и в России.
Науруз рассказал Леонтию о восстании на веселореченских пастбищах. Леонтий выслушал молча и медленно проговорил:
– Одна вошь всех нас жрет.
Даже подсчитывая, на сколько его обсчитал богатый казак, у которого он работал, Леонтий не повышал голоса; ясно было, ничего иного он и не ждал от богатых людей, от буржуев. О своей возлюбленной говорил он мало, скупо – она, оказывается, вернулась в Дивное раньше него. «Когда б имел златые горы и реки, полные вина», так, может, у нас по-другому бы все обернулось», – говорил Леонтий и так стискивал зубы, что желваки перекатывались на его скулах.
Много чего пережил Науруз с Леонтием. Приходилось им искать брода через широкую Кубань, изнемогая от жажды, проходить по солончакам. Довелось перенести и ураган, во время которого пропали четыре овцы. Все же они благополучно пригнали гурт в Ростов.
Науруз от Азиз-Али знал, что скот в Ростове надо сдать на кирпичниковские бойни, получить деньги и поездом вернуться в Краснорецк. Науруз с помощью Леонтия произвел полный расчет на бойнях и, не дав приказчикам украсть ни одной овцы, поразил их своей зоркостью и честностью. Приказчики зазвали их в трактир. Науруз угостил приказчиков, но сам, ссылаясь на закон Магомета, не пил. Приказчики, захмелев, советовали Наурузу поступить на бойни, манили прелестями легкой городской жизни. Науруза привлекала городская жизнь, ее бессонные ночные огни, бодрый и непрестанный каменный и железный гул, многолюдство и разнообразие человеческих лиц, сплетение людских голосов и музыки, раздававшейся то из дворов, то из открытых окон больших домов.
Но у Науруза под стелькой в сапоге лежала маленькая навощенная бумага, врученная ему Загоскиным для передачи слесарю Самарцеву, живущему на окраине Ростова, в Темернике, – и бумага эта его заботила. Нужно было вручить ее и тут же отправиться в Тифлис к Константину. Казалось бы, что стоило Наурузу выбросить эту бумажку, на которой неизвестно что написано, и остаться жить в Ростове? Но ему даже в голову не приходило это сделать.
Науруз проводил на вокзал Леонтия, торопившегося к себе в Дивное.
– Ну, может, встретимся когда, – при свете фонарей вглядываясь в лицо Науруза, сказал Леонтий. И вот исчез – один из многих хороших людей, каких ветром носит по широкому простору земли.
В этот же вечер Науруз пошел разыскивать на Темернике слесаря Самарцева. Когда детский голос окликнул его из-за калитки, он, как этому научил его Вася, сказал:
– Посылочку вам привез.
– От кого? – спросил детский голос.
– От дяди Володи, – ответил Науруз.
Калитка открылась, и девочка лет четырнадцати, с двумя черными косичками, провела его в дом. Науруз узнал Самарцева по описаниям Васи. Это был бритый старик в очках. Он молча взял навощенную бумагу и ушел с ней куда-то в глубь дома. Там зажегся свет, слышно было какое-то позвякивание. Девочка поставила перед Наурузом шипящую на сковородке яичницу и стакан молока. Когда старик вернулся, вытирая платком красные слезящиеся глаза, Науруз вскочил, как подобало при появлении старшего. Но тот сказал:
– Чего это вы вскочили, точно я унтер? Закусывайте, пожалуйста, с дороги.
Он присел, закурил папиросу и с удовольствием оглядывал Науруза.
– Да, – сказал он, – мы уж так и понимали, что, если из Краснорецка нет вестей, значит дела у вас неладные. Попался, значит, Стельмахов?..
* * *
На следующий день, за час до отхода товаро-пассажирского поезда Ростов – Баку, Науруз подошел к паровозу и стал его внимательно рассматривать. Минуты через три Науруза окликнул машинист:
– Что, князь, купить собираешься паровоз? Попробуй приценись, дешево отдам.
– Здравствуйте, Петр Федорович, – отчетливо ответил Науруз. – Вам тетя пирожки прислала.
– Вот те на! – сказал машинист. – Я думал, обыденный какой человек придет, а прислали черкеса. Ну, давай твои пирожки.
Науруз ушел и вернулся с двумя провожатыми, нагруженными тяжелыми мешками. Мешки были быстро приняты и спрятаны. А Науруз пошел назад от паровоза, показал кондуктору билет и устроился в вагоне у окна. Снова, но только в обратном порядке и с необычайной быстротой, замелькали мимо него те же степи, хутора и станицы, базары, проселочные дороги, вокзалы, города, красивые улицы и трущобы… и неисчислимые сотни тысяч людей – вся беспредельная, многомиллионная русская жизнь. В горах люди столетиями жили неподвижно, как камни, и правнук жил на том месте, где умер прадед. А здесь людей крутило, бросало, приносило, уносило. Люди появлялись и исчезали, точно их никогда и не было. Навеки сгинул ногаец Азиз-Али, зато появился Леонтий; сдружились, о многом переговорили, и вот ушел и он к себе в Дивное. Как-то будет у него с Нафисат – его приветочкой, что живет в доме Баташевых, в ауле Баташей?..
2
Тих и неслышен был в своей семье Исмаил, а когда умер старик – точно крыша дома провалилась.
Женившись в ранней молодости на безродной Хуреймат, он поссорился из-за этого со своими родными, ушел из старого Баташева поселка сюда, на склон горы, и поселился здесь.
Склон горы весь был загроможден валунами, и только в двух местах между камнями пробивались травы. Два года Исмаил и Хуреймат ворочали здесь камни. А на третий год у них стало два поля. Каждое это поле Хуреймат могла покрыть своим белым платком. Но когда Исмаил засеял ячменем свои поля и они празднично зазеленели, похоже было, что суровая гора, покрытая камнями, улыбнулась. Здесь же среди камней Исмаил и Хуреймат сложили свое словно вросшее в гору жилище. Семья прибывала, стены жилища раздвигались вширь, хлеба с каждым годом нужно было все больше. Исмаил бережно приносил на свои поля то чернозему из леса, то кучку навоза с дороги. Но зелененькие лоскуты полей от этого не становились больше. И тогда Исмаил снова лазил по склону горы, долго лазил – и нашел участок, где валуны расступались, давая место камням помельче. И хотя ни одной травинки не пробивалось здесь сквозь щели, Исмаил решил сам пробиваться к земле, – всю свою жизнь отдал он этому труду.
Десятилетие проходило за десятилетием. Подросли сыновья, потом внуки. В день, когда началось восстание на пастбищах, все Верхние Баташевы ушли в аул, только Исмаил остался один на своем поле – так все Верхние Баташевы, вслед за Исмаилом, называли каменную яму на склоне горы.
В последний день своей жизни Исмаилу удалось вывернуть последний камень и рукой дотронуться до студеной зернистой земли. Наверно, обрадованный тем, что труд всей его жизни увенчался успехом, он поторопился, не укрепил как следует рокового камня, сдвинулся камень и размозжил ему голову…
Теперь этот большой камень поставлен на могиле Исмаила, и на нем старательной рукой Сафара – одного из внуков Исмаила – высечены кирка, мотыга и кумган. Тысячелетия пройдут, имя Исмаила забудется, но все будут знать, что похоронен здесь человек, который честно трудился всю жизнь и, когда его томила жажда, пил горную родниковую воду.
А рядом с черным камнем, над могилой старика, стоит белая глыба речного камня кварца, и только меч высечен на ней. Это могила молодого Хусейна – четвертого сына старика Исмаила. Храбрым юношей был Хусейн. Заступился он за вдову, убил ее обидчика, сам был убит и через несколько дней после смерти отца лег рядом с ним на родовом кладбище Баташевых.
Кирка и мотыга Исмаила перешли к его старшему сыну Мусе. Поднимаясь на рассвете, так же рано, как вставал отец, Муса шел на «поле», грузный, похожий на те каменные глыбы, которые он ворочал всю жизнь.
Вот он на «поле». Среди хаоса камней, внизу, как вода в водоеме, на глубине более человеческого роста, лежит кусок черной земли шагов десять в длину и столько же в ширину.
И морщины на каменном лице Мусы чуть дрогнули, он доволен, недаром умер отец, не напрасно трудятся они с братом Али.
Брат Али, похожий на Мусу, но только более живой и веселый, не сопровождает его в это раннее время. Но не пройдет и часа, как он тоже с киркой и мотыгой появится тут. Старший сын Мусы, чернобородый рослый Элдар, поглощенный заботами о своей быстро увеличивающейся семье, давно уже считал эту возню с камнями занятием никчемным; второй сын Мусы, мечтательный и беспокойный Сафар, ростом и повадкой похожий на своего убитого дядю Хусейна, все шептался с двоюродным братом своим и сверстником, крепышом Касботом, сыном Али, и уговаривал его уйти из Старого аула на заработки.
При жизни деда Касбот, бывало, тоже выходил поворочать камни и гордился, когда слышал от старших скупое слово одобрения. Но после событий последнего года Касбот охладел к работе. Иногда он подходил к краю ямы, своими маленькими и, казалось бы, сонными синими глазами пристально наблюдал за тем, как работают его старшие родичи. Но стоило кому-нибудь из них окликнуть его, он тут же поспешно уходил.
Широколицый, русый Касбот явно пошел в породу своей матери – в Даниловых. Но многое ему передал и отец. Касбот, правда, как и Али, был миролюбив, никогда не прибегал к оружию. Но если его очень уж задирали сверстники, он пускал в ход увесистый кулак левой руки (был он левша) – тогда от удара обидчик, даже не застонав, валился на землю.
Касбот преданно любил своего дядю Хусейна, восхищался им и был у него на побегушках. После смерти Хусейна Касбот свои чувства перенес на друга его Науруза и на тетку свою, любимую сестру Хусейна – Нафисат.
Касбот был немногим младше ее. Ей исполнилось всего пять лет, когда она среди смуглых и черноглазых баташевских детей выбрала его, русого, синеглазого и румяного. С трудом она, пятилетняя, таскала трехлетнего увесистого бутуза, со всей серьезностью воображая, будто это ее сын. Касбот с детства привык, что Нафисат – это лучший друг и защитник его. А сейчас он с гордостью и радостью почувствовал себя ее другом и защитником. Нафисат ценила эту дружбу – на Касбота можно было положиться. Она рассказала Касботу о Наурузе и друзьях его и уверена была: в трудный час Касбот ей поможет.
Уныло и беспокойно показалось Нафисат в Старом ауле, когда она, как всегда, в конце лета вернулась с пастбищ. В каждой семье недосчитывались самых молодых и смелых: одни были убиты, другие томились в Краснорецкой тюрьме. Пусто и печально стало в Баташеве, как бывает в лесу после большого пожара. Во всех селениях, во всех родовых поселках молодежь бросала привычную работу и стремилась уйти на заработки куда-нибудь подальше. Даже свадьбы стали редки, и только из конца в конец долины слышны были печальные песни девушек в вечерний час, когда похожие на муравейник поселки отбрасывали лиловые тени на желтеющие поля…
Казалось, старое жилище, в котором веками жил народ, дало трещину и накренилось.
* * *
Со времени смерти мужа Хуреймат, передав все ведение хозяйства женам старших двух сыновей, занималась только маленькими детьми. Ее младшему сыну Азрету шел десятый год, но, кроме многочисленных внуков, у нее уже родился первый правнук. Как пастух со своим стадом проходит строго определенный круг, так она, окруженная более чем двумя десятками мальчиков и девочек, медленно шла по кругу, к концу дня возвращалась туда же, откуда начинала путь, – к родному дому. Она рассказывала обо всем, что видела; проезжал ли всадник – она говорила о нем и о его коне; переваливало ли облако через гору – она говорила о приметах погоды; бабочка, камешек, звук далекой песни – обо всем рассказывала она детям.
Посреди дня они непременно приходили на кладбище, – там, привязанные к надгробным, стоймя поставленным камням, паслись козы. Хуреймат с помощью старших девочек доила их и потом поила детей молоком. И, прикрыв лицо платком, тихо плакала у черного камня – над могилой мужа, а у белого – над могилой сына…
Однажды Нафисат, вся раскрасневшаяся, взволнованная, прибежала на кладбище. Она так бежала, что щебень взлетал из-под ее ног и тонкий платок, подарок Науруза, едва держась на голове, точно летел за ней следом. Еще издали, услышав ровный голос матери, она перешла на тихий шаг и подошла бесшумно.
Хуреймат сидела возле черного камня, на могиле Исмаила, и, впустив глаза на вязанье, не спеша рассказывала. Дети сидели тихо и не сводили глаз с ее губ. Лицо Хуреймат, которое она до крови расцарапала, оплакивая мужа и сына, стало заживать, и следы царапин превратились в новые морщины.
Всю жизнь свою дедушка расчищал из-под камней маленькое наше поле, – говорила она, – а на равнинах, где жили отцы наших отцов, земля лежит от одного края неба до другого, и нет ей конца. Сыто и весело жили наши предки на этой равнине и ниоткуда не ждали беды. Но тут пришел хромой Темир с неисчислимым войском, напал на мирные аулы, разграбил дома и пожег их вместе с садами, не давая пощады ни малым, ни старым… Мужчины пали в бою, а женщин и детей угнали в неволю. Хромой Темир ушел на восток, а на месте, где была зеленая, веселая страна, протянулось от края до края небес одно большое дымящееся пожарище. Черные вороны перелетали с одной развалины на другую и везде находили кучи мертвецов. Вдруг из глубокого подвала вышла девушка. Много дней просидела она в подвале, где были запасены еда и питье, – там девушку спрятали ее братья. Они пообещали, что после победы ее выпустят, и завалили камнями, – храбрые люди всегда уверены в победе. Слушая лязг и гул сражения, девушка терпеливо ждала в подвале возвращения братьев. Но наверху все уже стихло, а братья не шли. Тогда, отвалив с трудом камни, она вышла наружу и на месте родного аула увидела одни дымящиеся развалины, услышала карканье ворон и страшный запах трупов. Не узнавая вокруг себя ничего, вдыхая горький дым и плача, девушка шла между развалинами. И вдруг услышала, словно из-под земли, жалобные голоса детей. Какая-то мать спрятала их под камнями в подвале. Убита ли была мать, или угнали ее – неизвестно. Девушка отвалила камни и выпустила детей на свободу.
«Теперь я вам буду мать», – сказала девушка. Она успокоила и накормила детей, потом пошла по аулу, кричала, звала – и отовсюду отзывались ей слабые детские голоса. Из аула в аул, ведя за собой спасенных детей, обошла она всю обугленную страну – три сотни детей спасла она. И тут-то, солнышки мои, повела она их в горы. Жизнь в горах хотя и много труднее, чем на равнинах, зато безопасней… Прошла она вверх по реке Веселой, миновала Ворота, где ущелье так узко, что защитить его могут всего лишь несколько мужественных бойцов, – тогда в широкой долине, где сейчас стоит аул Веселый, еще никто не жил, и слишком открытой показалась она девушке. Долго шли они по крутым берегам, заросшим орешником, все выше и выше. Перевалив скалистую перемычку, они увидели зеленую долину, никем не заселенную, пригодную для жилья. Здесь, в большой пещере, поселила девушка спасенных от Темира детей, воспитала и вырастила их, выучив, как надо жить. Теперь там пять аулов, и называют они себя «ассы» – спасенные от Темира, а русские это ущелье назвали «Астемирово». Когда девушка умерла, похоронили и ее в той большой пещере, где первый раз переночевали дети, и на могиле поставили камень, похожий на женщину. Камень этот каждую весну украшают цветами, а осенью – плодами и ягодами…
Хуреймат замолчала, продолжая вязать. Дети тоже молчали.
– А теперь ведь Темира нет там, внизу, так, может, нам вниз спуститься, на широкие земли? – вдруг спросила черноглазая большеносая Саньят, младшая дочка Али.
Когда Нафисат весной ушла в горы, Саньят лепетала только что-то свое детское, а сейчас вон о чем спросила.
Хуреймат вздохнула, промолчала, и тогда Нафисат громко сказала, обращаясь к детям:
– Вместо хромого Темира завелся внизу Темиркан Батыжев, отнял у нас все земли и пастбища. Но скоро придет время, когда славный Науруз, о котором вы слышали, убьет Темиркана, соберет наших людей, спустится вниз с гор, и снова мы поселимся на плодородных равнинах.
Так говорила дочь. Хуреймат и все дети молча смотрели в ее раскрасневшееся лицо, – впервые после восстания раздались в притихшей Баташевой долине эти гордые слова…
– Он вернулся? – спросила мать.
Нафисат только головой кивнула.
* * *
Зимой, когда внизу, в степях, уже гудели бураны, а в глубоких долинах среди гор было тихо, тепло и даже порою солнце посреди дня на несколько часов выходило из-за облаков, Науруз вернулся в свой родной Баташей. Конную стражу с начала зимы увели вниз, князья грелись у своих очагов, пастухи спустились с пастбищ, и в ауле было сейчас безопаснее, чем когда-либо.
Прежде всего Науруз направился в дом деда Данилова, где прошло его детство, погостил он у бабушки Зейнаб, передав ей весть от мужа ее, деда Магмота, которого держали в тюрьме в Краснорецке. Через краснорецких друзей-большевиков Наурузу удалось узнать о том, как живут в тюрьме веселореченские бунтари. Они сидели в одной общей камере, и дед Магмот был у них старостой. «Как-то он там без меня?» – вытирая глаза, говорила бабушка Зейнаб. Младший из сыновей Магмота и Зейнаб, русоволосый Бетал, был неведомо где в бегах, но песни его о красавице белошейке распевала молодежь. Сама же красавица белошейка вышла замуж за удалого Батырбека Керкетова. Молодые жили у отца Балажан, богача Хаджи-Даута, не желавшего расставаться с дочкой. Науруз и у них побывал, и там его тоже встретили с честью.
К ним-то через Касбота Науруз вызвал Нафисат, и теперь они стали встречаться.
* * *
Дни проходили за днями, а порядок в семье, нарушенный смертью Исмаила Верхнего Баташева, так и не восстанавливался. Старику Исмаилу, всегда тихому, ласковому, стоило лишь, бывало, покачать головой, и свары на женской половине сразу прекращались. Теперь старуха Хуреймат занималась только детьми, и все домашние дела, минуя уступчивую и болезненную Нурсиат, жену старшего брата – Мусы, перешли в руки Хадизат, жены второго брата – Али. Рыжеволосая, крупная женщина с белым лбом и с выпуклыми ярко-синими глазами, Хадизат восемь раз рожала и все же оставалась привлекательной. Когда Кемал, третий сын Исмаила, привез в родительский дом жену свою Фатимат, Хадизат сразу же недружелюбно взглянула на тоненькую Фатимат с ее жеманно-вкрадчивыми манерами барской прислужницы. Любимая горничная госпожи Ханифы, матери князя Темиркана, Фатимат всегда была выделена и отмечена среди женской прислуги дома Батыжевых за свою расторопную исполнительность и быстроту. При всех капризах госпожи Ханифы, Фатимат сохраняла неизменно приветливый вид, и только на верхней губке ее, чуть оттененной пушком, выступали мельчайшие капельки пота, который она осушала легким прикосновением кружевного платочка. Такой тоненькой, легконогой, с белым, нежно разрумянившимся в беге лицом и приметил ее на княжеском дворе Кемал. Любовь его возросла, когда он узнал, что в жилах ее течет кровь Батыжевых. Впрочем, мать ее, умершая при родах, так и не сказала, от которого из Батыжевых она понесла – от Темирканова отца или от старшего брата… Как милости, выпросил Кемал у Темиркана руки Фатимат, потому что госпожа Ханифа с неохотой расставалась с услужливой и ловкой девушкой.
Смерть старика Исмаила повлияла на положение каждого, даже занимавшего самое скромное место в семье; отразилась она и на положении Фатимат, младшей бездетной невестки.








