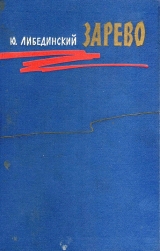
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 57 страниц)
1
Знойным и тревожным бакинским вечером Сашу Елиадзе в числе прочих новобранцев дворянского происхождения под командованием старшего урядника казачьих войск провели по беспокойным бакинским улицам на товарную станцию и там погрузили в вагоны третьего класса. В ушах Саши еще раздавались нестройные бурные крики бунтующих бакинских новобранцев, расправившихся с наглым полицмейстером Лапиным; лицо Саши еще пылало от неистовой бакинской жары, и его легкие еще не остыли от раскаленного бакинского воздуха.
А уже к утру они оказались словно на другой планете – в сонной тишине и неге беспробудно спящего среди плодовых садов и виноградников закавказского захолустного городка. Здесь в стенах старинной крепости располагалось юнкерское кавалерийское училище. Срок обучения для тех, кто, подобно Александру Елиадзе, имел среднее образование, сокращался до полугода, а тем из молодых дворян, кто аттестата об окончании среднего учебного заведения не имел и должен был восполнить пробелы своего образования, предстояло пройти общий курс; срок обучения для них определялся в один год.
– Да я и сейчас могу сдать всю ту премудрость, которой нас пичкают здешние гимназические педагоги! – возмущался Михаил Ханыков, никаких аттестатов, кроме постановлений об исключении его последовательно из нескольких учебных заведений, не имевший.
Он писал рапорт по начальству и просил, чтобы его допустили к досрочному экзамену по гимназическому курсу, мотивируя свою просьбу патриотическим побуждением скорей оказаться на фронте. Но начальник училища, старичок генерал, срочно в начале войны вытащенный из запаса, хотя и отметил «подобающее дворянину патриотическое рвение Ханыкова Михаила», все же на рапорте его написал: «Отказать», а устно добавил: «Напрасно торопитесь, молодой человек, войны для вас еще хватит…»
Михаил и сам понимал, что войны для него хватит. По всему видно было, что Турция вот-вот вступит в войну на стороне австро-германцев и что Италия, явно изменив своим союзникам – Австрии и Германии, уже торгуется с англо-французами, чтобы вступить в войну на их стороне.
В тихий час между обедом и вечерними занятиями, забравшись в глухой угол монастырского сада, примыкавшего к училищу, толковали об этих аспектах международной политики Михаил и Александр. Они сохраняли приятельские отношения еще со времени своего знакомства в рекрутских казармах Баку. Что ж, с Михаилом можно было хотя бы поспорить без риска быть выданным училищному начальству!
Александр под предлогом устройства своих семейных дел дважды выезжал в Тифлис и встречался там с Алешей Джапаридзе, который уже взялся за собирание тифлисской большевистской организации. Саше даже удалось участвовать в знаменитой сходке на Давидовской горе, где Джапаридзе провозгласил тифлисскую большевистскую организацию вновь восстановленной.
– Овладевайте всей военной премудростью, которую может дать вам училище, – говорил ему Джапаридзе, – выходите в офицеры, и когда придет пора по слову Ленина повернуть солдатские штыки против царизма и капитала, тогда дело вам найдется…
Эти ясные и бодрые слова Саша помнил все время.
Он привез из Тифлиса большевистские прокламации и показал их Михаилу.
– Я могу уважать тебя за стойкость убеждений, но разделять их не могу, – сказал Ханыков. – Я кровью своей вдруг ощутил себя русским. Угроза тевтонского нашествия, кайзер Вильгельм…
Александр перебил:
– У нас свой кайзер не лучше Вильгельма, как и романовский режим не лучше гогенцоллерновского. А вообще говоря, дело тут в империалистических аппетитах обоих столкнувшихся трестов…
Спор происходил все в том же огромном плодовом саду, где они встречались. И когда, нарушая благодатную тишину, падало зрелое яблоко, спорившие испуганно оглядывались.
Михаила убедить не удалось, ну, а на других сотоварищей по юнкерскому училищу Александр и не рассчитывал. Оно было заполнено дворянскими недорослями русского и грузинского происхождения – тип, хорошо знакомый Александру по Тифлису. Сословное чванство, самодовольное невежество, назойливые выкрики о преданности династии, неискоренимое презрение к простым трудящимся людям и прежде всего к солдату – все это внушало Александру отвращение к сотоварищам по училищу. В часы досуга сальные разговоры о женщинах, наивное и жадное смакование будущих офицерских привилегий, под которыми многие подразумевали также и казнокрадство и обогащение за счет солдат, – таковы были юные дворянчики, собранные в кавалерийском училище. Несколько представителей ханских и бекских фамилий Азербайджана целиком слились с этой русско-грузинской дворянской молодежью.
Пожалуй, все же привлекательнее в нравственном отношении были определившиеся в училище армянские юноши-добровольцы. Фанатическая ограниченность их национализма претила Александру и делала невозможным какое-либо духовное сближение с ними, взгляды их были глубоко ошибочны, но у них хоть цель была: они пошли в русскую армию, надеясь отбить у турок многострадальную Армению.
Военные науки легко давались Александру; он относился к ним с интересом и жалел, что сведения, которые он получал на уроках топографии и артиллерии, были более чем ограничены. Наибольшее внимание уделялось заучиванию военных уставов и основному предмету училища – иппологии, учению о лошадях, учебный предмет, о котором Александр ранее даже и не слышал. С первого же дня пребывания в училище занятия по практической езде заняли в расписании уроков главенствующую роль. Александр не раз проводил летние каникулы в имении своих дядьев, в деревне, имел дело с лошадьми и хорошо ездил верхом. Но только в училище он узнал, что в верховой езде он придерживается правил «азиатской школы». Школа эта имеет свои достоинства и недостатки. Но, оказывается, есть еще «американская школа» верховой езды, в которой всадник ставит своей целью лишь достижение быстроты в передвижении. Об этой американской школе старший преподаватель верховой езды, сухонький старичок, весьма презрительно сказал, что она имеет лишь азартное назначение, так как предназначена для скачек. И старик, грустно вздохнув, рассказал, что «скачки, имеющие азартное назначение», именно и погубили его состояние, которое, как говорили шутники, «пошло буквально кобыле под хвост».
Старичок этот, князь Трубецкой, в молодости владелец большого конного завода, кавалерист-охотник и победитель на русских и международных скачках, будучи уже в преклонном возрасте, женился на красавице грузинке, с ее помощью окончательно разорился и доживал свой век в принадлежавшем ей именьице, в окрестностях того тихого грузинского городка, где расположено было училище.
Его вступительная лекция по иппологии начиналась так:
– Верховая езда есть благородное искусство. Назначение ее в том, чтобы, сидя на спине лошади или другого животного, как то: мула, верблюда, слона, – передвигаться различными аллюрами по разнообразной местности, по возможности меньше утомляя как себя, так и животное…
Упоминание о верблюде и в особенности о слоне вызвало сначала смех среди юнкеров. Однако старик, разглаживая свои крашеные усы и оглядывая птичьими, блестящими глазами класс, чтобы приметить смешливых, невозмутимо продолжал разбирать достоинства и недостатки слона, верблюда и мула с точки зрения их использования в кавалерии. Так привел он изложение к той мысли, что лошадь обладает идеальными свойствами для верховой езды, и закончил первую, вводную лекцию следующими словами:
– «Риттер», «шевалье», «кабальеро» – не случайно обозначают на разных языках понятие всадника, и все они суть обозначения благородного дворянства. Человек, севший в седло, становится благороден, ибо конь среди прочих домашних животных отличен интеллигентностью.
– В сравнении с нашим старичком не только коня, но даже любого осла можно рассматривать как профессора, – сказал Михаил Александру после первой лекции. – И что за самодовольное невежество! А такие слова, как «вотчинник», «помещик», связанные с отношением к земле, а не к коню, – как он их объяснит с точки зрения своей лошадиной теории?
– Конечно, ты прав, – согласился Александр, – но в этом старикашке есть какая-то своя законченность. И если нам суждено быть кавалерийскими офицерами…
– Не знаю, как ты, а я не предполагаю быть кавалерийским офицером! – сердито прервал его Михаил. – Я решил выбраться из этого идиотского учебного заведения, центром которого является конюшня, и я выберусь отсюда!
В молодости Трубецкой посещал манежную школу в Версале и сейчас на уроках верховой езды, несмотря на свои шестьдесят лет, показывал на коне все чудеса высшей школы манежной езды. Здесь был и изящный шаг пьяффе, и всевозможные пируэты и курбеты, и внезапное поднятие лошади на дыбы, песада, и каприоль, и лансада… Даже скептически настроенный в отношении всего этого Миша Ханыков сказал, что старик мог бы на худой конец еще заработать себе кусок хлеба в цирке.
Однажды, продемонстрировав ученикам чудеса манежной езды, старик, сойдя с коня, присел на скамейку и, похлопывая себя стеком по запыленным крагам, сказал окружившим его юнкерам:
– Однако, молодые люди, чудесное искусство манежной езды вряд ли пригодится вам на поле битвы, ибо при боевых действиях кавалерии необходимо совсем не то.
И тут началось докучное, каждодневное обучение правилам кавалерийского боя, быстрым переходам с одного аллюра на другой, умению ввести коня в бой шенкелями, давать повод и рубить с седла. Все эти занятия внушали Ханыкову такое отвращение, что он, наверно, сбежал бы из училища, если бы в результате отчаянного письма к старшему брату, офицеру генерального штаба, не был отозван из училища в распоряжение штаба Кавказского фронта.
Осень дерзкой ярью и желчью окрасила окрестные леса на горах. Снега Главного хребта спускались все ниже, и настолько тихо и сонно было в городке, что даже такое воинственное занятие, как рубка лозы, казалось всего лишь акробатическим упражнением, хотя война с турками уже началась и происходила она не так уж далеко от того городка, где расположилось училище.
Эта дремотная жизнь была вдруг круто оборвана войной. Из Тифлиса на взмыленной лошади прискакал нарочный, и училищное начальство, передвигавшееся ранее по двору и плацу с неторопливым величием, ускорило шаг, засуетилось.
– Турка на нас лезет… – И торговки, каждый вечер приносившие к воротам училища вино и фрукты, боязливо крестились.
Юнкера, слушая бабьи пересуды, посмеивались. К тому, что турки наступают, даже Александр, с детства наслышавшийся о победоносных действиях русских войск, отнесся с недоверием.
Но прошло еще два дня… На рассвете трубы пропели боевую тревогу. В холодный час, когда изо рта шел пар, училище поднялось и построилось. Взволнованный старичок генерал, начальник училища, сказал речь о славе русского оружия:
…Да, вам предстоит сейчас выступить на фронт, дабы отразить дерзкого врага.
Воодушевленно и дружно прокричали «ура», потом заседлали коней и переменным аллюром, переходя с рыси на шаг, а порой на галоп, двинулись по шоссе.
Медленно светало, сладко пахли погруженные в сонную тьму плодовые сады. Дорога вилась среди сжатых полей, и когда проезжали мимо деревень, слышны были глухие удары цепов, равномерно взлетавших и поднимавших рыжие облака мякины.
В полдень короткая дневка – и снова вперед, все вперед. Дорога стала круче, горы, то поросшие хвойным лесом, то голые, с заиндевевшими вершинами, приближались и окружали их. Становилось все свежее. Когда на рассвете следующего дня пришли они в Карс, шел тихий снег. Двигались на юг, а казалось, что движутся на север.
В Карсе у этапного коменданта был для них приготовлен горячий и обильный завтрак, но юнкера засыпали с ложками в руках – двадцатитрехчасовой перегон сказывался…
В полдень – побудка и быстрая поверка. После обеда зачитан был короткий приказ. Юнкерское училище приравнивалось к пехотному батальону и поступало в распоряжение командующего Сарыкамышской группой войск, генерал-майора Мышлаевского. С конями расстались. Саша даже не ожидал, что прощание с вороным мерином Мальчиком так тронет его сердце. Выданы были серые шинели, солдатские винтовки и мохнатые папахи. Кроме юнкерских кавалерийских погонов, которые тут же были пришиты к новым шинелям, ни одного признака дворянской конницы не осталось, и об уроках иппологии можно было позабыть. Пехота как пехота, только солдаты более, пожалуй, щупленькие и неуклюжие в непривычных после бешметов солдатских шинелях.
Медленно тащился поезд, горы становились все круче, сугробы по обе стороны линии все выше, солнце светило холодно и как-то особенно равнодушно.
«Что же это такое? – думал Александр. – Везут нас на юг, а вокруг становится все суровее и холоднее…»
Усталость брала свое, почти все спали, окна покрылись морозным кружевом. Остановка. Саша открыл окно. Красный закат, островерхие ели, взбегающие на белую от снега гору, воздух чист, прозрачен. И в этой тишине Саша впервые, услышал упруго-гулкие далекие звуки. Он прислушивался к этим казавшимся ему приятными звукам и сначала не придавал им значения.
– Пушки? – спросил кто-то вдруг поблизости, очевидно с подножки вагона.
– Пушки… – ответил кто-то снизу. – Третий день пальба идет.
– А где? – снова спросил тот же голос – наверно, юнкер, стоящий на часах.
И другой голос с усмешкой ответил:
– Приедете – увидите. Под Сарыкамышем.
2
Так впервые до сознания Александра дошло это слово – Сарыкамыш, которое потом надолго наполнилось для него суровым и зловещим содержанием.
Однако с той станции, на которой произошел этот разговор, поезду дальше двинуться не пришлось. Говорили, что Сарыкамыш отрезан турками, вышедшими на железную дорогу, соединявшую эту пограничную крепость с Карсом, что Сарыкамыш уже занят турками и его придется отбивать.
К вечеру юнкеров построили по два и двинули со станции в глубь леса по узкой, занесенной снегом дорожке. Порой лес расступался, и тогда по широким плоскогорьям раскидывались поля, под ногами шуршало прикрытое снегом жнивье. Юнкера проходили мимо безмолвных армянских деревень. Вросшие в землю, черные, подслеповатые домики, точно затаившись, прислушивались к далекому гулу стрельбы, подходившей все ближе. Огненные сполохи уже колебались над хвойными, замкнувшими горизонт горами.
Потом юнкеров остановили. Офицеры, прикомандированные все из того же таинственного и зловещего Сарыкамыша, приняли каждую из юнкерских рот. Так во главе роты, в которой состоял Александр, появился худощавый поручик Владимир Сорочинский с русыми прямыми волосами и тонкогубым, правильных очертаний, злым лицом. Он кратко рассказал цель всей операции: охват с трех сторон лесистой горки – там предполагались турки.
Начинался рассвет. Словно просыпаясь, заиграли краски. Встало солнце, зарыжели стволы сосен на горе, и одновременно послышалась близкая ружейная стрельба – передовые заставы юнкеров встретились с турками.
Турок, укрепившихся на лесистом холме, было немного, но отбивались они крепко – сначала ружейным огнем, потом прикладами и штыками. Когда турецкий ножевой штык пропорол шинель Александра, он, мгновенно ощутив смертельную угрозу, заученным на плацу движением вогнал свой штык в серо-мышиную куртку. И вдруг с ужасом и отвращением почувствовал, что штык его входит не, как на плацу, в мягкий тряпичный мешок, а в то неподатливое, живое, что должно быть священно и неприкосновенно, – в человеческое тело. Предсмертный крик турка весь день потом звучал в ушах Александра, и хотя день этот был солнечный, весь в блеске и голубизне снега, на всем словно лежала укоризненная тень.
Убитых турок стащили в одно место. Неподвижные, бородатые и горбоносые, с почерневшими узловатыми, жилистыми руками, они отличались от грузинских крестьян только тем, что у турок были бритые головы. Обмундированы турецкие солдаты были очень легко. Одеяла и башлыки не могли в условиях жестокого мороза заменить шинелей, и у многих турецких солдат руки и уши обморожены – видно, все последние дни провели они в тяжелых страданиях. Может быть, этим и объяснялось выражение важного покоя на лицах мертвецов.
Сорочинский в белом полушубке с золотыми погонами, кривя в какой-то радостно-ожесточенной гримасе свое раскрасневшееся лицо, поздравил юнкеров с боевым крещением. Тут же возле турецких трупов роздали сухари и консервы. «Так собак на охоте кормят», – подумалось Александру.
Едва они двинулись вперед, как застучали турецкие пулеметы. Пришлось залечь в снег, и с этой минуты снег, сначала колючий и легкий, а к середине дня оплотневший, стал для них как бы естественной средой. В снегу шипели ставшие уже привычными пули. В снегу, получив смертельные ранения, стеная и захлебываясь, расстались с жизнью знакомые Александру юнкера. Снег набивался в рукава и за воротник, таял, и вода, сначала холодная, нагревалась от соприкосновения с горячим телом. В снегу они закусывали хлебом и сахаром и запивали тем же снегом, от которого еще больше хотелось пить. Когда же на короткие мгновения внезапная дремота вдруг смежала глаза, под закрытыми веками мерцали только алые пятна на искрящемся снегу.
Все эти долгие часы – днем и ночью – Александр все же чувствовал, что они продвигаются куда-то вверх – медленно и неуклонно. Бывало, что турки с неистовым визгом поднимались в наступление, но вязли в сугробах, и фигуры их в коричневых одеялах и красных фесках становились тогда живыми мишенями.
В конце второго дня перед юнкерами наконец обозначилась цель их наступления. Похудевший, с черным ртом и провалившимися, лихорадочно сверкающими глазами Сорочинский показывал на эту всю покрытую снегом, мягко розовеющую при заходящем солнце седловину между горами и что-то кричал. Это и был Бердусский перевал – позиция, обеспечивающая подступы к Сарыкамышу.
Бой продолжался целую ночь. Сопротивление турок, сосредоточивших на перевале свои пулеметы, все возрастало. Юнкерам, чтобы выйти на перевал, приходилось выискивать укрытые места.
Александру надоело ползти в снегу, и он вдруг, облизывая пересохшие губы, поднялся во весь рост и побежал вперед к перевалу. «Все равно, если убьют, так пусть сразу…» С этой единственной горячечной мыслью, чувствуя, как тяжело бьется сердце, слыша, как свистят вокруг пули, бежал он вверх, стараясь ступать на камни, торчащие из-под снега. Он не знал, что за ним с криком «ура» поднялась вся цепь. Чувствуя, что задыхается, он убавил бег, и его опередили.
Александр добрался до перевала, когда турок выбили оттуда. Только стоны и проклятия на разных языках слышны были там, всюду чернели неподвижные фигуры. Он снял папаху с разгоряченной головы и огляделся. Вид, открывшийся сверху, поразил его. Тяжелый путь, за эти два дня проделанный ими в бою, весь был виден отсюда. Поднимающиеся вверх зелено-хвойные леса окаймляли голые нагорья, в долинах чернели деревни. А прямо внизу, за перевалом, как на ладони стоял русский город со своими прямыми улицами, белыми казарменными зданиями, бревенчатыми и кирпичными домами и русской церковью на пригорке. И то, что городок этот окружен был хвойными лесами, придавало ему особенно русский, северный вид.
– Сарыкамыш, – прошептал Александр. – Сарыкамыш…
Протяжно-хриплый, булькающий стон заставил его вздрогнуть и оглянуться. Он увидел искаженное страданием лицо с обкусанными губами и налитыми кровью глазами. Это был турок. Александр, забыв обо всем, движимый одной лишь жалостью, поднявшейся из заповедных глубин души, кинулся к турку, схватил его и стал приподнимать. Тот вырывался, дергался, что-то бормотал, и Александр вдруг понял, что турок умирает…
В ту же минуту он услышал резкий голос Сорочинского:
– Эй, юнкер, что вы тут нянчитесь?!
Почувствовав, как тяжелеет тело несчастного, Александр опустил его на землю и непонимающими глазами взглянул на Сорочинского, который подбегал, держа в руках саблю с окровавленным клинком. Выражение откровенного злого азарта на этом лице поразило Александра.
– Он умер уже… – тихо сказал Александр, показывая на турка.
– Готов? Видно, пришлось вам с ним повозиться, – сквозь зубы сказал поручик и вдруг быстро нагнулся и вырвал из каменеющей руки мертвеца древко, которое Александр только сейчас заметил.
Темный, как спекшаяся кровь, небольшой квадратный кусок бархата был украшен серебряной звездой с полумесяцем и какими-то крупными золотыми арабскими буквами.
Выражение жестокого азарта на лице Сорочинского стало еще явственней.
– Здорово… – сказал он, щеря зубы в улыбке. – Знамя, выходит, захватили?! Да, чтобы сразу так повезло, в первом же сражении… Ей-богу, вы в сорочке родились, – говорил он, рассматривая знамя и не замечая, что нога его стоит на раскрытой ладони убитого. – Как ваша фамилия? – спросил Сорочинский, вынимая из планшета с картой записную книжку.
3
Победа определилась, и турки отошли от Сарыкамыша, оставив несколько тысяч трупов и множество обмороженных и тяжелораненых солдат, попавших в плен к русским вместе с командиром 9-го турецкого корпуса Исмет-пашой.
Бои шли уже верстах в двадцати западнее Сарыкамыша, на турецкой территории. Кавалерийское училище, потерявшее около трети своего состава убитыми и ранеными, было заменено на фронте свежими, подошедшими из России войсками. Юнкеров отвели в Сарыкамыш, в близкий тыл, и включили в состав сводного крепостного полка, который нес гарнизонную службу.
Александр в числе прочих героев битвы был награжден на огромном Сарыкамышском плацу, возле собора, георгиевским крестом четвертой степени. Сорочинский в рапорте о подвиге юнкера Елиадзе не забыл и себя: оказывается, в решительный момент боя он пришел на помощь юнкеру Елиадзе, пытавшемуся отобрать знамя у турецкого знаменосца. За это поручик Сорочинский получил Владимира с мечами и золотое оружие.
Однажды Александр был в наряде на посту у денежного ящика, в кабинете командира сводного крепостного полка. Когда караульный начальник привел его в кабинет, Александр увидел, что здесь расположились несколько офицеров. Штабс-капитан Зюзин, заместитель начальника оперативной части полка, большеротый, лысеющий человек, всегда веселый и чем-то симпатичный, сегодня дежурил по полку. Очевидно, чтобы дежурство прошло веселее, он собрал своих приятелей. Среди них Александр с неприязнью увидел прилизанную и расчесанную на прямой пробор русую голову Сорочинского.
Зюзин о чем-то весело рассказывал. Когда Александр вслушался в то, о чем шла речь, он, стоя в темном углу кабинета, желал только одного: лишь бы господа офицеры не обратили на него внимания и не прекратили разговора. Впрочем, им, что называется, было море по колено: на столе стояли одна пустая и две уже откупоренные бутылки с коньяком.
– Да, о том, что наступление турок на Сарыкамыш разработано германскими генштабистами, – оживленно говорил Зюзин, – мы узнали в тот самый, как любит выражаться поручик Сорочинский, трагический момент сражения, в ночь с тринадцатого на четырнадцатое, когда наше железнодорожное сообщение с Карсом уже было прервано турками. Именно в эту ночь наши разведчики, совершив дерзкий поиск в турецком тылу, взяли в плен начальника штаба двадцать восьмой турецкой пехотной дивизии. В его объемистом портфеле оказалась среди прочих бумаг копия оперативного приказа по третьей турецкой армии, содержавшего весь грандиозный план Энвер-паши. Этот план был не чем иным, как попыткой применить против нас навязчивую идею германского генерального штаба: предполагалось под Сарыкамышем устроить русским ганнибаловские Канны и, таким образом, одним ударом загубить всю огромную русскую армию.
Офицеры засмеялись.
– Колбасники… – сказал с презрением Сорочинский.
Зюзин бросил на него быстрый и несколько насмешливый взгляд.
– Должен сказать, что на нас, штабных офицеров, знавших всю обстановку, этот план произвел впечатление недостаточно обоснованного. Но все же видно было, что концентрация турецких войск вокруг Сарыкамыша происходит грандиозная. Когда же об этом приказе доложили нашему старику, тут-то и началось светопреставление, – с оттенком грусти сказал Зюзин.
– А, что говорить об этом старом трусе Мышлаевском, – сказал Сорочинский с тем же презрением, с каким он только что говорил о немцах-генштабистах. – Выпьем за тех, кто спас под Сарыкамышем славу русского оружия!
Офицеры молча чокнулись. Сорочинский, только что награжденный, в сущности предлагал выпить за самого себя. Очевидно, нескромностью этого тоста объяснялось сдержанное молчание, в котором было выпито вино.
– Что ж, – вздохнув, сказал Зюзин, – конечно, старик на этом деле обремизился. Осуждать его сейчас легко. Но первые действия Мышлаевского, когда он принял командование Сарыкамышской группой, были довольно разумны. Мы в тот момент вели неудачное наступление на Кепри-Кей, а он от этой затеи отказался и стал всерьез налаживать инженерные работы вокруг крепости, создал правильную схему артиллерийской обороны и навстречу наступающим туркам выдвинул два железнодорожных батальона. А так как к тому времени выпал глубокий снег, для продвижения этих батальонов приказал использовать сани, что было и находчиво и практично. Если бы все эти меры не были приняты, вряд ли мы сумели бы остановить противника примерно в восьми или десяти верстах западнее Сарыкамыша… Но ведь обстановка-то складывалась тогда для нас невеселая. Турки в тот момент вышли нам в тыл, на дорогу Сарыкамыш – Карс. Это первое. Из Ольты и Ардагана, где наши войска, оказывается, продолжали сражаться, сведений не поступало. Это второе. И тут, заглянув в захваченные турецкие бумаги, где были изложены сверхграндиозные планы Энвер-паши, в которых он предполагал взять Тифлис, старик наш с перепугу решил, что новые Канны чуть ли уже не осуществлены и что дорога туркам на Тифлис через Ардаган, Боржом и Ахалцих открыта.
Ведь Энвер как-никак зять султана, и хотя молод, но второе лицо в Оттоманской империи. Не щадя своей армии и расплачиваясь за каждый шаг тысячами обмороженных, он продолжал рваться вперед. Вот почему на воображение Мышлаевского так подействовал этот злополучный приказ по третьей армии, перехваченный нашей удалой разведкой. Тут-то старик и кинулся в Тифлис. – Зюзин покачал головой. – Позже Мышлаевский объяснял, что предполагал сформировать новую армию и встретить турок на подступах к Тифлису. Но это уже относится к разряду тех благих намерений, о которых правильно говорится, что ими вымощена дорога в ад.
– И все-таки вы напрасно, Михаил Николаевич, оправдываете с психологической, так сказать, стороны генерала Мышлаевского, – проговорил с твердым, чуть заметным армянским акцентом все время молчавший черноволосый офицер со сросшимися бровями. – Если бы вы были в это время в Тифлисе, вам не пришли бы в голову эти оправдания. Ведь как только генерал Мышлаевский прискакал в Тифлис, он первым делом занялся не чем-нибудь, а эвакуацией из Тифлиса своей семьи и имущества. Это достойно русского генерала, а? А ведь до своего назначения в Сарыкамыш Мышлаевский много лет был помощником и заместителем командующего округом, его весь Тифлис знал. Вот почему в той панике, которая разразилась в Тифлисе, повинен, конечно, генерал Мышлаевский. А тут еще их сиятельство наместник Кавказа князь Воронцов-Дашков заперся у себя в кабинете и перестал кого-либо принимать.
– Очевидно, решил дождаться турок в условиях наиболее комфортабельных, – усмехнулся Зюзин.
– Не могу знать… – жестко ответил офицер. – Но, знаете, видеть, как из Тифлиса начали уже эвакуировать ценности и в первую очередь казенные бумаги… Быть свидетелем того, как видные представители армянского и грузинского интеллигентного общества, не имевшие никакого желания встречаться с турками, покатились из Тифлиса кто куда, а некоторые даже докатились до самого Петербурга, знаете, видеть все это…
– Говорят, что положение спасла жена наместника? – спросил Зюзин, посмеиваясь и словно не желая придавать разговору серьезный характер.
– Именно так, – с гордостью ответил рассказчик. – Княгиня Воронцова-Дашкова, урожденная Абамелек-Лазарева, подобно многим армянкам, обладает решительным характером. Видя, что супруг ее… как бы это выразиться… ну, сел в бест, она взяла бразды правления в свои руки и послала меня на фронт выяснить положение…
Офицеры заговорили, засмеялись.
– А мы-то и не подозревали, что делается у нас в тылу, – сказал Зюзин. – Продолжали драться с турками и с божьей помощью крепко побили их. Взяли в плен две тысячи человек, очистили перевал Яйлы-Бердус и вышли в тыл одиннадцатого турецкого корпуса. Я был прикомандирован к отряду полковника Довгирда, совершавшего эту операцию, и только вернулся оттуда.
Турки, увидев у себя в тылу наш отряд, стали поспешно отходить. Теперь уже известно, что они разбиты и под Ольтой и Ардаганом. А вчера пленный турецкий офицер рассказал о бегстве в Стамбул нашего неудачливого турецкого Ганнибала…
Офицеры весело смеялись над Энвером и над собой, над Мышлаевским, над наместником и над его решительной супругой. Сорочинский пил коньяк и саркастически щурился. Александр испытывал неприязнь к этому офицеру, как будто даже в позе его со склоненной головой и рукой, сжимающей бокал, было притворство.
Спустя несколько дней пришел приказ о досрочном производстве юнкеров в первый офицерский чин, а вскоре после производства Александр удостоился неожиданной чести: зачисления в конвой для доставки в столицу многочисленных турецких знамен, взятых под Сарыкамышем. Произведенный в штабс-капитаны, Сорочинский был назначен начальником этого конвоя.








