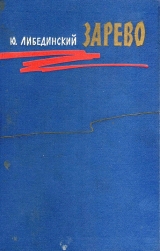
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 57 страниц)
1
Товарный вагон, в котором на все время пути от Петербурга до Баку заключалось драгоценное имущество экспедиции (бациллы в ретортах и кролики в клетках), находился под присмотром Роберта Павловича Леуна, старейшего сотрудника и сотоварища профессора Баженова, сопровождавшего его еще во время поездки в Маньчжурию. При крепком сложении и широком лице, прорезанном мужественными морщинами, Леун обладал тонким голосом сварливой бабы и беспокойным, придирчивым характером. Но Баженов ценил и любил Леуна. И все же идея запереть именно его на все время пути внутри товарного вагона, вместе с препаратами и прочим имуществом лаборатории, исходила от Баженова. Аполлинарий Петрович мог, таким образом, не беспокоиться о драгоценных препаратах экспедиции и при этом избавлялся от назойливого, непрерывно звучащего в ушах ворчливого старушечьего фальцета Роберта Павловича. Но едва поезд остановился на станции Баку-товарная (там же, где за две недели до этого выгружались казаки), как на платформе возле «международного» вагона послышался визгливый голос, пререкающийся с проводником.
– Весь вагон всполошит, невыносимый человек! Людмила Евгеньевна, выходите скорей и уведите его немедленно, – шепотом сказал Аполлинарий Петрович.
Людмила после остановки в степи спать не ложилась и быстро выскочила на перрон.
Увидев ее, Леун немедленно потребовал, чтобы она вместе с ним отправилась к вагону с имуществом. Он настаивал, чтобы был составлен и подписан главным кондуктором акт, в котором устанавливалось, что «на двадцать шестой версте, не доезжая до Баку, вследствие резкого торможения разбилась пустая колба марки № 4».
Вагон с имуществом экспедиции должны были отцепить на Баку-товарной, и Леун, крепко вцепившись в рукав «главного», требовал, чтобы акт был составлен до того, как поезд уйдет.
Сразу же согласившись с Леуном в том, что акт составить нужно, Люда перешла в разговоре с ним на шепот и заставила старика перейти на такой же шепот.
– Ну, что вам стоит, – с улыбкой сказала она «главному», и тот, поддавшись на эту просительную улыбку, вместе с Леуном ушел составлять акт.
Люда одна осталась около «международного» вагона. «Вот они проснутся, а меня хвать и нету! – весело подумала она о студентах. – Только бы скорей уехать, чтоб они не проснулись». Но вот вышла и Римма Григорьевна, с чисто вымытым лицом, красным свежим носиком и щечками. Вот тащат чемоданы, чемоданы, еще чемоданы. Наконец и Аполлинарий Петрович, длинный в своем длинном пальто, показался на ступеньках вагона. Он оглядел сверху все выгруженные чемоданы, снова исчез в вагоне – наверно, чтобы проверить, не осталось ли чего в купе. Нет, все в порядке. Он соскочил с подножки, и во главе с ним весь немногочисленный персонал экспедиции двинулся к хвосту поезда.
Акт был составлен и подписан, вагон с оборудованием отцеплен, поезд ушел, и Люде стало еще веселее и торжественнее. «Фронт! Война!» – вспомнила она слова Аполлинария Петровича, сказанные ночью. Эти страшные слова вызывали в ее душе лишь чувство бодрости и готовности к труду, к подвигу.
* * *
В день прибытия экспедиции умерла последняя из злополучной семьи Сафы оглы – молоденькая невестка его Сарья. До самой смерти кормила она грудью своего маленького сынка Аскера, которому недавно исполнился год. Ребенок был жив, его требовательный плач доносился из маленькой палатки, куда была помещена Сарья и где она умерла.
Получив разрешение Риммы Григорьевны сопровождать санитаров при посещении этой палатки, Люда вошла туда, несколько робея, заранее готовая к ужасам. Ребенок жалобно пищал, припав к окровавленной груди мертвой матери, и возился в своих грязных пеленках. У санитаров были носилки, санитарам надлежало перенести ребенка в другую палатку – изолятор. За это время врачи должны были решить вопрос о дальнейшем режиме злосчастного сироты.
Санитары, хотя на них, как и на Люде, были марлевые маски и резиновые перчатки, вдруг замешкались. Да и какой мужчина не смутится, раньше чем взять на руки грудного грязного младенца, даже если он здоров? А Люда, услышав этот жалобный писк, забыла и робость и ужас – вообще забыла о себе и поступила так, точно этот требовательный, настойчивый и даже гневный зов, исходивший из охрипшей глотки ребенка, адресовался непосредственно к ней. Она подошла к койке, где лежал труп, взяла ребенка на руки и ловко, точно всегда этим занималась, окутала его большим куском марли. Прижав ребенка к груди, она вынесла его на дневной свет… Ребенок тыкался ей в грудь головкой и, хватая жадным ротиком халат, сердился…
– Молока достаньте! Да живо! – скомандовала Люда санитарам, которые растерянно толпились у входа с носилками, не зная, что они теперь должны делать.
Она сказала это голосом, каким говорил в решительные минуты ее отец. Заметив это, она удивилась, а потом обрадовалась, почувствовав в себе мужество отца, его опыт. Санитары кинулись выполнять полученное приказание.
Держа ребенка на руках, Люда, быстро и широко шагая, перенесла его в палатку. А Баженов и Нестерович в это время в своей палатке совещались о дальнейшей судьбе сироты. Больше всего беспокоил вопрос, кому поручить уход за ним. В служебном порядке обязать никого нельзя, да и призывать к добровольному самопожертвованию можно было только крайне осторожно. Поэтому, когда Римма Григорьевна вбежала в комнату и сбивчиво, волнуясь, рассказала о поступке Люды, Баженов и Нестерович невольно переглянулись. Самый сложный пункт проблемы решился сам собой.
– Я только позволила ей сопровождать санитаров, право, я ей ничего не поручала, – оправдываясь, говорила Римма Григорьевна.
Когда трое врачей вошли в палатку, Люда уже успела обмыть ребенка в теплой, приготовленной заблаговременно воде, разведенной сулемой, и теперь пеленала его, приговаривая:
– Такое маленькое, такое бедное…
Ребенок не давался, кричал, и она, не оглядываясь, не видя врачей и думая, что вернулись санитары, сердито сказала:
– Ну, давайте, давайте скорей молока! Дольше-то ходить не могли! Ведь он голоден, бедный мой…
Римма Григорьевна всплеснула руками, охнула и выбежала из комнаты. Она, услышав крик ребенка, вдруг поняла, что из всех тех важных проблем, которые волновали ее, важнее вопроса о безответственности Люды и вопроса об ответственности ее, Риммы Григорьевны, за то, что она разрешила Люде сопровождать санитаров, является вопрос о том, где достать молока ребенку.
Так для Люды началась новая жизнь. Несколько вешек, поставленных поблизости палатки, обозначали ту территорию, за пределы которой она не могла выходить. Возле палатки росло огромное развесистое тутовое дерево, и под ним Люда с маленьким Аскером проводила целые дни. Настала вдруг солнечная, знойная погода, но зной умерялся мягко-влажным, морским ветром. Никаких симптомов заболевания у мальчика не было, он был здоров и весел, и Люда просила снять с лица своего «паранджу», как она называла свою марлевую маску, и освободить руки от резиновых перчаток. Но Баженов, единственный оставивший за собой право навещать ее, категорически запретил даже говорить об этом.
В Тюркенде было несколько женщин, которые имели грудных детей, они оспаривали между собой право снабжать своим молоком маленького Аскера. Наконец была выбрана маленькая Разият, кормившая первого ребенка, и она каждый раз, приходя сдавать молоко, подолгу простаивала, держа на руках свою черноглазую румяную девочку, следя за русской девушкой в белой парандже и ожидая ее взгляда. А когда Людмила взглядывала в ее сторону, Разият поднимала свою девочку, а Людмила – Аскера. Приходили и другие – старые и молодые женщины, они приносили цветы, ягоды, лепешки, а то и бараний шашлык или курицу в соусе. Посетители категорически требовали, чтобы все это, предназначенное для Людмилы, было принято. Баженов, чтобы не обидеть женщин, приказал принимать эти чистосердечные подношения, но, конечно, запретил передавать их Людмиле: с ними могла проникнуть инфекция, которая осложнила бы весь ход наблюдения.
Под руководством Аполлинария Петровича с помощью Риммы Григорьевны жизнь маленького бактериологического отряда под старыми чинарами и тутовницами деревни Тюркенд приобрела размеренно-педантический характер. Из крови умершей Сарьи, матери Аскера, последней жертвы чумы, добыта была новая, свежая вакцина, и опыты над кроликами следовали один за другим. Им прививали вакцину, привезенную из Петербурга, а потом заражали их свежей вакциной – и кролики выздоравливали: вакцина себя оправдывала. Аполлинарий Петрович все чаще стал задумываться: следовало проверить вакцину на живом человеке, прежде всего на себе. Риска как будто бы и не было. Ну, а если бы он и был? И Баженов переводил взгляд на белую среди зелени палатку, возле которой возилась с Аскером Люда. И если бы в эти минуты Люда могла видеть, с каким выражением глядел на нее всегда суровый и сдержанный профессор! «Девушка, повинуясь благородному материнскому инстинкту, пошла на риск. Неужели ты ради науки не можешь на это пойти?» – говорил он себе и в такие минуты старался не встречаться взглядом с Риммой Григорьевной и не вспоминать о детях. Здесь начиналась сфера иной ответственности – ответственности перед своей семьей, а от этих мыслей ему следовало бы отрешиться… Но на всякий случай он еще и еще повторял опыты – и все они сходили удачно.
Внезапная тревога нарушила размеренную жизнь отряда эпидемиологов. Однажды в четыре часа утра, еще за час до того времени, когда Аскеру обычно измеряли температуру, Людмила дала тревожный звонок. Баженов, торопливо одевшись, прошел в палатку Людмилы. У мальчика, оказывается, поднялась температура. Первые симптомы стали заметны вскоре после полуночи: он спал тревожно, тяжело дышал. Люда не решалась будить его, надеясь, что мальчик успокоится. В четыре часа начался кашель, удушье. Она поставила термометр. Тридцать восемь и шесть – показала ртуть. Вот почему Люда вызвала Баженова. Римма Григорьевна, не решаясь нарушить строгий наказ мужа, белым призраком маячила в нескольких шагах от палатки.
– Видите, – глухо, из-под маски, сказал Баженов, взглянув на мальчика, плачущего и прерывающего плач кашлем и снова плачущего, – царица не любит отпускать от себя тех, кого посетила.
– А вдруг это какая-нибудь детская болезнь? – сказала Люда.
Глаза их встретились. Наполненные слезами глаза Люды умоляли, просили – о чем? О том, чтобы это была не чума, а какая-нибудь другая болезнь? Но что он мог сделать? Баженов отвел взгляд и сказал:
– Мы с вами возьмем сейчас все анализы, полагающиеся при пестис. Но я попрошу на всякий случай Сергея Логиновича (он подразумевал доктора Нестеровича) зайти сюда. Терапевт он, мне кажется, опытный.
Анализы были взяты, Аполлинарий Петрович ушел, бережно унося пробирки, и вскоре вернулся вместе с Нестеровичем.
Сергей Логинович, вызвав отчаянный крик ребенка, заставил его открыть рот и с помощью зеркала заглянул в маленький зев, из которого вместе с кашлем вылетали брызги слюны и оседали на марлевой маске врача. Баженов покачал головой: если чума, то вот еще один опасный в смысле заражения случай.
Выслушав легкие, Нестерович невнятно сказал из-под маски, обливая руки раствором сулемы:
– Круп, крупозное воспаление… или дифтерит…
– Ой! – радостно воскликнула Людмила.
– Погодите, я ведь не специалист по детским… И мазок нужно взять из зева… Нет, здесь без Веры Илларионовны не обойтись. Это мой помощник по промысловой больнице, врач-акушер и специалист по детским, Николаевская Вера Илларионовна.
– Но откуда здесь может быть круп при нашей абсолютной изоляции? – вслух подумал Баженов. – Вы, надеюсь, ничего от женщин не принимали, Людмила Евгеньевна? – спросил он строго.
– Нет, – сказала Людмила, марлевая паранджа скрыла румянец смущения.
Нет, она ничего не брала от женщин. Но, располагаясь в тени тутового дерева, она на одной из ветвей неожиданно обнаружила колпачок с бубенчиками, колпачок, сшитый из зеленых, красных и желтых полосок да еще при этом звенящий! Аскер лежал под деревом и, увидев в ее руках колпачок, с криком потянулся к нему… Колпачок стал любимой игрушкой, а потом Люда увидела, что Аскер сосет колпачок…
Два ближайших дня прошли в беспокойстве и тревоге. Наконец появилась худощавая, сдержанная Вера Илларионовна. Умело заняв Аскера яркой погремушкой, специально принесенной для него, она взяла мазок из его горла. Сначала поступили анализы на чуму – они ничего подозрительного не дали. На следующий день поступили анализы на дифтерит и круп – они показали дифтерит. Тут же был проведен консилиум. Решили повторить анализ на чуму, и если он снова ничего не даст, тогда проделать то, на чем категорически настаивала Вера Илларионовна: перевести Люду вместе с Аскером в больницу. Им обеспечен будет там специальный режим и уход – все то, чего больной мальчик не мог получить в обстановке кочевого эпидемиологического отряда, приспособленного для борьбы с чумой. Аполлинарий Петрович шел на это крайне неохотно. Хотя новых случаев чумы не было, он твердил, что осторожность в отношении чумы никогда не мешает. Но после того как повторный анализ никаких подозрительных симптомов не дал, Аполлинарий Петрович согласился. Люда была водворена в небольшую чистую и светлую комнату в больнице, где раньше находилась аптечка, теперь перенесенная в кабинет дежурного врача. Здесь были поставлены кровати: большая – для Люды и маленькая – для Аскера. Белизна, чистота, острый запах лекарств в палате, маслянистый аромат роз, доносящийся из маленького, но пышного садика, – таков был мир, в котором очутилась Люда.
2
Молодой Шамси каждый день после работы непременно направлялся к Тюркенду. Пройдя настолько близко к зачумленной деревне, насколько позволяли ему патрули, он перекликался с сестрами. От них-то он и узнал о русской ханум, которая не побоялась взять с груди умершей Сарьи ее маленького сынка. И вот молоденькую ханум вместе с ребенком отделили, и все кормящие матери в Тюркенде предлагали молоко для маленького Аскера, но русские лекари для этого святого дела выбрали молоденькую Разият, и она гордится перед другими матерями.
И Шамси теперь рассказывал всем, кого ни встречал, о благородном поступке русской ханум.
С того часа когда его дядя укатил на эйлаги, каждый новый день приносил молодому Шамси что-либо новое и неожиданное. А давно ли жизнь его текла безмятежно-сонно и ясно. Раньше самое главное было – это добиться благоволения дяди, всесильного Шамси Сеидова. Сколько надежд давало одно совпадение их имен! Ну, а второе дело – сестер замуж выдавать и получать за них хороший калым. Потом дядя примет его к себе в дело – или он не Шамси Сеидов, имя которого красуется под русским орлом на вывеске? А тогда настанет время, он купит себе красавицу невесту и первый поднимет покрывало, скрывающее ее лицо.
Но после того как дядя бросил в беде их семью, вся прелесть этих надежд и мечтаний поблекла. Теперь в душе Шамси место почтенного дяди заняли такие люди, как Буниат Визиров, Кази-Мамед и в особенности Алым Мидов, который отечески-нежно обходился с юношей и часто приводил его к себе домой. Там Шамси встречал Науруза, молчаливого пришельца с северных склонов Кавказа, жившего в это время у Алыма, и Науруз стал ему куда ближе братца Мадата в студенческой фуражке. А неясный образ невесты, скрытой под чадрой, затмила русская ханум с открытым лицом, которая кормит из рожка маленького Аскера. Это был новый мир, еще во многом непонятный, во многом даже пугающий, но для того, чтобы в нем жить гордо и ходить с высоко поднятой головой, совсем не нужно было ждать богатого калыма за сестер и много лет копить деньги.
Однажды Шамси в доме у Алыма – который раз! – с жаром рассказывал о благородном поступке русской ханум. Жена Алыма Гоярчин громко благословляла добрую русскую девушку и, кстати, добавила, что она знакома с другой русской ханум, хаким-ханум, которая живет при больнице и каждый раз приходит к ней сюда, когда болеют дети, – Вера-ханум зовут ее. Во время этого разговора буровой мастер Али-Акбер зашел к Алыму и подробно стал расспрашивать Шамси о русской ханум. Но что мог сказать ему Шамси сверх того, что рассказывал, – он сам знал об этом не очень много.
Конечно, Люда Гедеминова очень удивилась бы, если бы узнала, что есть в Баку человек ей незнакомый – буровой мастер Али-Акбер, на которого рассказ о благородном подвиге незнакомой русской ханум произвел глубокое впечатление и подтолкнул его самого на совершение самоотверженного поступка. Правда, согласие Алыму на участие в делегации он дал еще до того, как услышал эту историю о русской ханум, но, узнав о ней, он шел на это дело с гордым и легким сердцем.
Однако, согласившись на участие в делегации, Али-Акбер остался Али-Акбером. Он всегда был человеком в житейском отношении очень благоразумным и осмотрительным, и он принял свои меры предосторожности. Самые необходимые для жизни его семьи пожитки были незаметно для соседей перевезены на квартиру его тестя в Шихово село, в другую часть города. В тот час, когда Али-Абкер должен был отправиться в Совет съездов, жена его, сообщив соседям, что из-за наступивших знойных дней она вместе с детьми отправляется на эйлаг, однако перебралась в Шихово село, на другой конец Баку. Сам же Али-Акбер собирался оставить работу под предлогом болезни и не предполагал пока возвращаться ни на опустевшую квартиру, ни тем более к себе на работу.
И вот трое делегатов бакинских рабочих – азербайджанец Али-Акбер Меджидов, русский Петр Васильевич Хролов и армянин Акоп Вартанович Вартаньян, до этого не знавшие друг друга и друг о друге даже и не слышавшие, сошлись в чайхане на Раманинском шоссе. Узнали они друг друга по приметам, заранее им сообщенным. Присев на низенький, довольно засаленный диван, они обменялись безмолвным, но крепким рукопожатием. Перед ними тут же, как это водилось в чайхане, появился чайник с крепким чаем. Почтительный поклон чайханщика относился к праздничной одежде посетителей: они были в лучших своих, городского покроя, пиджаках и отутюженных брюках, а у Али-Акбера даже подвязан пестрых цветов галстук, охватывавший белый стоячий воротничок. Они в безмолвии выпили чай, стараясь незаметно разглядеть друг друга. Акоп Вартаньян – мужчина могучего сложения, с бугристым и смуглым, синим от бритья лицом и очень черными смелыми глазами. Чашка с чаем, казалось, совсем пропадала в его огромной, поросшей густым волосом руке, чай он пил медленно, неторопливо, глоток за глотком. На нем – белая, довольно поношенная сорочка, вроде тех, какие летом носят официанты, верхняя пуговица воротничка расстегнута. Сорочка, видимо, долго служила ее обладателю. На Петре Васильевиче Хролове рубашка была той свежей оранжевой окраски, какая бывает у ситца до первой стирки, она топорщилась и пахла обновкой; синий пиджак надет не в рукава, а внакидку. Чай он выпил залпом, крякнул так, будто выпил водки, и, вынув новый носовой платок, вытер пот, выступивший из-под его рыжеватых волос. Сощурив быстрые, с золотинкой, глаза и сложив губы трубой, он вздохнул:
– Ффу-у! – и тут же, жестом подозвав хозяина, расплатился за всех. Потом он быстро оглядел круглого и румяного Али-Акбера, допивавшего последний глоток чаю, и Акопа, неторопливо смакующего драгоценный напиток, и тонким, дребезжащим, но очень верным голоском неожиданно пропел:
«Тореадор, смелее в бой… тореадор, тореадор!» – И такая веселая лихость выступила на его молодом, раскрасневшемся после чая лице, что Али-Акбер, у которого в ушах еще продолжали звучать всхлипывания и проклятия жены и свояченицы, вдруг с облегчением почувствовал, как точно тяжелый камень отвалился от души, стало ясно, торжественно и весело.
Петр Васильевич – самый младший и единственный из трех делегатов, с недавнего времени член партии большевиков – взял на себя руководство делегацией. К своей задаче делегаты были уже подготовлены; главное сейчас: добраться до председателя Совета нефтепромышленников Гукасова или же до его первого помощника, управляющего делами Совета – Достокова. Петр Васильевич сообщил сотоварищам последнюю новость: здание Совета съездов находится с сегодняшнего утра под усиленной охраной.
– Какой-то провокатор уже донес о предстоящем нашем визите, – говорил шепотом Петр Васильевич. – Но кто именно пойдет делегатами, это ему не может быть известно, так как мы уже знали, что в нашу среду проникла охранка. Поэтому сразу втроем нам появляться перед зданием Совета съездов не следует, проберемся в здание поодиночке и встретимся перед самой дверью Гукасова.
– Ну, и как будет потом? – спросил Али-Акбер.
Петр Васильевич дробно и весело рассмеялся, сказав:
– Уж как-нибудь! – И, похлопав Али-Акбера по круглому плечу, наставительно добавил: – В драке все наперед не рассчитаешь, дорогой друг!
* * *
Как только дверь в кабинет стремительно открылась и управляющий делами Совета съездов Достоков увидел на пороге огромного, в белом официантском костюме, Акопа, а за ним круглого, по-городскому одетого, Али-Акбера, с радужным галстуком и густыми, по-детски приподнятыми бровями, и, наконец, деловитого, в синем пиджаке поверх оранжевой косоворотки, в зеркально начищенных сапогах, Хролова, – он сразу понял, кто такие эти отмеченные странной торжественностью посетители. С пренебрежительной насмешкой подумал Достоков о жандармском ротмистре Келлере, уверявшем, что «приняты все меры» и что никакой делегации рабочих не удастся проникнуть даже в здание Совета, а тем более в кабинет председателя Совета или управляющего делами Совета.
– В чем дело, господа? – громко спросил Достоков.
Кабинет был велик, пустынен, и глуховатый, с писком, голос Достокова не заполнил его, прозвучав как-то невнушительно.
– У нас серьезное дело, господин управляющий, и потому просим принять меры, чтобы, пока мы вам его изложим, нас не арестовали… – сказал Хролов. И, словно подтверждая его слова, дверь приоткрылась, и там мелькнули медные пуговицы, мундирное шитье.
Достоков позвонил и сказал, обращаясь к длинной и бледной, с круглыми от испуга ртом и глазами, секретарше, появившейся на пороге:
– Никого ко мне не пускать!
Дверь захлопнулась и внушительно щелкнула.
Делегаты переглянулись.
– Так будет надежней, – успокоительно сказал Достоков. – Теперь нас не потревожат.
Крахмальная манишка и черный пиджак – все выглядело на нем несуразно; он был горбатый, и это придавало всем движениям его характер неуклюжести. Схватившись за край своего огромного письменного стола, Достоков приподнялся и глядел на делегатов своими печально-томными, красивыми глазами, которые мгновенно заставляли забывать о его физическом уродстве.
– С кем имею честь?
Делегаты назвались своими собственными именами, как и предполагалось, – подобного рода важный документ, в котором излагалась жизненная программа бакинского пролетариата, нельзя было вручать анонимно… Впрочем, Достоков отнесся не очень внимательно к этому церемониалу, и только когда Акоп Вартаньян назвал себя, он поднял на него вопросительно-удивленный взгляд.
– Итак, предо мной представители трех бакинских великих наций, – сказал он. Насмешка слышна была в его голосе.
– Представители рабочих нефтяников города Баку, – внушительно прервал его Петр Васильевич. – Нам поручено, господин Достоков, вручить Совету съездов требования, обсужденные и выработанные на четырехстах собраниях рабочих промыслов и предприятий, в которых принимали участие сорок две тысячи человек…
И как только Петр Васильевич закончил, Али-Акбер – так это и было условлено – положил на стол большой конверт.
– Итак, господа, забастовка? – спросил Достоков, отодвинув конверт в сторону.
– Все будет по желанию наших господ, – по-армянски сказал Акоп. – Если вы наши справедливые требования примете, забастовки не будет.
– Ты бы вот лучше помолчал, если не можешь сказать своего слова, а тянешь с чужого голоса, – ответил ему по-армянски Достоков, и откровенная злость слышна была в этих словах.
– Это для вас, для дашнаков, на золотом бубне играют Гукасовы, Манташевы, Лианозовы, и вы под эту музыку пляшете, – сказал Акоп, и голос его загудел, как орган, заполнив весь огромный кабинет.
Хролов напряженно прислушивался к этой перебранке. Он понимал лишь отдельные слова и смутно улавливал общий смысл разговора. Но Али-Акбер, который хорошо понимал по-армянски, с восхищением и нежностью глядел на своего товарища, до этого молчаливого. Достоков круто отвернулся от своего соотечественника и сказал, обращаясь к Хролову:
– Ответ через неделю!
– У нас здесь сроки указаны: три денечка, – мягко произнес Хролов.
Достоков пожал угловатыми плечами и промолчал. Глаза у него стали неприязненны и тусклы, резко выступили черты жестокости на его болезненно-костлявом лице.
– Во всяком случае, переговоры считаю законченными.
– У нас нет полномочий вести с вами переговоры, наше дело только передать этот пакет, – быстро сказал Хролов. – Но беда вот в чем: ведь едва мы выйдем отсюда, ваши цибики на нас накинутся.
Достоков быстро оглядел трех рабочих, стоявших перед ним, и вдруг усмехнулся, но недобрая это была усмешка. Он резко позвонил.
– Передайте господину Кудашеву, пусть он проводит этих господ и от моего имени скажет охране, чтобы их не трогали.
– Нет, уж лучше мы сами как-нибудь, – угрюмо сказал Хролов.
– Почему? – изумился Достоков. – Кудашев – наш служащий. Или он имеет какое-нибудь отношение к вам?
– Пошли, товарищи, – сказал Хролов, не обернувшись в сторону Достокова.
Когда дверь за делегатами захлопнулась, Достоков резко захохотал. Потом вскрыл конверт и, не читая, пробежал взглядом всю бумагу… «Так и есть, это шрифт машинки системы «Ундервуд», той самой последней марки, которая имеется только в канцелярии Совета съездов. Николай Иванович Кудашев даже не считает нужным особенно скрывать свое участие в подготовке к забастовке – ну и пусть получит свое».
Охранное отделение давно уже осведомило господина управляющего делами Совета съездов о том, что среди служащих Совета есть несколько большевиков, в частности и Николай Иванович Кудашев. От Достокова зависело – оставить этих людей на службе или изгнать. Он примерно догадывался о том, какую пользу эти большевики приносили своей находившейся в подполье партийной организации. Так, например, он подозревал, что, подготовляя забастовку, большевики пользуются точными сведениями о состоянии экономических и финансовых дел Совета нефтепромышленников, сведениями этими располагали большевики Стефани и Кудашев, служащие статистического отдела Совета.
Но Достоков свои наблюдения и догадки хранил про себя, предчувствуя, что придет момент – и этим можно будет воспользоваться. Как воспользоваться – сообщить ли о деятельности большевиков в охранку, или, наоборот, дать понять революционерам, что он всегда, сочувствуя революции, покрывал их, – Достоков еще не знал. Но он понимал, что держит крепкую карту в азартной жизненной игре, которую только сам за себя ведет. Однако сейчас Достоков, взбешенный дерзостью единоплеменника армянина, вдруг позволил себе эту злую шутку с делегатами и с Кудашевым.
Достоков неуклюже вылез из-за стола и подошел к окну…
Так и есть, внизу, на ослепительном солнцепеке, отбрасывая короткие тени, стояла та самая тройка, которая только что побывала здесь, у него в кабинете. С ними находился и Кудашев, в летнем чесучовом костюме, как всегда аккуратный, моложавый, но уже лысеющий, что особенно заметно было сверху. Кудашев объяснял что-то подошедшему жандармскому офицеру. Поодаль в своих синих черкесках виднелись верховые казаки. Лошади мотали головами и переступали с ноги на ногу.
Кудашев указал подошедшему жандармскому офицеру на окна кабинета Достокова. Это был все тот же хорошо знакомый Достокову по картежной игре в клубе жандармский ротмистр Келлер. Сделав Достокову снизу приветственный жест рукой, он выразительно показал на трех делегатов, смирно стоявших под солнцем.
Достоков утвердительно кивнул головой и сделал рукой тот жест в воздухе, который мог обозначать только одно: отпустите их!
Правильно поняв жест своего клубного партнера, Келлер, предварительно записав имена и фамилии (на этот раз делегаты сообщили вымышленные имена и фамилии, а Хролов показал даже фальшивый паспорт на имя некоего Воскобойникова), отпустил делегатов.
Кудашев во время всей этой процедуры не уходил от своих попавших в беду товарищей, которых он видел первый раз, но которым глубоко сочувствовал. Несколько раз он взглядывал наверх, на второй этаж, и видел там неясный облик Достокова. Кудашев всегда опасался этого человека, каждый раз в разговоре подчеркивавшего, что он чуть ли не сам социалист, а после этого странного, с оттенком издевательства, случая стал опасаться еще более.
3
За то долгое время, пока Науруз и Александр волокли от Черного моря к Каспийскому тяжелые и неудобные тюки, Науруз так привык заботиться об их сохранности, что, просыпаясь иногда ночью, с ужасом ощупывал все кругом: пусто – ни мешков, ни Александра.
Уходя на работу, Алым каждый раз советовал Наурузу не очень часто выходить из подвала: его крупная фигура сразу бросалась в глаза. И хотя он носил обыкновенную русскую косоворотку, синюю в горошек, было во всей его повадке нечто обращавшее на себя внимание.
Гоярчин показала ему кочи, тех людей, которых особенно надо опасаться. Молодые кочи по большей части щеголяли в ярких черкесках, старики же донашивали когда-то пестрые, а теперь поблекшие архалуки. Но у всех у них было оружие, которое они носили открыто: браунинги в расшитых бисером чехольчиках, маузеры в деревянных футлярах, кинжалы в изукрашенных ножнах. Старшин над ними был Даниялбек, сукой, верткий старик с пышными усами и бритым, выдающимся вперед подбородком. У него на поясе висела кривая сабля с золотой насечкой на рукояти.
– Кочи, – со страхом и ненавистью произносила Гоярчин. – Кочи – хозяйские псы, на кого им укажут, того изувечат! Твое счастье, что старший хозяин уехал на эйлаги, иначе ты к нам даже в ворота не вошел бы.
Науруз понимал, что женщина права, и старался не показываться из Алымова жилища.
Сидя на нарах, поближе к свету, падавшему из двери, плел он корзиночки из жесткой травы, которую приносила шестилетняя дочь Алыма, Айсе; за этой травой, душистой и жесткой, ходила она куда-то далеко за Сураханы. Плести из травы было нелегко: она ломалась в руках и не походила на гибкие и мягкие горные травы. Но очень уж хотелось порадовать эту маленькую и бледную девочку – она часами могла сидеть возле Науруза и молча глядеть, как быстро работают его пальцы.








