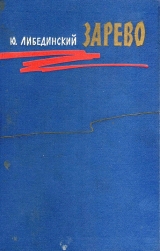
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 35 (всего у книги 57 страниц)
Книга вторая
Часть первая
Глава первая1
Темиркан не следил за газетами и потому для него война пришла неожиданно. Эта война – источник несчастий, горя и ужаса для громадного большинства людей – для Темиркана стала началом быстрого исцеления и возвращения его к жизни.
Весь последний год он чувствовал себя несчастливым, и это чувство было особенно сильно потому, что о нем никому нельзя сказать. Близкие хотя и беспокоились о его здоровье, но были довольны тем, что он с ними, особенно Дуниат, ждавшая теперь четвертого ребенка. Еще в июле стало видно, что урожай хорош, и старуха Лейля сообщила Темиркану, что осенние платежи по заложенным землям будут в срок внесены и что жить можно будет с достатком и достойно. Что ж, нужно и этим быть довольным, они, Батыжевы, отнюдь не беднее прочих господ в здешних местах, а, пожалуй, даже и богаче. Только жить надо тихо-тихо… Но неужели навсегда обречен он на эту тихую жизнь?
И вдруг – война! Или он не сын и не внук отца своего и деда, облагодетельствованных русскими царями?
За неделю до начала войны он при попытке сесть верхом почувствовал головокружение и слез с коня, не надеясь с ним справиться. Но на другой же день войны Темиркан, еще исхудавший, с желтоватым румянцем на щеках, однако чисто выбритый и сразу помолодевший, надел после нескольких лет перерыва военную форму и легко вскочил на коня, чтобы в сопровождении дяди Дудова и близнецов-племянников отправиться в Краснорецк.
Наказной атаман, еще молодой сравнительно генерал, сухощавый, молодцеватый, с легкой проседью в рыжих подстриженных бакенбардах и прищуренными, острыми глазами охотника, принял Темиркана в своем просторном и прохладном, с небольшими окнами, кабинете. Оказывается, он только хотел посылать к Темиркану, «а ваше сиятельство уже и сами здесь. Вот она, испытанная батыжевская верность престолу российскому!»
В кабинет вошел войсковой старшина Михаил Михайлович Сорочинский, под командованием которого Темиркан служил еще в младших офицерских чинах. Михаил Михайлович хотя и кичился своим происхождением от запорожских атаманов, но точно было известно, что дед его служил на Кавказе офицером в казачьих войсках, приписался в казаки, получил громадный надел земли и оборотисто и ловко вел большое помещичье хозяйство. Сын и внук продолжали семейную традицию. Михаил Михайлович говорил казакам: «Мы гребенские…» – а владения свои все округлял: кроме коннозаводства, воздвиг уже и винокуренный завод. Несколько иногородних сел построились на его землях и платили аренду, превышавшую все прочие его доходы. Казаки от своих стариков, конечно, знали, что Сорочинские к терским и гребенским первопоселенцам на Кавказе никакого отношения не имеют, но не возражали против того, чтобы Сорочинские представительствовали их интересы при царском дворе. Однако, когда шли выборы в четвертую Государственную думу, казаки, помалкивая, выслушали монархические разглагольствования Михаила Михайловича Сорочинского, а депутатом в думу избрали Афанасия Мокроусова, владельца крупорушки, человека с хорошим достатком, но по происхождению исконного казака, ревнителя школ и насадителя кооперации. Афанасий проходил как беспартийный, ему при последнем голосовании отдали голоса даже мусульманские выборщики от Арабынского округа, веселореченские купцы и муллы, а в думе он занял место среди трудовиков, хотя насчет республики всегда изъяснялся неохотно и туманно. В результате переплетения всех этих политических обстоятельств Михаилу Михайловичу Сорочинскому карьера российского парламентария пока явно не удавалась. На казаков Сорочинский обиделся, и когда сын окончил казачье кавалерийское училище в Новочеркасске, Михаил Михайлович определил его не в казачьи войска, как это предполагалось раньше, а в штаб Кавказского округа.
Однако сам Сорочинский остался в штабе наказного атамана, но, не желая иметь больше дела с лукавыми станичниками, взял на себя все те вопросы, которые касались отношений с горцами. В частности, он вмешался в одно из самых запутанных дел: в вопрос о присвоении звания русского дворянства веселореченским узденям, или воркам, как они себя называли.
Царское правительство, присоединяя Веселоречье, присвоило звание благородного русского дворянства только некоторым местным княжеским фамилиям и тем из веселореченцев, которые, будучи в офицерских чинах, служили в русской армии. В присвоении же дворянства представителям всей сложно разветвленной иерархической лестницы веселореченского военно-служилого сословия и государственный совет и сенат упорно отказывали, что вызывало недовольство всего этого сословия, в большинстве своем преданного русской монархии.
Сорочинский выдвинул проект перечисления всего этого сословия в казаки. Это отрывало веселореченских узденей от всей массы народа, который в тринадцатом году при восстании на пастбищах показал себя беспокойным, а также давало возможность привлекать на военную службу в казачьи войска отличных кавалеристов. При этом Сорочинский ссылался на блестяще оправдавший себя опыт с казаками осетинами.
Во всяком случае, к проекту в высших сферах отнеслись со вниманием, и хотя до войны четырнадцатого года вопрос о «приписании к казачеству лиц благородного сословия веселореченских черкесов» так и не был решен, но ловкого подполковника наверху заметили.
Михаил Михайлович, большой и рослый, туго затянутый в серую черкеску тонкого сукна, наклонил к Темиркану свое смуглое лицо и облобызался с ним, оставляя на его щеках неприятно влажный след своих красных, всегда мокрых губ. Тут же начался оживленный разговор. Оказывается, у Сорочинского был уже новый проект: он предлагал «кликнуть клич» к веселореченцам благородного происхождения, призвать их к добровольному вступлению в казачьи войска, где они, получая все права и привилегии казачества, сформируются как особый полк.
– Хватит ли на полк, Темиркан Александрович, как считаете? – обратив свои острые глаза на Темиркана, спросил атаман.
– Убежден, что хватит! Ведь для каждого веселореченского узденя это будет исполнение заветных желаний: он и его потомство будут приданы к казачеству, а в случае службы в офицерских чинах получат потомственное дворянство, – сказал Михаил Михайлович, обнаружив в этом рассуждении прямую связь своего нового проекта с предыдущим.
Казачий атаман на это горячее замечание своего помощника и советчика ничего не ответил, ожидая, что скажет Темиркан. А тот осторожно медлил. Многие веселореченские князья и сейчас служили в русской армии и особенно в казачьих частях. Несомненно, найдутся и такие люди, как Кемал, которые сами по себе или за господами пойдут добровольно на военную службу. Но составится ли из них полк? А ведь заманчиво было бы такой полк составить.
«Когда Суворов впервые пришел на Кавказ, сумели же мы в помощь русским собрать кавалерийский дворянский полк для борьбы против Орды!» – думал Темиркан.
Но пока он решил промолчать. Поблагодарив за честь, он попросил времени, чтобы обдумать это дело, а сейчас вручил наказному атаману рапорт с просьбой о зачислении его лично на военную службу – этот рапорт он написал еще в Арабыни…
Последние минуты все трое собеседников, продолжая разговор, прислушивались к мерному, но быстро нараставшему и приближавшемуся гулу…
– Казаки, – сказал атаман и вышел на балкон.
Мимо как раз проходила на отменных конях голова колонны.
– Здорово, молодцы! – звонко крикнул атаман, и воздух гулко вздрогнул от приветствия, прокатившегося над городом.
Трубы пропели сигнал команды.
«Рысью размашистой, но не распущенной…» – про себя проговорил Темиркан слова давно не слышанной команды, подсказанной бодро-воинственным голосом труб. Всему потоку карих, темно-рыжих, гнедых и каурых коней со всадниками в синих черкесках и белых откинутых назад башлыках сообщился единый плавный и быстрый ход. И если кто-либо из всадников сбивался с аллюра, что случалось редко, сверху, с балкона, это сразу отчетливо было видно…
Едва труба оборвала сигнал на высокой и пронзительной ноте, как, перегоняя топот коней, в лад ему зазвучала запевка. Ее пели высоко, в один голос с трубами, но с оттенком той жизненной силы, которая может быть в пении присуща только человеческому голосу:
Поехал казак на чужбину далеко,
На гордом коне на своем молодом…
И вдруг вся колонна с поражающей стройностью и силой подхватила:
Свою он краину навеки покинул…
Строй песни был печальный, почти как отпевание:
Ему не вернуться в родительский дом…
Но уже при последних, еще полных печали словах зазвенели разбитные, весело-бойкие до озорства звуки литавров, бубен, колокольчиков и бубенцов.
Напрасно хозяйка, жена молодая,
И утро и вечер на север глядит…
Слова были невеселые, но нежные, а музыка всего этого знать не хотела, и бунчук, взметая над колонной рыжий конский хвост, сотрясал навешанные на нем колокольцы и бубенцы, звеневшие и взблескивавшие на солнце.
Все ждет, поджидает, с далекого края…
выводили голоса.
Когда-то любезный казак прилетит…
звучало уже призывающим, подмывающе-лихим посвистом.
– Запасники, – сказал генерал.
– Хороши! – похвалил Темиркан. – Хоть сейчас в бой.
– На стрельбищах себя неважно показали вчера, – ответил генерал.
Они, сами того не замечая, говорили невольно в лад быстрой песне, а песня выговаривала мужественными голосами слова суровой правды о том, что
Зимою трескучи морозы…
и о том, что
Казачьи кости под снегом лежат…
И снова сквозь похоронную грусть прорывался забубенный литавровый звон и тысячи смелых молодых голосов пели о том, что непобедима жизнь…
Пущай на кургане родная калина
Красуется в ярких лазорных цветах…
Темиркан, провожая взглядом, считал сотни… Насчитал уже полк.
– Сколько их здесь, ваше превосходительство? – спросил Темиркан.
– Бригада, вторая бригада… Как раз все земляки ваши, арабынский отдел: сторожевские, доблестновские…
И Темиркан подумал: «Вот столько бы воинов собрать с Веселоречья и повести против Германии – тогда мне и подобало бы их под свое начало взять».
Простившись с наказным атаманом, Темиркан вышел во двор, где у коновязи была привязана его лошадь. Он, против обыкновения, был один, без спутников: дядя и племянники, конечно, с охотой увязались бы с ним, но они ему надоели за время дороги. Кемал, молчаливое присутствие которого Темиркан воспринимал так, как если бы он оставался наедине с собой, с утра увел своего коня в кузницу для перековки.
Едва Темиркан вышел из прохладного дома на широкий двор, как томительный полуденный зной мягко и жарко навалился на него… Темиркану был непривычен такой зной – в Арабыни летние жары всегда умеряются полуденными ветерками с гор и прохладой ледяных потоков. Да и нездоровье давало себя знать – Темиркан как-никак только что встал с постели. Ставя ногу в стремя и с усилием поднимая тело, он невольно вспомнил о Кемале, который подсадил бы его. Но тут же, упрекнув себя за проявление слабости, опустился в седло, и сразу ему стало лучше.
«Верхом поскакать надо, за город выехать, там прохладней», – подумал он и, дав поводья коню, крупной рысью пронесся по улице. От движения воздуха ему и впрямь стало свежее. Чувствуя, что с тротуаров женщины восторженно взглядывают на него, он миновал один квартал, другой, третий, направляя коня туда, где впереди синел лес. Но он не знал местности вокруг Краснорецка, не знал, что город отделен от этого леса глубоким провалом, удлиняющим путь на добрый десяток километров. Улица поворачивала вдоль провала, и домишки, чем ниже, тем делались все меньше и непригляднее. Оттого, что в воздухе ощущалась примесь какой-то вони, жара казалась еще непереносимее. Возбуждение, вызванное быстрой ездой, падало, Темиркан уже еле шевелил поводьями, а вонь становилась все сильнее, даже конь недовольно фыркал. Какие-то дети выбегали со дворов и что-то кричали, показывая на Темиркана. В глазах его потемнело. Обливаясь потом, он навалился на гриву коня. Конь вдруг дернул, Темиркан хотел схватиться рукой за гриву, но даже на это у него не хватило сил, и он, не выпуская поводьев, стал валиться с лошади.
Тут кто-то обхватил его поперек поясницы, поддержал и помог ему слезть с коня. Что-то кричали мальчишки, они прыгали в глазах его, как бесы. Но один из мальчишек, с лицом взрослого мужчины, синим от бритья, тот самый, что пришел на помощь, назвал Темиркана братом и, ласково успокаивая, заговорил по-веселореченски.
«Маленький бритый заячий наездник…» – возникло в затуманенной голове Темиркана что-то из детских сказок о маленьких людях, рудознатцах и охотниках, населяющих недра гор и разъезжающих по ночам на зайцах. Чувствуя, что маленький бритый человек легко, как ребенка, взял его на руки, Темиркан, как в детстве учил дядька Джура, укладывая спать, «отпустил душу» и погрузился в черный сон.
Он очнулся оттого, что его голову подняли и тихонько уговаривали еще приподняться, и только он приподнял голову, как губы его ощутили край стакана и рот его заполнила густая, вязкая, почти горячая жидкость. «Кровь», – подумал он, через силу глотая, и при этой мысли, оттолкнув от себя стакан, открыл глаза.
Он увидел все того же маленького богатыря. Вокруг была опрятная, по-русски прибранная комната, самовар стоял на столе; блестя костяшками, подобно гуслям, висели на стене счеты.
– Пей, братец Темиркан, пей, сразу будешь здоров, пей! – И снова в горло Темиркана полилась густая, вязкая жидкость.
Чувствуя, как с каждым глотком силы возвращаются к нему, он уже пил, не отводя губ. Точно горячее пламя прокатилось по всем его жилам, он сразу почувствовал себя здоровым и хотел встать.
– Нет, лежи, братец, лежи, – ласково уговаривал его тот же голос. – Запей теперь чаем, и будет все ладно.
– Это кровь была, то, что я пил? – спросил Темиркан.
– Кровь. Как я притащил тебя, сразу велел ягненка зарезать. А то, не дай бог, скажут люди, что в доме Харуна Байрамукова умер без помощи высокопочтенный князь Темиркан.
– Харун… Ты Аубекира родич?
Рассказывал тебе Аубекир обо мне? Смеялся, верно? Что бог меня и ростом и богатством обидел? Тоже князь, мол, – подряд взял бревна возить на железную дорогу, гурты гоняет, а? Ну что же, он надо мной смеется, а я над ним… Может, и ты надо мной посмеешься, а?
– Теперь для меня ты все равно что брат родной, – ответил Темиркан. – Но я и раньше над тобой никогда не смеялся, а все спрашивал о тебе Аубекира и понял, что ты умный человек. Но откуда ты сейчас взялся и где я нахожусь?
– Удивления достойно совсем не то, что я здесь живу, а то, что ты сюда попал. Но я чту наш старый адат и, конечно, тебя ни о чем не спрошу, хотя так и не могу понять, что тебе делать здесь, на окраине города, куда хорошие господа не заезжают. Я, недостойный, живу здесь, и даже место это на городском плане обозначено: Байрамуковская заимка, – не без самодовольства сказал он. – Здесь мое заведение: сало топлю, мыло варю, шкуру дублю. Надо ведь бедному человеку чем-то жить? Никто как бог выслал меня из дому в то мгновение, когда ты стал спускаться сюда к нам вниз. Сегодня утром был я в канцелярии наказного атамана, и мне сказали, что ты у его превосходительства, – и вдруг ты тут…
Темиркан рассказал маленькому Байрамукову, как он заблудился. И поскольку обстановка располагала к откровенности, а маленький Байрамуков нравился ему, он посвятил его также и в разговор, происшедший в кабинете наказного атамана.
Поглаживая и пощипывая свой гладко выбритый подбородок, выслушал Харун Темиркана, но когда Темиркан выразил сомнение, можно ли набрать полк из среды веселореченцев, маленький собеседник его в раздумье покачал головой:
– Как набрать! – сказал он. – Клич кликнуть – так много не наберешь. Дудовы, они в горную милицию пойдут конечно, абреков ловить по горам. Ну, а на настоящую войну, где пушки стреляют, не пойдут, нет, нет. По благородству, братец Темиркан, мало кто пойдет, а из нужды – многие. Возьмем любого из наших людей, особенно помоложе. Черкеска у него еще от деда или старшего дяди, вся латаная-перелатанная, сапоги, как ни починяй, ни смазывай, все равно пожухли, потрескались. На своем коне он только в сновидениях ездит. А девушки по-прежнему поют песни о молодцах, скачущих на борзых конях. Да ты пообещай каждому, кто на войну пойдет, коня, черкеску, шапку, сапоги, да чтоб муфтий Касиев муллам приказал прокричать в мечетях, что война эта – священная война, – отбою не будет от добровольцев. И насчет звания войсковой старшина Сорочинский неплохо сообразил: земли у нас в ущельях небогато, а казаку дается хороший надел из войсковых земель. И еще я скажу тебе: хорошее ты дело задумал, потому что уведешь из Веселоречья лишний, беспокойный народ. Кому суждено, пусть за благое дело голову положит, а кому суждено в живых остаться, те прыть свою на полях сражений оставят и вернутся остепенившимися. А то вот я, продли аллах твои дни, по новому распорядку, который ты выхлопотал, взял на торгах ярлыки на четыре пастбищных участка, а пасем с опаской, уже трех баранов абреки зарезали… Ты вот к этим абрекам клич кликни, да еще к тем, что с восстания по тюрьмам сидят, выхлопочи всем амнистию, да еще у кого недоимки по податям да судебные пени по порубкам леса и по потравам пастбищ. Такое войско можно, братец, собрать, хоть Стамбул воевать иди.
– Умные твои речи, – сказал Темиркан. – Вижу я, что сам аллах направил моего коня к тебе.
– Ты прости меня, давно с благородным человеком не говорил, проявил излишнее многословие. Отдыхай, я пошлю на постоялый двор известить благородного дядю твоего и твоих младших, чтоб не беспокоились.
Темиркан заснул и спал, видимо, долго и крепко. Потом, точно вдруг кто-то толкнул его, он открыл глаза от сознания опасности. При тускловатом свете керосиновой лампы с убавленным огнем, поставленной на столе во время его сна, Темиркан увидел напротив себя сидящего Науруза. Рука Темиркана потянулась к поясу, и тут он увидел свою кожаную кобуру с маленьким браунингом в руках своего врага. Науруз, конечно, взял револьвер со стола.
– Ну вот, – тихо говорил Науруз, – ты, я вижу, щедр ко мне по-прежнему, рублем серебряным одарил, коня пожаловал, сейчас я оружие от тебя получаю.
– Эй! – крикнул Темиркан. – На помощь! – и дернулся, чтобы встать, но железная рука Науруза легко бросила его обратно в кровать.
– Двери у Харуна Байрамукова дубовые, окна прикрыты ставнями. Кричи не кричи, никто не услышит. И зачем кричать? Если б я убить тебя хотел, так ты сонный был в моей власти. И надо бы, может, придушить тебя за все твои злодейства, настоящие и будущие, а вот не могу. Уж очень ты больной да хилый, не на здоровье, видно, пошла тебе наша кровь.
При слове «кровь» Темиркан вспомнил стакан с кровью, выпитой им сегодня, и, быть может поэтому, ощутил страшную, непреодолимую правду того, о чем говорил ему Науруз.
– Хищный ты, а слабый. Головы поднять с подушки не можешь, а скалишься. Служил я Байрамукову честно, а ты, конечно, скажешь, кто я есть, и надо будет мне опять скрываться. Если придушить тебя подушкой, никто ничего обо мне не узнает. Но нет, не могу я нарушить старый адат, не могу убивать безоружного. Да и по новым адатам так поступать не годится, – все равно скоро придет не тебе одному, а всему злодейскому сословию вашему великий суд народа, и тогда мы вас всех разом раздавим. А пока – живи. И пусть тебя грызет то, что живешь ты по милости моей.
Науруз уже повернулся к двери, как услышал хриплый голос Темиркана:
– Погоди!.. Если аллах свел нас еще раз на узкой тропе и ты поступил со мной благородно, будь благороден отныне, и пусть мое оружие пойдет в защиту твоей чести.
– Заодно и коня подари, которого я у тебя увел.
– Что ж, и конь пусть будет твой, – не обращая внимания на насмешливый оттенок в речи Науруза, продолжал Темиркан. – Будем говорить, как подобает воину с воином.
– А… ну, говори, говори, я послушаю, – сказал Науруз.
– Да, как воин с воином. Потому что я знаю твою доблесть, а моя от дедов идет! И когда сейчас такая война поднялась, неужели душа воина не содрогнулась в мощной груди твоей? Отвечай.
– Не я первый разговор этот завел, и когда захочу, тогда отвечу.
– Храбрец, который добровольно на эту войну пойдет, весь осыпанный знаками доблести вернется. И я зову тебя, Науруз, идем со мной! Я кликну клич среди веселореченцев, чтобы шли в армию, присоедини к моему свой громкий голос, пусть он раздастся по всем долинам Веселоречья. Я – впереди отряда, ты – при знамени его, поведем на защиту матери нашей России веселореченские сотни.
– Не марай своими в крови измаранными губами имя матери, – прервал его Науруз. – Приглашение твое опоздало, я давно уже встал под знамя верных сынов родины – под красное знамя, и есть уже у меня старшие, только от них я жду себе слова! А тебе я ни в одном слове не верю. Там, где ты, – там ложь.
Он повернулся и вышел, плотно прикрыв дверь.
Темиркан медленно поднялся с постели. Голова кружилась, но он, стараясь преодолеть слабость, шепча старинные языческие и мусульманские проклятия и всяческие богохульства на русском языке, пошатываясь, добрался до двери и толкнул ее.
На дворе было по-ночному темно и свежо, под ветром шумели деревья. Дом от сада отделяла крытая галерейка, в саду горел огонь, оттуда приносило запах жареного мяса. Темиркан признал голос дяди. На окрик Темиркана подбежали племянники, а потом подошел и дядя.
– А где Харун? – не отвечая на их радостные восклицания, сказал Темиркан и опустился на ступеньки крыльца.
Когда Харун, с лицом раскрасневшимся от пламени, подошел и поднес ему шампур с шашлыком, Темиркан отстранил его руку и сурово спросил:
– У тебя в работниках служит враг мой, Науруз?
– Валаги! [7]7
Валаги – восклицание изумления.
[Закрыть] – воскликнул Харун. – Какой Науруз? Керимов Науруз – бунтовщик? Пусть шайтан берет его себе в слуги.
– Науруз мне сам сказал об этом.
Все переглянулись.
– Бредит, – грустно покачивая головой, сказал дядя. – Опять, видно, горячка к тебе вернулась, Темиркан.
– Пойдем, гость дорогой, в комнату, приляг. – И Харун уже обхватил Темиркана, чтобы поднять его на руки, но Темиркан не дался.
– Не считайте меня за сумасшедшего и… – он чуть не сказал, что оружие у него похищено, но стыд и ярость перехватили ему горло. – Я видел его перед собой, как сейчас вижу вас. И говорил с ним! – крикнул он.
Харун вдруг беспокойно огляделся.
– Афаун! – крикнул он. – Афаун, где ты? Это работник мой, самый лучший, надежный… Я доверяю ему гурты, деньги – никогда он меня не обманывал… Я его у двери сторожить сон гостя поставил. Афаун, где ты?
Он кинулся в глубь сада, в темноту, призывая: «Афаун, Афаун!» – но только деревья шумели и где-то лаяли собаки.
Темиркан вдруг слабо засмеялся и сказал своим родичам:
– Надежного сторожа подыскал мне Харун.
2
Начало войны четырнадцатого года запомнилось Асаду как многоголосый стон и топот, возникший за окном. Асад машинально подошел к светлеющему среди темноты окну. Конечно, кроме расплывчатого золотисто-зеленого тумана, он ничего не увидел. В этом тумане двигалось, шевелилось что-то темное, желающее оформиться, и, не будучи в силах оформиться и возникнуть, плакало и стонало.
– Жить без тебя не буду! – вдруг отчетливо выкрикнул женский голос, и столько в нем было горя, ярости и правды, что Асаду на секунду показалось, будто бы за окном мелькнул красный платок.
Гриша подошел к окну и рассказал Асаду, что это из слободы идут мимо гедеминовского дома новобранцы, а их провожают матери и жены.
За обедом доктор сообщал городские новости: спешно создаются лазареты, состоялась патриотическая демонстрация и редактор газеты «Кавказское эхо», эсер Альбов, кликушествовал на митинге о кайзере Вильгельме и немецких вандалах, целовался с городским головой Астемировым и членом городской управы купцом Пантелеевым. Меньшевик Бесперцев тоже возглашал что-то и целовался, кажется, с протоиереем Колмогоровым.
За обедом Ольга Владимировна Гедеминова, отдавая должное «рыцарям правды», как называла она социалистов, оставшимся верными идее Интернационала, тут же высокопарно декламировала о презренных тевтонах, цитировала славянофильские пророчества Тютчева, Владимира Соловьева. Евгений Львович слушал, морщась и кряхтя, а потом не выдерживал и вступал в яростный, но, как всегда, совершенно бесплодный спор с женой.
Спустя несколько дней Гедеминов вышел к обеду тихий и ласковый, за обедом был рассеян, а потом, наклонившись к уху жены, громко сказал:
– Сегодня слышал я, Олюшка, солдаты пели: «Бросай свое дело, в поход собирайся…» И что поделаешь, ведь, пожалуй, я хоть и клистирная трубка, а все же военный. Меня призывают.
Ольга Владимировна заплакала и обняла мужа.
Вскоре пришло письмо от Кокоши. Студентов третьего курса пока не брали в армию, но Кокоша «на всякий случай» устроился на службу в только что учрежденный с целью обслуживания фронта Союз городов и таким образом избавился от военной службы, чем отец и мать были явно довольны.
Все эти новости, городские и семейные, каждый день обсуждались за обеденным столом у Гедеминовых.
Но сквозь трескучее однообразие этих разговоров Асаду слышалось другое. Неподалеку от дома Гедеминовых устроен был большой плац, где обучали новобранцев. И эти дни проходили как бы сопровождаемые треском барабана. «Тра-та-та, тра-та-та…», окрики фельдфебелей, хриплое «ура», протяжные команды: «Коли назад!», «Вперед прикладом бей!», «От кавалерии закройся!».
В упрямом и безжалостном подавлении в солдате всего человеческого проходили дни. И только во время вечерней прогулки, когда роты с пением маршировали по городу, человеческое вдруг прорывалось – то в протяжно-долгих, то в отчаянно-лихих, с присвистом и ерническими вольностями, песнях, бросающих вызов богатым хозяевам города. А каждое утро мир и спокойствие окраины, где стоял дом Гедеминовых, нарушались пронзительным криком газетчика:
– Вот последние телеграммы! Сражение на Стоходе! Сражение на Збруче! Осада Перемышля! Десять тысяч убитых, пятнадцать тысяч раненых!
Гриша, читая Асаду вслух телеграммы, вдруг замолкал и с тоской говорил:
– Скоро и я там буду.
Грише шел восемнадцатый год, и если даже экзамен за четыре класса будет сдан, от призыва он все равно не освободится. Что мог ответить Асад? Конечно, он с охотой поменялся бы с Гришей, с радостью пошел хотя бы в ад войны, если бы это избавило его от слепоты. Сейчас, если бы не слепота, он пошел бы и сам разыскал Васю Загоскина, а то он с начала войны точно сквозь землю провалился.
Однажды, в воскресенье, после утреннего чая, когда в саду уже стало душисто и жарко, Асад, опираясь на палочку, гулял по аллеям. Вдруг его тихо окликнули:
– Асад, не пугайтесь, меня прислал Василий.
Услышав имя Васи, Асад шагнул в ту сторону, откуда его окликнул этот женский, с певучими интонациями голос.
– От Васи? От Загоскина? Да? Где он? Что с ним? – И тут же почувствовал, как чья-то рука мягко, но крепко взяла его за локоть.
– Вы упадете, осторожно.
– Нет… Я здесь все знаю наизусть.
– Но вы на самом краю, здесь обрыв.
– Неужели? Значит, опять потерял ориентацию, – говорил он, сердито тыча палочкой вокруг себя. – Где обрыв?
– Ничего, мы будем здесь гулять… парочкой, – усмехнулась она. – Вот так. Вам Василий рассказывал что-нибудь обо мне? – смущенно усмехаясь, спросила она.
– Вы Броня?
– Да. Значит, говорил. Это ничего, – ведь вы друг его, правда? – Она вздохнула. – Как хорошо здесь! А в городе жарко, особенно на плацу. Васю из тюрьмы перевели в казарму. И Гришу Айрапетяна тоже.
– Вася был арестован?
– В первый же день войны и его, и Максима, и Гришу Айрапетяна – всех забрали. Ну, а прокламации все-таки удалось распространить. Прокламация против войны, – как Вася жалел, что не мог ее вам показать! Ну, а вчера всех из тюрьмы перевели в казармы, значит – на фронт… Это все-таки лучше, – сказала она, непонятно кого утешая, себя или Асада, – так и должно быть. Весь народ пойдет на войну, значит наши товарищи будут с народом. И если Базельский и Штутгартский конгрессы сказали: «Война войне», – это значит, что народ, которому дадут винтовки для войны за интересы капиталистов, повернет их против капиталистов и против правительств.
– Ну конечно, – сказал Асад.
– Верно, ведь так будет? – спросила она.
Вася не раз говорил, что среди мастериц в «ателье мадемуазель Софи» на Ермоловском проспекте есть одна очень сознательная девушка, Броня зовут ее. О своих отношениях с Броней он ничего не говорил, но по выражению голоса Василия, серьезному и нежному, при упоминании этого имени Асад угадывал: это, верно, подруга? Или невеста? (Асад неясно представлял смысл этих слов и разницу между ними.) Но для Асада эти непонятные отношения Васи с какой-то девушкой были неоспоримым признаком взрослости Василия, так же как и самостоятельный заработок его и участие в партийной работе. И Броню он представлял до крайности серьезной, с густым голосом, и думалось, что Васю она непременно называет – Василий… Но за пятнадцать минут разговора с Броней он почувствовал себя так, точно знаком был с ней много лет. Они уговорились, что она будет время от времени заходить и рассказывать о Васе.
А вечером, после занятий с Гришей, Асад попросил, чтобы тот сыграл арию Клерхен из оперы «Эгмонт». А когда Гриша выполнил его желание, Асад даже подпевал своим резким голосом. Зато вряд ли какая-либо певица могла с большим воодушевлением пропеть: «Гремят барабаны, и флейты звучат, мой милый ведет за отрядом отряд…»
3
Когда летом прошлого года Джафар Касиев, сын арабынского муфтия, молодой человек, считавший себя последователем Маркса, совершенно неожиданно был арестован в родной Арабыни, он, конечно, догадывался, что арестовали его в связи с начавшимися беспорядками на веселореченских пастбищах. Если бы тогда, сразу же после ареста, Джафар попал к следователю, то возможно, что от растерянности он стал бы оправдываться, всячески доказывать, что не имеет никакого отношения к восстанию веселореченских пастухов и даже осуждает его как бессмысленное, идущее против капиталистического прогресса. Всего за несколько минут до своего ареста он об этом именно и говорил, будучи в гостях у старого Хусейна Дудова. Но до первого допроса у Джафара было в тюрьме достаточно времени, чтобы успокоиться. Обращались с ним к тому же уважительно и даже разрешили свидание с отцом, который приехал для этого в Краснорецк. Правда, беседовать им пришлось через решетку, старый мулла от волнения лепетал что-то бессвязное, и Джафар ничего не мог разобрать, кроме арабских обращений к аллаху и веселореченских проклятий на голову врагов, но тем не менее он понял все же, что отец хлопочет за него. Джафар решил держаться на допросе непроницаемо и с достоинством. Он как-никак первый марксист в Веселоречье, и ему не пристало перед царскими чиновниками отрекаться от революционного выступления своих земляков, даже если бы он и считал это восстание ошибкой. Конечно, сознаваться в том, чего он не делал, так же нелепо, как и отмалчиваться.








