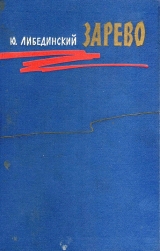
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 57 страниц)
– И написано коротко, и по языку видно, что писали сами солдаты, и от души писали… Но нет тут одной мысли…
– Война войне? Да? – тихо переспросил Саша.
– Значит, сами понимаете? Мы не за мир вообще и не за то, чтобы преступники, затеявшие эту страшную войну, выбрались из нее, не получив возмездия за преступление. Мы за революционный выход из войны, который указывает Ленин. Здесь, в этом тюке, который я вам передаю, есть и статьи Ленина. Я вижу, у вас в тетради еще что-то записано.
– Веду запись событий армейской жизни в том духе, как вы сказали, – ответил Саша. – Вот здесь о том, как сто восемь солдат нашей донской дружины ответили молчанием на приветствие есаула Воронова в знак протеста против мордобоя и обворовывания солдат, – все солдаты отданы под суд. Здесь вот о шестнадцатой роте девятнадцатого Туркестанского стрелкового полка, эта рота лучшая в полку, – за одну неделю боев в зиму этого года из двухсот двадцати человек осталось восемьдесят… Все время, пока шли бои, рога оставалась без снабжения. Когда же их вывели из боев и выяснилось, что продукты на роту на каждый день выписывались и разворовывались интендантами, то рота высказала протест, и всю ее отдали под военный суд.
– А как с Воеводиным? – тихо спросил Дьяков. – Удалось что-нибудь выяснить?
– Расстреляли уже несколько месяцев тому назад, – так же тихо ответил Саша. – Я с большим опозданием получил сведения о некоторых подробностях этого злодейства. Следствие и суд над теми двумя ротами Кавказского пограничного полка, которые отказались идти в бой, производил известный изверг генерал-лейтенант Яблочкин. Суд был скорый. Наш товарищ Воеводин был расстрелян и умер с возгласом: «Война войне!» Яблочкин так взбесился, что церемониальным маршем пропустил полк по могиле Воеводина. После этого военно-полевой суд расстрелял еще восемь человек – все члены нашей организации. Но двое большевиков в полку сохранились, они продолжают работу, в организации сейчас пятнадцать человек… Вы не записывайте, Семен Иванович, у меня в этой тетради все записано, я ведь для вас ее вел.
– Давайте сюда, она нам пригодится. Что может быть печальней гибели таких людей, как Воеводин? – вздыхая, сказал он. – Но тетрадочка ваша показывает, где находится неиссякаемый источник нашей силы… Это нарастающий общенародный протест… Что это вас заинтересовало? – спросил он Сашу, который стоял у окна.
Семен Иванович подошел к нему и обнял за плечи. Прямо перед окном видна была гора, и на ней снизу доверху копошились люди. Это была дорога на Бердусский перевал, который снизу выглядел незначительной вмятиной между двумя округлыми горами. И Саше вспомнилось, с каким трудом и какой кровью пришлось в зиму 1914 года отбивать у турок этот перевал и как в снегу стонали раненые… Теперь видно было, что там, где когда-то шли бои, по всей горе снизу доверху, скинув ремни и без шапок, работают солдаты, видно, как взлетают из рвов лопаты, выбрасывая щебень и песок. Вид этого соединенного труда был приятен и волновал чем-то. Уже открытая, обозначавшаяся полоса дороги зигзагами поднималась вверх, к перевалу.
– Узкоколейку на Эрзерум построили, а теперь ведем шоссейную на Бердус и Ольту, будет прямая связь с Ардаганом, – рассказывал Семен Иванович. – Хорошо работают саперные дружины, каждый раз, как поедешь, заглядишься. Если бы все эти силы, которые человечество тратит на взаимное истребление ради хищнических интересов золотого мешка, были направлены на мирный труд, ведь можно было бы по всей земле провести удобные дороги, отрыть оросительные и осушительные каналы, добывать из недр земли все, что потребно человечеству, построить новые фабрики и заводы, насадить сады – одним словом, осуществить нашу великую мечту, единственную надежду исстрадавшегося человечества.
– Верно, Семен Иванович.
Очень не схожи они были, когда, обнявшись, стояли у окна – худощавый, высокого роста, с приподнятыми плечами и тонкий в поясе Саша в своем красивом кавказском костюме и весь какой-то округлый, коренастый Семен Иванович, в кожаной куртке, которая топорщилась на его сильном теле. Но одинаковое, деятельное и доброе выражение было и на молодом, задумчивом, с черными усиками, смуглом лице Саши и на красно-загорелом, веселом, крепком и добром лице Семена Ивановича.
– Что же вы, Саша, не спросите меня о том, как я выполнил ваше поручение? – посмеиваясь, спросил Семен Иванович. – А я ведь его выполнил. Навестил вашу маму и даже обедал у вас. Социви [9]9
Социви – грузинское кушанье.
[Закрыть] было такое, что пальчики оближешь.
– Ну, так что у нас дома?
– Все хорошо, все здоровы, сестры у вас красавицы. – И он даже с грустью покачал головой.
– Спасибо, что вы у нас были, – сказал Саша. – Для мамы праздником является каждая встреча с человеком, который меня видел.
– Да, это верно, она меня выспросила обо всем, я уже, признаться, стал кое в чем привирать.
– Вот как?
– Да! Сказал, что вы влюблены в одну прелестную даму – Сирануш Гургеновну.
Сирануш Гургеновна была хозяйкой той квартиры в Александрополе, где стоял одно время Семен Иванович и куда приезжал Александр. Добрейшая старушка, она была очень ласкова к Саше, и Семен Иванович подсмеивался над тем, что старушка влюбилась в молодого красивого офицера.
– Ну, зачем вам было в смешном виде выставлять нашу добрую Сирануш Гургеновну? – с улыбкой спросил Александр.
– Но я ведь не сказал, что Сирануш Гургеновна старушка. Наоборот, я так расписал ее, что Дареджана Георгиевна не на шутку встревожилась, особенно когда узнала, что Сирануш Георгиевна вдова. «Зачем ему вдова, когда у нашего Александра есть шансы на благосклонность очаровательной девушки?» А… Вы краснеете? Теперь вы наказаны за вашу скрытность, Сашенька! А фамилия какая благоуханная – Розанова!
– Все это глупости, – сердито сказал Александр.
– А отец – генерал – это тоже глупости? – продолжал веселиться Семен Иванович.
Но тут в дверь постучали, Саша воспринял это с облегчением.
– Войдите! – сказал Семен Иванович.
В дверях появился небольшого роста человек в щегольской кожаной шоферской куртке с бархатным, отделанным красной шнуровкой воротником. На зеленых его погонах были ефрейторские нашивки и два крылатых колеса – значок недавно учрежденных автомобильных войск. Голова его была, пожалуй, несоразмерно с ростом велика. Горбоносый, с большим лбом, выпуклыми глазами и выдающимся вперед ртом, этот небольшого роста человек производил впечатление силача. Он приложил руку к фуражке с большим козырьком и, продолжая широко улыбаться, так, что видны были крупные, крепкие зубы, сказал:
– Господин начгар, разрешите доложить, прибыл по вашему распоряжению.
В том, как напряжена была рука у козырька, а также в этих словах и особенно в улыбке, неуловимо насмешливой, Александру почудился оттенок нарочитости, и он подумал, что все это предназначено специально для него, офицера в черкеске, человека чужого и враждебного.
– Ладно, Вася, можешь не так уж старательно тянуться, – усмехаясь, сказал Семен Иванович. – Знакомься, это… наш товарищ… – со сдержанной теплотой сказал он, кивнув подбородком в сторону Саши. – Есть тут для тебя серьезное дело. Я выпишу тебе наряд, ты поступишь в распоряжение их благородия. Тебе надлежит, приняв груз, – он сделал многозначительное ударение на этом слове, – отправиться разведать дорогу до того пункта позиций, который их благородие тебе укажут… – говорил он, несколько меняя интонацию с шуточно-серьезной на серьезную, так как в этот момент в комнату вошел Аркадий Иннокентьевич.
– Пришел-таки? – кивая подбородком на Васю, спросил он. – Никак не хотел идти, ворчал.
– А что я ворчал, господин начгар? – плаксиво-сердито сказал Вася, – Ведь моя гармозиночка, – нежно сказал он, – только что из ремонта – и здравствуй пожалуйста, тряси ее по здешним поднебесным горкам…
– Слышали, какое рассуждение, ваше благородие? – сказал писарь, обращая свое бледное лицо с красной и словно вздувшейся верхней губой к Александру. – Сам сообразить, что нашим героям солдатикам нужно подвезти пропитание, – этого он не хочет. Ему бы, раз уж он до Сарыкамыша добрался, лишь прилипнуть к своей Матаньке.
– А ведь сразу уговорил, – покачивая головой и как бы жалея себя, сказал Вася; – Какое слово пронзительное у господина старшего по канцелярии! Сказал – и сразу вонзилось в самое сердце. Поеду в погибельные горы, а вам., господин старший по канцелярии, поручаю свою Алюру.
– О-о-о, у него, оказывается, не Матаня, а Алюра, – сказал писарь, обернувшись к Александру и предлагая ему потешиться.
Александру настолько противен был этот писарь, что он не смог даже выжать из себя в ответ притворную улыбку.
Зато Вася подмигнул Семену Ивановичу, лихо притопнул и пропел:
Вечор встретились, Алюра,
А сейчас пришел приказ.
Расстаемся мы с тобою,
Шпарим прямо на Кавказ!
– Пишите, господин начгар, наряд на военного шофера Гаврилова Василия, с выдачей на десять дней сухого пайка и аварийного запаса бензина. – Все это он произнес быстро, без запинки и весело взглянул на Сашу с выражением: «Ничего, мы с тобой поладим!»
3
Темиркан благополучно завершил в Сарыкамыше все свои дела, наряды на продовольствие и боеприпасы были уже на подписи.
– Э-э-э, батенька, я склонен к каждой цифре справа ноль приставить, – сказал ему добродушный старенький генерал, накладывая резолюцию. – Да ведь вся суть в том, как вы все это доставите к себе на позиции.
– Дорога уже разведана, автотранспортом мы обеспечены, – ответил Темиркан, имея в виду то, что рассказал ему Александр Елиадзе о своей поездке в штаб автоотряда.
– Сомнительно все-таки, чтобы там машины прошли, – сказал генерал, – Советовал бы больше уповать на местный транспорт…
Посмеиваясь, вывел он Темиркана на галерею, выходившую во двор, который весь был заполнен множеством серых спин, длинных прядающих ушей и добродушно-упрямых ослиных морд.
Едва генерал показался на балконе, ослы вдруг, словно по команде, подняли крик.
– Знают начальство! – утирая слезы от смеха, сказал генерал. – Должен признаться, что я этих серых тружеников уважаю до глубины души. Подал нам эту мысль один из работников Земгорсоюза, армянин, еще весною, когда весь фронт из-за бездорожья сидел голодный. И, знаете, как они нас выручили, эти долгоухие? Ведь он пройдет по такой узкой тропке, где лошадь откажется идти. Правда, не выносят топких и сыпучих мест, особенно когда тяжело нагружены. В этом-то и есть разгадка знаменитого ослиного упрямства. Видите, как уши у него устроены, – этакий аппарат по уловлению звуков! И если он слышит, что его гонят в ту сторону, где булькает вода или сыплется песок, он ни за что туда не пойдет, потому что копытце-то у него маленькое, там, где лошадь пройдет легко, осел сразу загрузнет. Ну, а человек, не обладая подобными звукоуловителями, не понимает «ослиного» упрямства, гонит его на погибель, бьет и терзает, а осел все равно не идет. Не бить его надо, а дать ему возможность самому найти дорогу. Он вытянет морду вот этаким манером, – и генерал очень похоже показал, как осел нюхает воздух, – поразмыслит – и найдет каменистый грунт, свою ослиную дорогу, придет туда, куда надо.
Темиркан, посмеиваясь, слушал генерала, в молодости отважного кавалериста и героя кавказских войн, а сейчас по старости лет занимавшегося вопросами интендантства и ставшего ярым поборником ишачьего транспорта.
Развеселившийся после этого разговора, довольный общими результатами дня, Темиркан вышел из двухэтажного здания штаба укрепленного района – и среди своих офицеров, поджидавших его возле крыльца, неожиданно увидел того самого мистера Седжера, который в представлении Темиркана всегда был связан с Гинцбургом и со всем тем столичным денежным миром, где находилась Анна Ивановна, – миром, с которым, казалось, у него все было покончено. В светлом травянисто-зеленом френче с маленькими погончиками и в тропическом шлеме, англичанин преувеличенно приветливо поздоровался с Темирканом. Но, уловив оттенок вежливой сухости в обращении Темиркана, он тут же счел нужным предъявить документ главной квартиры штаба русских войск на турецком фронте. Оказывается, мистер Седжер был корреспондент английского телеграфного агентства на турецком фронте русской армии. Повернувшись спиной к русским офицерам, которые с любопытством следили за иностранцем, мистер Седжер вручил Темиркану конверт. Темиркан нахмурился и хотел сунуть конверт и карман, но Седжер, напряженно улыбаясь, попросил письмо распечатать.
Это было, как и ожидал Темиркан, письмо от Гинцбурга, который сообщал, что Анна Ивановна Шведе вышла замуж за ван Андрихема. «Они вернулись из-за границы и обвенчались в Петрограде, о чем Анна Ивановна написала мне в Москву, откуда я и пишу Вам. Она не знает, где Вы, и просит меня сообщить Вам, что по-прежнему считает Вас самым близким себе человеком. Превратившись в госпожу ван Андрихем, Анна Ивановна стала владелицей огромного состояния, с которым ей трудно управиться… – писал Гинцбург. – Зная, что Вы сердиты на нее и еще больше осердитесь, когда узнаете, что она вышла замуж за ван Андрихема, Анна Ивановна не решается Вам писать сама и просит у меня заступничества перед Вашим сиятельством. Она просит меня написать Вам, – сохраняю ее выражения, – что она предана Вам, как собака, и что все ее достояние (а оно, должен Вам заметить, оценивается в несколько миллионов фунтов стерлингов) принадлежит Вам. А это значит, дорогой Темиркан Александрович, что Вы, таким образом, после смерти ван Андрихема – а он очень плох – можете стать распорядителем очень большого состояния, которое вводит Вас в круг людей, правящих миром. Впрочем, подробнее я Вам скажу обо всем этом при личном свидании. А то, что Вы человек военный, в настоящей ситуации придаст Вам еще больший вес в деловых кругах, военные люди сейчас ценятся. Как это ни странно, но судьба устроила так, что в отношении Вас и Анны Ивановны я, человек коммерческий, являюсь вестником любви, своего рода амуром.
Исходя из этой роли, я прошу Ваше сиятельство переменить гнев на милость и простить рабу Вашу Анну (так сама себя называет Анна Ивановна ван Андрихем), разрешив ей написать Вам, чтобы Вы имели возможность условиться с нею о встрече».
Все это так неожиданно свалилось на Темиркана, что он, читая это письмо возле входа в штаб, даже не имел возможности обдумать новости, нашептанные ему письмом. Но, прочитав письмо и взглянув на мистера Седжера, который оживленно беседовал с офицерами, он понял первое, что надлежит ему сделать. Поскольку у мистера Седжера имелся пропуск, который давал право представителю прессы союзной державы беспрепятственно следовать в пределах расположения русской действующей армии, Темиркан пригласил мистера Седжера побывать у него на участке фронта, а пока отправиться вместе ужинать в офицерскую столовую.
Глава третья1
На крутом, несколько выдвинутом вперед отроге лесистого хребта, над горной речкой, протекавшей среди сырых стен ущелья, расположен был взвод казаков, два доставленных сюда на вьючных лошадях горных орудия и два пулемета «максим». Этой маленькой «крепостью» командовал рыженький, с хорьковой мордочкой, известный своей отличной джигитовкой, хладнокровной жестокостью и отчаянной лихостью в бою сотник Смолин. Он уже дважды был ранен и трижды награжден: двумя георгиями и золотым оружием. Смолин происходил из станицы Царской, и казаки, родом из тех же мест, знали о нем, что его отец, атаман, в детстве так бил сына, что ломал об него палки. И все же не мог добиться, чтобы Витька переходил из класса в класс. В конце концов Виктора Смолина в возрасте семнадцати лет забрали из четвертого класса реального и отдали в кавалерийское училище в Новочеркасск, откуда он и был выпущен в начале войны.
Офицеры жили в землянке: Смолин и артиллерийский командир прапорщик Зароков, огромного роста мужчина с черными густыми бровями и громоподобным басом» По должности и по положению Зароков должен был подчиняться тонкокостому, визгливому Смолину, но постоянно спорил с ним и обращался не по чину:
– Послушайте, Смолин…
– Прошу обращаться по форме! – кричал Смолин, наморщив свой хорьковый нос и оскалив мелкие зубки.
– Да ну вас, какая тут форма… – бурчал Зароков. – И какое обращение может быть лучше фамилии? Фамилию вы получили от деда, может от прадеда, а сегодня вы хорунжий, а завтра…
– Не хорунжий, а сотник! И эти студенческие разговоры прошу приберечь для штатской жизни.
– Да я в штатской жизни с таким малоинтеллигентным юнцом, как вы, общаться не буду, – со снисходительным и явно выраженным презрением отвечал Зароков. – Я, знаете ли, на третий курс Технологического института перешел, а вы, насколько мне известно, как дело дошло до равнобедренных треугольников, так и застряли в четвертом классе на третий год…
– Я вас проучу, я вас на дуэль…
Обычно после такого разговора Зароков уходил из землянки. Но сегодня он добавил:
– Э-э-э… чего тут разговаривать… Мне бы с вами насчет высоты номер двадцать четыре посоветоваться надо, как бы туда разведку выслать, а у вас из-за дурацкого титулования язык невесть куда забегает.
Наступило молчание.
– Это высота двадцать четыре, где такое дерево кривое, вроде буквы «Г»? – спросил Смолин, быстро вытаскивая карту и сразу спадая с неистового крика на любопытствующий и деловой тон. – Вот эта?
– Она самая. И кажется мне, что там проходит дорога…
– По карте здесь дороги нет, – вертя носом над картой, бормотал Смолин. – А впрочем, батя меня учил, что «на фронте, Виктор, верь не карте, а своему носу». А нос у меня, знаете, какой? Кто это вам сказал насчет дороги?
– Мои наблюдатели – они видели, там два верблюжьих вьюка прошли.
– С чинары глядели? Пойти посмотреть… – Виктор быстро, затягивая ремень, вышел из землянки.
Он, конечно, мог бы послать слазить наверх кого-либо из своих казаков, но это значило отказать себе в удовольствии. Перед тем как лезть на дерево, Смолин, придерживая кубанку, чтобы не свалилась с маленькой рыжечубатой головки, оглядел чинару, на которой сидел наблюдатель-казак, скинул франтоватые сапоги и, окончательно превратившись по внешнему виду в мальчишку, ловко, по-обезьяньи, влез на дерево. Цепко обхватив вершину и не обращая внимания на то, что раскачивается вместе с ней, он около, часу напряженно вглядывался своими острыми рыжими глазенками, порою прикладывая бинокль и тут же начиная чертыхаться, так как пользоваться биноклем он не умел, («Бинокль как-никак требует отвлеченного мышления», – язвил по этому поводу Зароков.)
Смолин слез с дерева и обтерся душистым одеколоном.
– Подобного рода ароматы испускают только девки-мамзели с Лиговки, – как всегда, брезгливо морщась, сказал Зароков. (Парфюмерия была постоянной слабостью Смолина, а Зароков ее терпеть не мог, и вопрос об употреблении косметики был одной из причин их ссор.)
– Не любишь… – повизгивал от наслаждения Смолин, продолжая растираться. Потом голый лег на свою постель и закурил.
Зароков терпеливо ждал. В дверь постучались. Вошел рослый артиллерист с нашивками ефрейтора, это и был Москвиченко, тот, кто первый увидел тропу… Он вошел и встал у дверей, немного пригнувшись. Рост не давал ему возможности вытянуться по форме.
– Там тропа просматривается, среди зелени желтое, коричневое такое… – заговорил Смолин. – За то время пока я болтался наверху, никто по ней не прошел. Но ведь ты, Москвиченко, верблюдов видел? Не приснились ведь они тебе?
– Никак нет, ваше благородие, не приснились, – мягким басом ответил Москвичеико.
– Так как же быть? – спросил Смолин.
Никто ничего не ответил. Раздумье продолжалось секунду. Смолин вскочил, мгновенно оделся и вышел из землянки.
– Эй, Михайлов, седлай коней! Прапорщику Зарокову оставаться старшим. Ты, Филипп Петрович, тоже собирайся со мной, – несколько умеряя повелительный тон, сказал Смолин, обращаясь к старшему уряднику Филиппу Булавину, который за это время тоже вошел в землянку.
Однако установить, что под высоткой № 24 действительно существует тропа и занести ее на карту, причем сделать это так, чтобы турки не подозревали о том, что их коммуникация открыта, было не так-то легко. На это потребовалось несколько суток, и все это время в офицерской землянке царил мир – два человека, разные во всем и по-разному ограниченные, не сталкивались на каждом шагу, как это бывало в дни вынужденного безделья.
Наконец на четвертый день, проползав несколько часов среди кустарников, цепляясь за гибкие, но тонкие ветки, пробираясь по крутым склонам и слыша, как камни катятся из-под ног и где-то далеко внизу плюхаются в воду, Филипп установил, что здесь над рекой действительно проложен участок дороги. Над самой головой Филиппа прошли навьюченные верблюды. Ступали они по-верблюжьи беззвучно и мягко, и Филипп ничего бы не услышал, если бы один из верблюдов, очевидно почуяв Филиппа, не послал ему свое верблюжье проклятие.
Вернувшись и доложив командиру, что дорога обнаружена, Булавин, изрядно уставший, вышел из офицерской землянки, присел и, не прикоснувшись к обеду, заботливо для него оставленному, сразу уснул.
Как это часто бывает на фронте, проснулся он от ощущения опасности и сразу схватился за свой карабин.
Но кругом все тихо и спокойно, ни зарева, ни выстрела, ни крика… Только гора Бингель-Даг пламенела на востоке, отражая лучи уходящего солнца.
«Не годится спать на закате – еще бабушка учила нас с Родькой… – вспомнил Филипп. – Что-то Родька сейчас делает?» – подумал он о брате.
И, приняв позу поудобнее, закурил. Так как к ночи в этой местности всегда холодало, он потуже затянул серую добротную шинель, которую недавно, к удовольствию казаков, выдали вместо бурок и казачьих бешметов.
Впрочем, бурки еще были в ходу, и одна из них, поставленная в виде шатра и сверху смоченная водой, прикрывала маленький костерчик, на котором разогревался ужин.
Филипп совсем неподалеку видел слабый язычок пламени под буркой, ощущал легкий, почти невидимый дымок и прислушивался к тихому, доносившемуся оттуда разговору.
– Нет, ребята, – спокойно и назидательно говорил человек, которого по голосу сразу же признал Филипп, это был артиллерист Николай Жердин, – у меня в жизни два раза случалось, что я обмирал, то есть был все равно что мертвый, потому я точно могу сказать, что никакая душа в это время из меня никуда не отлетала.
– А вы, может, этого не помните, – возразил Николай Черкашинин, одностаничник и даже свойственник Филиппа.
Филипп со слабой улыбкой слушал этот заинтересовавший его разговор.
Он не раз замечал, что, как только Жердин приходил к казакам, непременно возникали примерно такие вот разговоры об умственных, порожденных войной и фронтовой жизнью предметах: о жизни и смерти, о душе… Филипп заметил и то, что Жердин не только при офицерах, но и при нем, Филиппе, никогда таких разговоров не заводит, и не обижался на это, а предпочитал, не вмешиваясь, потихоньку слушать эти разговоры.
– Почему не помню? Я все помню… – неторопливо продолжал Жердин. – Это еще в самом начале войны было, в первом бою, когда нашу дивизию ткнули на переправу через Неман и пошли мы в штыковой бой. Но тут наши немецкие братья… – и Жердин непонятно грустно усмехнулся, – так меня разделали своими штыковыми ножами, что я больше походил на филе с кровью, которое так обожает господин сотник…
– Он такой у нас.
Казаки засмеялись.
– Такой!..
– Хорек, он только на свежанину падок.
– Ш-ш-ш… Он тебе задаст хорька.
– Давайте, дядя Жердин, говорите, – попросил Николай Черкашинин.
И Жердин, дождавшись, когда казаки перестали смеяться, продолжал:
– Бой, значит, кончился… Лежу я на поле и даже не знаю, отбили мы переправу или нет. Да и, признаться, не было мне в этом интереса, а только одна дума: ни за что пропадаю. И даже боли особенной нет, лишь тянет и тянет руки и сердце холодеет…
– Это так и есть, – подтвердил молодой казак Лиходеев. – Вот и я тоже…
– Ш-ш-ш… – недовольно заглушили его другие слушатели.
Жердин опять переждал шум и сказал:
– А к чему я это рассказываю? А вот к чему. Ведь потом врачи удивлялись, как это я живой остался, столько крови из меня вытекло. И ведь я знал, что она из меня вытекает, потому что она горячая, и чую я, что лежу в теплом и липком, а внутри у меня все холодеет, и в глазах темнеет и темнеет. Даже подумалось, что вечер настал, а было утро, солнце все выше поднималось.
– Как же это, дядя Коля, ведь ты все это видел… – перебил его Черкашинин.
– Видел. И даже соображал, что уже день, и солнышко видел. А вокруг все показывалось – как будто ненастная осень, все серое, и тоска такая… Про жену вздумалось…
– А, вот… – перебил Николай. – Значит, вздумалось? Это, значит, душа к ней полетела…
– Зачем бабе душа? – И Лиходеев подробно изложил, что именно, по его мнению, необходимо бабе.
«Вот жеребец», – подумал Филипп с неудовольствием, ожидая, что интересный разговор перейдет в русло армейской похабщины. Но этого не случилось, лиходеевское похабство выслушали без интереса, и Жердин, не обращая внимания на грязные слова, упрямо сказал:
– Никуда и ничего из меня не полетело. Только жалко мне ее стало, так жалко, что я вот помираю, а ей без меня жить в нужде и горе. И подумалось: вот конец. Все забыл, и жизни нет… И если бы не пришли наши санитары и не стали меня тормошить, я бы совсем помер в полном беспамятстве…
– А женку-то ты увидел перед смертью, личико ее, – спрашивал Николай, – разве не предстало тебе?
– Это еще ничего не доказывает, – ответил Жердин. – Мне, может, и сейчас она представляется, все равно как я вас здесь перед собой вижу. А знаю, что сижу среди вас, а не у себя в Баку, на Балахнинской, и если уж двинусь в Баку, то не душой, а вот как я есть – с руками и ногами и на все свои четыре пуда одиннадцать фунтов весом.
Лиходеев опять громко захохотал.
– Эк тебя, Степка, разбирает… – сердито сказал Черкашинин. – Господа офицеры услышат, придут, дядю Филиппа побудишь.
– А где Филипп Петрович? – переходя на осторожный шепот, спросил Жердин.
– А вон, за кустом спит.
Филипп ткнулся лицом в землю – на случай, если бы кто-либо захотел удостовериться, спит ли он в действительности. Но никто не пошел удостовериться, и Черкашинин, настойчиво возвращаясь к разговору, спросил:
– Ну, а другой раз как это было, что вы помирали? Тоже на войне?
– Да, тоже вроде войны было, – усмехнувшись, сказал Жердин. – Полицмейстер Ланин меня по башке балалайкой, а кто-то из новобранцев его каменюкой по балде. Это в первый день призыва. Еще на фронте не побывал, а уже три недели в военном госпитале пролежал. Господина полицмейстера Ланина хоронили под музыку, по всему Баку таскали, речи говорили. А если собакам кинуть такую падаль, так они, пожалуй, и жрать его побрезгают.
И эти исполненные злобой слова вдруг воскресили в памяти Филиппа совсем не смазливенькое, с припомаженными усиками и висками лицо Ланина, а сизое, со стеклышками вместо глаз, с собачьим оскалом лицо градоначальника Мартынова, и злоба, которая слышалась в голосе Жердина, одобрительным и горячим эхом отозвалась в душе Филиппа. И ему вспомнился Науруз – такой, каким он видел его последний раз в Баку. Он вышел тогда вперед из толпы забастовщиков, держа в руках пестрый кисет, сшитый женой Филиппа, и напоминанием об их необычайной дружбе был этот кисет… Да, тысячу раз лучше воевать с вооруженным врагом, с турком, чем с той безоружной, но страшной сознанием своей справедливости силой. «Лучших людей терзают… – подумал Филипп. – Где-то он сейчас, кунак мой?..» И то, что этого доброго, благородного, мужественного человека он мог назвать, хотя бы мысленно, кунаком, радовало Филиппа и внушало уважение к себе.
Ночь, как всегда в этих местах, наступила быстро, на небе высыпали звезды. Вечерние звезды тлели в угольях заката, обозначившего ломаную линию гор, да под буркой тлели угли костра.
Ужин разогрелся, из темноты слышно было, что люди едят. Разговор прекратился, и только Коля Черкашинин никак не мог угомониться.
– Это все я понимаю – насчет рая и ада, это поповская глупая брехня. Я об этом еще в станице сомневался. Ну, а как уже воюем третье лето, так кой чертов ад сравнять с этим пеклом… – он вздохнул и коротко махнул рукой – Филипп различал в темноте его движения. – А все-таки, не могу я согласиться, что душа у человека после смерти тоже пропадает, рассеивается, как туман, – упрямо сказал Николай.
– Души без тела никогда никто не видел, не слышал. То, что ты, тезка, называешь душой, находится вот здесь, – учительным тоном выговорил Жердин. Послышался легкий шлепок, Жердин ласково шлепнул Николая Черкашинина по затылку. – Повреди мозг – и ничего те увидишь, все рассеется.
– А совесть? – спросил Черкашинин. – Она тоже рассеется?
– Совесть? – помолчав, переспросил Жердин. – Что такое совесть? Это – когда ты сам знаешь цену своему поступку, верно ты поступил или нет. А чувство это, если ты хочешь знать, идет к тебе в душу от других людей: как они считают твой поступок – правильный или нет. Вот я, бывает, вспоминаю того парня, который полицмейстера Ланина, как я вам рассказывал, успокоил навеки. Почему он за меня вступился? Ведь он меня не знал. А не выдержал, вступился. Что же его двинуло? Совесть! – торжественно и строго сказал Жердин. – За чужого ему человека как за родного встал! Если его поймали, так, верно, по строгости законов судили – присягу, мол, нарушил, так? И, верно, всяко стыдили и усовещевали. А он знал свое, он за товарища заступился. И если даже его палачи за это дело на виселицу потащили, он все равно свою правду знает. Знает, что за товарища погиб. И хотя я не знаю его, кто он есть, а он для меня все равно что здесь, со мной, – так говорил Жердин – и, видимо, не только уже для тех, кто его слушал, но и для себя. И такая убежденность слышна была в его словах, что Филипп с уверенностью отнес Жердина именно к тем самым решительным и неустрашимым людям, которые в уставе воинском именуются внутренними врагами…
– Свисточки… – сказал вдруг Черкашинин. – Это дозорные, кто-то к нам сюда, на тычок, жалует…
Все замолчали, слышно стало, что в землянке запищал полевой телефон и басовитый голос Зарокова поздоровался с кем-то.
Филипп встал, отряхнулся и оглядел себя, а потом обернулся в сторону костра. Но казаков там уже не было – они разошлись по своим местам.
2
Приезд начальника штаба отряда, да еще в сопровождении какого-то непонятного светло-зеленого, как гусеница, англичанина в колониальном шлеме («Прямо из «Вокруг Света», – шепотом сообщил Смолин Зарокову) был на «тычке» – так во фронтовом обиходе именовался холм, где расположились казаки Смолина и пушки Зарокова, – событием из ряда вон выходящим.








