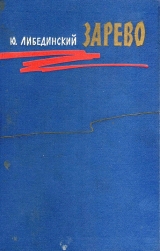
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 57 страниц)
Вот следствием каких обстоятельств было то оживление на дворе торнеровского завода, которое ранней весной 1915 года заметил Жамбот.
Глава четвертаяЗима каждый год на несколько месяцев отрезала аул Баташей от всего мира. Случалось, что в самой Баташевой долине снегу не было всю зиму, тихое солнце светило, как весной, и на освещенных склонах гор зеленели травы. Но стоило лишь выйти из пределов долины, защищенной горами, и сразу почувствуешь северный ветер. Стеной встанут перед глазами высокие сугробы, под которыми слышно, как глухо рычит незамерзающая Веселая река, невидимая и потому более опасная, чем всегда, – чуть оступишься с узкой дороги и провалишься в пропасть. Потому-то в Баташевой долине всегда с таким нетерпением ждут наступления весны. Только возьмется по-настоящему греть солнце, сразу огромными лавинами низвергаются в ущелья куски снеговой брони, выше своих берегов поднимается Веселая и затопляет ущелье, размывает льды и снега. Три дня грохочут обвалы, бушуют вешние воды – и вот двери темницы, в которой несколько месяцев был заточек аул Баташей, сломаны. Еще Веселая бушует, воет совсем близко, обдавая ледяными брызгами отважного спутника, но уже узкая дорога по правому берегу выступила из-под воды и связь Баташея с миром восстановлена. Весело делается на душе, когда после трех месяцев впервые доберутся до Баташея гуськом запряженные трое коней, и на каждом приторочены огромные кожаные сумки, – это привезли почту. Теперь уже нужно ждать приезда купцов с товарами, потом появятся гости…
В эту весну первые гости приехали к старому богачу Хаджи-Дауту Баташеву – дочь его Балажан с мужем, удалым Батырбеком Керкетовым. В прошлом году осенью поссорился Батырбек с Хаджи-Даутом и на всю зиму увез жену в Арабынь. Но соскучилась Балажан по отцу и сразу, как только открылась дорога, приехала повидаться со стариком.
Потом стали возвращаться с заработков молодые парни: в эту первую зиму войны рабочие руки нужны были в богатых помещичьих и казачьих хозяйствах, на мельницах и стройках… Вернулись и двоюродные братья Касбот и Сафар – сыновья Мусы и Али Верхних Баташевых.
Только вернулись парни и роздали подарки, как еще один гость приехал к Верхним Баташевым – третий из сыновей Исмаила и Хуреймат, солдат Кемал.
Жена его, Фатимат, пока Кемала не было в ауле, жила по-прежнему в родовом доме Верхних Баташевых. Но, вернувшись, Кемал не стал селиться у родни. Отодрав доски с заколоченных окон собственного опрятного домика, построенного на половине пути между аулом и домом Верхних Баташевых, он поселился там вместе с женой.
Золотыми погонами подпрапорщика были украшены плечи Кемала. Серебряный крест Георгия на полосатой ленте, дарованный за подвиги, совершенные на войне этой весной, красовался на его плоской груди.
Кемал никогда разговорчивостью не отличался, а сейчас «скорей из камня воду выжмешь, чем из него слово», – так говорили о нем жены старших братьев. Оставаясь наедине с женой, он, конечно, разговаривал с ней, и от нее удалось кое-что разузнать. В том бою, за который Кемал получил георгия, ранен был князь Темиркан; ему разрешили лечиться дома, и Кемал сопровождал его до Арабыни.
Снег уже сошел везде, и на дню по многу раз то шел дождь, то светило солнышко. И случилось раз так, что нижний конец долины был под темной дождевой тучей, а наверху жарко светило солнце, весною в горах иногда бывает такая погода.
Касботу Баташеву нужно было в этот день попасть сверху в нижнюю часть долины. Он сидел на камне и глядел вниз, выжидая, когда пройдет дождь. Вдруг из-под дождевой завесы вынырнули трое всадников, с их мокрых бурок текло, как с кровли. Всадники заехали в поселок к Даниловым и спешились перед домиком деда Магмота. Жена его, старушка Зейнаб, жила сейчас одна, поджидая мужа, сосланного после восстания на пастбищах куда-то в Сибирь. И Касбот поспешил в поселок Даниловых, ему, как внуку деда Магмота, полагалось помочь своей бабушке принять гостей.
И как же обрадовался он, когда увидел на дворе своего молодого дядю, младшего брата матери, рыжебородого и синеглазого Бетала Данилова! По-хозяйски, сняв с себя форменную серую черкеску и оставшись в одной отделанной мелкими пуговками шелковой синей рубашке, Бетал кинжалом рубил головы курицам, которых бабушка Зейнаб, плача от радости и не переставая расхваливать сына, подсовывала одну за другой.
– Да хватит, – сказал сурово Касбот, – три гостя приехали, а вы для них всех кур перережете.
– О-о-о, Касбот, солнышко наше! – бросая окровавленный кинжал и улыбаясь во весь рот своей широкой и доброй улыбкой, сказал Бетал. Они обнялись.
– Каким ты скубентом! – сказал Бетал, оглядывая длинные брюки Касбота, купленные в Арабыни.
– А ты чего бороду отрастил, как русский поп? – сердито ответил Касбот.
– Приказ был такой от начальства, – охотно стал объяснять Бетал, самодовольно поглаживая свою рыжую, пышную, как лисий хвост, бороду. – Чтобы враг нас страшился. Вот и приказало начальство всем длинные бороды отпускать.
– Видать, не страшна ваша воинская сила, если бородами пугать приходится, – съязвил Касбот в отместку за непонятное слово «скубент», относящееся к длинным брюкам.
– В русских городах все носят только такие брюки, они крепки и дешевы, ходить в них тепло, удобно, и не нужно покупать дорогих высоких сапог. А в Баташее все смеются над этими брюками, и только Разнят Хасубова, взглянув на них, заплакала.
За эту зиму Разият из босоногой и резвой, как жеребенок, девочки превратилась в степенную девушку с длинными черными косами и таким нежным и диким взглядом черных глаз, от которого у многих парней сердце замирало. Но она глядела только на своего Касбота, всегда точно невыспавшегося и неторопливого, и даже позволила ему надеть себе на палец колечко с синим камешком – сапфиром, дарующим мир и счастье в семейной жизни, – и колечко пришлось в самый раз.
В самый раз пришлось колечко, а до свадьбы еще далеко: ведь не в длинных же брюках свататься, черкеску нужно справить, и бурку, и сапоги, деньги надо иметь, калым заплатить…
Так думал Касбот, помогая прислуживать гостям и с завистью поглядывая на парадную одежду Авжуко Кяшева, пережившего поистине сказочное превращение. «Шерстобит Авжуко», – иначе его и не называли. Всю жизнь валял он бурки, ноговицы, шапки из чужой шерсти для чужих людей, а сам ходил оборванный, грязный. Сейчас на нем была такая же, как и на Бетале, черкеска, мягкие сапожки, – любой князь или офицер не отказался бы от таких… Белый башлык на шее, черная кубанка на голове и, что удивительнее всего, довольно ладный белоногий конек.
Авжуко рассказал о том, что, как только объявили войну, князь Темиркан собрал князей и дворян и сам, посетив тюрьму, где томились веселореченцы, призвал всех на войну, каждому обещав оружие, воинский наряд и коня.
– Я согласился – и вот видите, каков я? – говорил Авжуко, поворачиваясь на пятке перед соседями, которые, услыхав о гостях, пришли к Даниловым.
Угощая гостя, его долго расспрашивали о том, какие цари с кем воюют.
– Война, война! – громко кричал Авжуко, отведав бузы. – Война во всем мире! Падишахи – русский, германский, английский, турецкий – не поделили землю и подданных и объявили войну друг другу. Всю неисчислимую русскую силу поднял царь на войну против немцев. В станицах остались только старики да женщины.
Казалось, что стены дома Даниловых потрескивают под напором людей, – всем хотелось послушать рассказ Авжуко. А он, никогда не удостоивавшийся такой чести, молол как мельница, благо Бетал и другой гость, маленького роста, с белыми погонами на серой черкеске, князь Харун Байрамуков подтверждали его рассказы.
– Как же это такая беда случилась, что князя Темиркана в первом же бою пуля настигла? – громко спросил кузнец Ислам Хасубов, отвыкший в грохоте своей кузницы разговаривать не повышая голоса.
Все заинтересованно посмотрели на Авжуко, ожидая услышать рассказ о подвигах князя. Подергивая свою курчавую бородку, Авжуко оглядел всех блестящими лукавыми глазами, и вдруг правый глаз его прищурился.
– То-то, что настигла, дед Ислам. Настигают сзади. Сзади ранили его, пуля прошла вот тут, – и Авжуко черкнул себя указательным пальцем тю затылку и чуть ниже правого уха. – Пуля ему правую челюсть разбила, разговаривать не может.
Наступило молчание, люди переглядывались. «Так вот почему Кемал ничего не рассказывал на этот раз о подвигах князя», – подумали люди.
– Пуля со спины считается позорной, – громко сказал Ислам.
– Позор тому, кто со спины нападает, – ответил маленький князь Байрамуков.
– А он на наше добро тоже разве не со спины напал? – спросил вдруг Бетал Данилов, с неприязнью смотря на Байрамукова своими сузившимися ярко-синими глазами. – Послушать его, так он нам отец родной, – а кто у народа пастбища отнял? С таким в честный бой не вступают.
– А тебе, молодец, разве точно известно, кто в него стрелял? – ласково спросил Байрамуков.
– Ничего я не знаю, – мрачно ответил Бетал и, обведя комнату глазами, сказал: – Мать, подай мой кобуз, позабавлю людей.
И пока он подвинчивал и настраивал кобуз, маленький князь говорил наставительно:
– Кому известно, кто и с какой целью стрелял в доблестного Темиркана? Герман – коварный враг. Он засылает в тыл к нам своих разведчиков. Князь Темиркан опасен германам, и они прислали своего разведчика, чтобы убить нашего князя.
Говорил он это, переводя взгляд с одного лица на другое. Старики, ничего не отвечая, поглаживали лишь бороды и кивали головами.
Харун Байрамуков недолго гостил в низеньком полутемном домике Даниловых; Кемал, узнав о его приезде, увел его жить к себе.
«Карманный князь» – называли Харуна Байрамукова парни и девушки. Но так было только до первой пятницы, когда после утренней службы в мечети маленький князь, взобравшись на ограду, обратился к народу.
– Царь оказал милость мусульманам, – говорил он своим тонким голосом. – Отныне не только князья и дворяне, но и любой подданный мусульманин, если хочет, может вступать в военную службу… – Потом он подробно стал перечислять, какие выгоды получит каждый: конь, седло, сбруя, обмундирование, вооружение. Кто был осужден по суду, получит прощение, прощаются и разбои – только иди на войну. Всех мусульман собрали вместе, в одну дивизию, и при каждом полку есть свои муллы, а командирами подобраны мусульмане из знатных фамилий. Эта дивизия в первых же боях в Галиции отличилась: во время сражения, когда опасность угрожала штабу армии, прикрыла его собой и спасла от плена многих генералов.
Таким образом, все, что рассказывал Авжуко, подтверждалось, и многие из молодежи задумались, выслушав Байрамукова.
Потом стал Кемал водить маленького Харуна Байрамукова по гостям, посещать самых почтенных людей аула и прежде всего Хаджи-Даута Баташева, где Харуна приняли с большим почетом – и старый Хаджи-Даут, который не перед всяким князем ломал шапку, и своевольная Балажан, дочка его, и озорной Батырбек Керкетов. Оказывается, они уже слышали о маленьком Харуне. Знали и о том, что он, не боясь замарать свое княжеское достоинство, сам работает. Берет подряды на постройку железной дороги и на волах возит бревна, песок и камень. Гоняет гурты в Ростов. А на своей байрамуковской заимке под городом Краснорецком, скупая окрест всякую дохлятину, устроил мыловаренный завод и обрабатывает кожи. Ничем не гнушается! Как же такого умного человека хорошо не принять! Особенно понравился маленький Харун молодому Батырбеку, и они даже обменялись кинжалами: недорогой кинжал Харуна перешел на пояс Батырбека, а Харун получил дамасский клинок Батырбека с аравийскими письменами на нем.
Осторожно потрогав лезвие, маленький Байрамуков в восхищении покачал головой и приложил плашмя лезвие кинжала к тыльной стороне ладони. Провел – и на блестящем лезвии легли волоски.
– Сухой волос берет! – восхищенно ахнул он.
Подарок сделал его еще разговорчивее, а выпив русской водки, которую вынес развеселившийся Хаджи-Даут к самому уже концу угощения, маленький человечек этот совсем расхвастался, обращаясь главным образом к Батырбеку:
– Сейчас для всякого молодого человека самое хорошее время. Кровь молодая кипит – иди на войну! В большие офицеры можешь выйти!
Батырбек, не соглашаясь, качал головой.
– Выйдешь ли, еще неизвестно, чин дадут или нет, а жизнь отдашь – это наверняка. Нет, я смерти не боюсь и уже слышал, как свищет пуля. Брат мой Талиб – ты, верно, слышал о нем – прямо из тюрьмы пересел в боевое седло. Так у него выбора не было. Сидел бы я в тюрьме, я так же сделал бы. Но я на свободе – и потому свободным останусь.
– Ты молод, а говоришь мудро, как старик, – похвалил Харун Батырбека. – Вызывают меня в штаб наказного атамана, есть там интендант: такой же, как у меня, белый погон, зеленый кант, штабс-капитан Толдыкин… «Садитесь, господин Байрамуков! Просим вас оказать нам патриотическую помощь: мыло нам нужно заготовить». – «Сколько?» – «Чем больше, тем лучше». – «Аванс?» – «Пожалуйста… две тысячи».
– Две тысячи! – повторил Батырбек и восхищенно выругался. – Ни фунтика еще не продал, а уже две тысячи.
– Да, братец, – наставительно сказал Харун. – По-коммерчески это называется кредит, что означает: вера, доверие. Он доверяет мне деньги, потому что знает мое дело. Пишу расписку, уношу деньги – так-то!
Рассказал также Харун давнюю историю о том, как князь Темиркан, нежданно-негаданно встретился в доме Харуна с доблестным Наурузом.
– Науруз нанялся ко мне в работники. Однако он не счел возможным открыться мне, назвался чужим именем, а между тем я бы зла ему не причинил, потому что для меня главное, как работает человек, а работник он отменный. Хотя молодой, но скотину умеет пасти, как старик. Я его нанял младшим пастухом при большом гурте скота, а по дороге старший пастух умер. И что же? Науруз сам пригнал скот в Ростов, продал и всю выручку, до копеечки, мне привез! Был у меня с князем Темирканом большой разговор о Наурузе, и уговорил я его, что не такое время нынче, чтобы враждовать веселореченцам, тем более что Темиркан был в руках Науруза. Вот и просил князь Темиркан, зная, что я по своим делам собираюсь по аулам: скупать старый скот на мыло – если об этом зайдет разговор не за праздничным столом, – попросил меня встретиться с Наурузом и передать ему, что князь снова великодушно предлагает ему прощение и мир. Ну, а так как среди народа идет молва, что зять Хаджи-Даута, молодой Батырбек, и доблестный Науруз – кунаки, а может, и побратимы, то и хотел я попросить тебя устроить нам встречу.
Так сказал он. И только Батырбек хотел рот раскрыть, как Балажан, стоя в дверях, положила все пять пальцев на свои строптивые губы и отрицательно показала головой: призвала мужа к умолчанию. Батырбек, забыв под действием водки и сладких речей Харуна об осторожности, вдруг опомнился.
– Насчет того, что мы с Наурузом кунаки, – это неверно, – сказал он Харуну. – Но был у нас один общий друг, удалой Хусейн, гостя нашего дорогого Кемала молодой брат. Благодаря милости Ночного Всадника, покровителя конокрадов, много славных дел совершали мы по ночам с Хусейном. Хусейн друг Науруза. Но с тех пор как убили Хусейна, мстя за кровь родича твоего Аубекира Байрамукова – араби! [8]8
Араби – ей-богу, честное слово.
[Закрыть] – и, подняв на мгновение руку, Батырбек бесстыдно улыбнулся, – ничего не знаю я о доблестном Наурузе.
Наступило молчание. Упоминание о паутине кровавой мести – а в ней оказывались косвенно запутаны оба гостя, и Баташев и Байрамуков, – было дерзко и неуместно. Оно означало вызов и нежелание продолжать разговор.
Харун Байрамуков и Кемал Баташев сели на коней и по дороге долго отрекались: Кемал – от Верхних Баташевых, проклиная память брата своего Хусейна, который свел у Кемала коня, едва ли не с помощью озорного Батырбека; Харун с такой же готовностью клял Аубекира и всех прочих Байрамуковых – ведь от них Харун видел столько всяческих издевательств.
Однако хотя Кемал и ругал родню свою, но родня есть родня… Прошло еще несколько дней – и оказал он великую честь родному дому: повел Харуна Байрамукова в гости к Верхним Баташевым.
Там также приняли их почетно. И снова они завели речь о Наурузе.
– Если бы дерзкий Науруз свою дерзость откинул и на царскую службу пошел, ему чин младшего урядника сразу пожаловали бы: два лычка на погон, – сказал Кемал.
Заструил свою речь маленький Харун Байрамуков. Хотел бы он повидаться с доблестным Наурузом, и спасибо сказал бы он Верхним Баташевым, если бы под их дружественным кровом произошла эта встреча. Но в ответ – только щедрее и настойчивее угощали хозяева гостя. Недаром строгими на язык считались Верхние Баташевы.
Незадолго до приезда Кемала и Харуна Науруз как-то под вечер посетил Верхних Баташевых, но они об этом словом не обмолвились. Нафисат во время посещения Харуна Байрамукова была дома, потому что нагорные пастбища в этом году позднее обычного освобождались от снега и скот наверх еще не перегоняли. Но, поняв по речам Харуна, что Наурузу грозит опасность, Нафисат, не дожидаясь, пока перегонят скот, перешла жить на пастбище, чтобы предупредить об этом Науруза.
Кемал, видя, что сестра исчезла, понял ее намерения и тут же отправился в Арабынь с целью донести приставу Пятницкому о том, что есть возможность поймать Науруза на пастбищах.
Часть вторая
Глава первая1
Брат и сестра Гедеминовы время от времени по уговору встречались в одном из маленьких кафе на Невском, чтобы полакомиться пирожками, которыми славилось это кафе.
На этот раз Кокоша пришел в кафе не в духе и капризно говорил кельнерше, что качество пирожков ухудшилось.
– И что это за начинка у вас! В рисе какая-то затхлость появилась…
– Ешь с капустой и не кричи так, а то на соседних столиках смеются, – с досадой сказала Люда.
Она ела пирожки и просматривала журнал «Солнце России». На страницах его были воспроизведены батальные, лихо-размашистые произведения кисти Сварога.
Кокоша замолчал и с обиженным видом взялся за пироги с капустой. Они, очевидно, удовлетворили его, потому что блестящий никелированный поднос, на котором поданы были пирожки, мгновенно опустел.
– Ну, ублаготворился? – насмешливо-ласково спросила сестра. – Доволен?
– Пирожками отчасти. А тобой совсем недоволен.
Люда пожала плечами.
– Твоя любимая Оленька думала, что война похожа на эти вот картинки, – и Кокоша пренебрежительно щелкнул по меловым, изрядно потрепанным страницам журнала. – А что она пишет с фронта? Война – это окопы с грязью по горло, грязью с кровью пополам… Но она умалчивает о вшах, бррр! Ты представляешь, вот такие. – И он выразительно показал, округлив пальцы.
– Оля – благородная девушка, и то чувство, которое ее толкнуло на курсы сестер милосердия…
– Оля твоя одержима патриотическим психозом. Немцы – вандалы и так далее. Все это пошло. Для нас немецкий народ воплощен только в одном человеке – Карле Либкнехте.
– Вполне с тобой согласна, – ответила Люда.
– А если так, то с чего ты рвешься на фронт? Да если еще хотя бы во фронтовой госпиталь… а то – чума. Мало мы за тебя переволновались прошлым летом!
Люда ничего не ответила.
– Подвига захотелось? – раздраженно спросил Кокоша. – Так ты лучше бы кончила медицинский, и, право, после войны всем честным и знающим людям еще столько будет работы в России!..
Люда по-прежнему молчала, ее лицо было неподвижно, это означало, что она категорически не согласна. И Кокоша сказал сердито:
– Уверяю тебя, что тот человек, гибель которого ты так оплакивала, в нашем споре стал бы на мою сторону.
– Оставь, Коля, не будем об этом, – тихо сказала Люда.
Кокоша с досадой пробурчал что-то и замолк. Полгода тому назад он сам по настоятельной просьбе Люды, встревоженной тем, что Константин, как это у них было условлено, не приехал осенью в Петербург, навел справки в Красном Кресте, где у него было знакомство. Через две недели ему сообщили, что разыскиваемый им Константин Викторович Голиков, уроженец Пермской губернии, двадцати девяти лет, холостой, умер после тяжелого ранения в госпитале Красного Креста в городе Минске. Сообщалось также, что был он в чине подпрапорщика саперных войск, и о том, что в канцелярии госпиталя сохранились некоторые его документы, в частности аттестат об окончании землемерного училища. По требованию родных аттестат этот может быть выслан. Таким образом, непонятное исчезновение Константина нашло исчерпывающее объяснение.
Но Люда не хотела принимать этого объяснения. Она написала письмо в госпиталь, в Минск. Ответ пришел очень быстро. Писала та фельдшерица, на руках которой умер Голиков. По ее описанию, это был темно-русый, крепкого сложения человек. Рана у него была в живот. Положение с самого начала безнадежное. Смерть мучительная. Теряя сознание, в бреду, он звал какую-то Лиду или Лизу. «Люду звал он», – убежденно сказала Людмила. И Кокоша при всем желании утешить сестру не мог с ней не согласиться.
К этому времени Баженов получил предложение сформировать санитарный отряд для предупреждения чумной эпидемии и борьбы с ней. Страшная эта опасность стала угрожать русским войскам, когда они вступили в Северную Персию. И Люда с охотой вошла в этот отряд.
– Ты только не считай, Кокоша, что тут все дело в Косте, – сказала вдруг Людмила. – Конечно, я не врач-эпидемиолог, но все-таки это стало моей специальностью, сам знаешь, довольно редкой. Совесть не позволяет, зная, что можешь быть полезен, сидеть в тылу и жрать пирожки.
– О, насчет пирожков – это уже в мой огород! Но если ты унаследовала геройское сердце отца, то я, по тем же таинственным законам биологии, унаследовал болезненное сердце матери. Или ты не знаешь, что у меня отсрочка по болезни?
Люда покачала головой и пристально взглянула на брата.
– Ну конечно, дело тут не в отсрочке, – согласился Кокоша. – Дело в моих взглядах. Мы только раз живем на земле; жизнь – величайшее из благодеяний природы, и я не вижу причины, едва присев к столу жизни, даже толком не полакомившись закусками, вылететь из-за этого чудесного стола в какую-то неизвестную черную бездну, даже не ощущая при этом, как распадается мое единственное драгоценное тело.
– Ну и сиди за этим столом, пока тебя не выволокут обожравшегося и пьяного.
– А что же, и досижу! И, может, еще второй раз сладенькое на добавочку выдадут, – сказал Кокоша, и Люда весело расхохоталась, чего с ней не было давно. Ей сразу вспомнилось, как в детстве брат всегда умел выклянчить «добавочку» – вторую порцию сладкого в конце обеда.
– Ну и бог с тобой, разве я тебе зла желаю, Кокоша! Живи, как тебе живется, я каждому лишнему дню твоей жизни радоваться буду. Ну, а ты предоставь мне жить, как я живу. С меня получите! – сказала она официантке.
– Значит, ты меня считаешь всего лишь себялюбцем и обжорой, – говорил Кокоша, когда они вышли на шумно грохочущий Невский. Зеркальные витрины и влажные торцы, казалось, были окрашены беспокойно колеблющейся жидкостью, кровавой и золотой, Это солнце милостиво показало свой лик в янтарно-прозрачной полосе закатного неба, опоясавшей всю западную половину горизонта над крышами, трубами и дымами, выходившими из труб.
– Да если бы я мог, я на весь мир крикнул бы: «Люди, зачем это?! Оглянитесь кругом, люди, – прекрасна земля! Остановите братоубийство, люди!» Но голос мой слаб, и все, что я могу сделать, это уговаривать свою единственную сестру. И неужели ты не понимаешь, что только из любви к тебе я, вместо того чтобы найти этим чудесным часам какое-нибудь заманчивое употребление, растолковываю тебе твои же интересы?..
Люда ничего не отвечала, но спокойно-упрямое выражение не покидало ее лица…
Завтра она снова с Баженовым, Риммой Григорьевной и даже все с тем же надоедливым Леуном отправится в Баку, и снова ее ждет там все та же серьезная и опасная задача: борьба с чумой.
Но то, что в прошлую поездку ожидало ее в Баку и чего она, когда ехала туда, не знала, теперь превратилось в воспоминание, ушло в невозвратное прошлое.
И именно потому-то она с таким волнением думала сейчас о Баку. Еще раз воскресить в своей памяти этот необычайный день счастья – особенно когда они шли, взявшись под руку, и белые листовки медленно реяли в небе, как бы с неохотой опускаясь на землю. Или это было позже… Да, позже, когда она привела Константина в свою беленькую комнату и Аскер все чего-то требовал, о чем-то спрашивал, а отвечать ему не хотелось; только бы, держа горячую, крепкую руку Константина, смотреть, не отводя глаз, в его смелое и правдивое лицо, в преданные ей, умоляющие глаза.
Сегодня толпа шла по Невскому как-то особенно густо. Люде женский смех казался лихорадочно-взвинченным, а мужской – грубым и животным. Она равнодушным, холодным взглядом отталкивала от себя взгляды мужчин, в большинстве своем военных, проходивших мимо. Она знала, какого рода чувства вызывает ее цветущее, румяное лицо. Кокоша не подозревал, что его слова о празднике жизни в душе сестры невольно находят сопоставление с этими грубыми, как бы пожирающими ее взглядами, – и то и другое звучало для Люды одинаково оскорбительно и вызывало протест. Лихорадочная уличная веселость этих окрашенных багрянцем и золотом кратких минут заката казалась ей скудной ложью, ей, с начала войны узнавшей кровавую правду госпиталей.
Был в душе Люды черный угол, в который она запретила себе заглядывать, и печаль, ровная и безнадежная, покрывала всю ее жизнь – и прошлое, и будущее, и настоящее. Но хуже всего это бывало тогда, когда перед ней вдруг въявь вырисовывалась мужественная, благородных очертаний голова. Смелые и добрые глаза глядели из-под бровей, губы шевелились и обращались к ней со словами бодрости и призыва к жизни, – он, утративший жизнь, обращался с этим призывом к ней, к живой.
Прошло несколько дней, и Люда уехала из Петербурга в составе санитарного отряда специального назначения.
2
А между тем Константин был жив, и его не могли найти потому, что искали Голикова, а не Черемухова, действительно находившегося в то время в рядах армии под своей настоящей фамилией.
Сам же Константин дать о себе знать не мог: за ним шла тщательная слежка, и он имел все основания предполагать, что корреспонденция его внимательно изучается, – он не хотел подвергать опасности Люду и семью Гедеминовых.
Когда Константин добрался до своего родного, затерянного в прикамских лесах городка, мобилизация была объявлена, и он, прибыв к себе на родину под своей собственной фамилией, вскоре оказался мобилизованным.
Мать его уже похоронили. Константин сходил на могилу, поросшую яркой свежей травой; белый строганый безыменный крест высился над могилой. И еще раз пришел Константин на кладбище, принес ведерко с краской, кисть и черным по свежему дереву тщательно вывел: «Мария Ивановна Черемухова». «Вот так будет хорошо, – подумал он. – Да и отец вдруг все-таки жив и вернется домой?» Константин не помнил отца, который ушел на заработки. Только два раза прислал он откуда-то деньги – и все. Что с ним произошло? Может, так же как это однажды случилось с самим Константином, он заболел и, одинокий, свалился где-нибудь на перроне, на пристани, на барже, и некому даже было воды подать. А может, в 1904 году погиб на Дальнем Востоке солдатом или в пятом-шестом расстрелян и кровью изошел на булыжной мостовой?..
А может, просто полюбил другую и выгнал из своей памяти тихую и покорную, но никогда не унывавшую жену свою с шестилетним сынком. Забился в глухой угол и ведет спокойную, сытую жизнь. Нет, не хотелось так думать об отце. И даже осуждать не хочется, – Константин вырос в беспросветной, голодной нужде и от матери знал, как нужда эта сглодала первые годы любви его родителей.
Мысли о родителях привели его – не могли не привести – к мыслям о себе и Людмиле.
Да, не легкую долю может он ей предложить! И хуже всего – разлуки, как неожиданные, так и предусмотренные, поездки по партийным поручениям и аресты. Много будет еще горя и тяжелого труда. «Но зато, когда мы будем видеться, вот так, как там, в Баку…» Ему представилась залитая солнечным светом комната, и все время в памяти его плыли белые листки прокламаций, летящие над головами тысяч людей, и тянущиеся к этим трепещущим листкам руки. «Да, будет так! – Он встал и вздохнул полной грудью. – Нет, мы свидимся, мы будем счастливы». Он оглянулся на бедную могилу и, безотчетно встав на колени, прикоснулся губами к земле, еще свежей и рыхлой.
В полицейском участке Константин расписался в протоколе, содержавшем жалкую опись имущества его матери, а также выраженный в ничтожной денежной сумме результат распродажи этого имущества. Здесь была и расписка кладбищенского священника в получении денег. Все сошлось, копеечка в копеечку, хочешь – верь, а хочешь – не верь.
В участке он предъявил паспорт на свое собственное имя, так ловко сфабрикованный в Баку. Это было дерзко, но безошибочно верно. Под собственной фамилией Константина давно уже не искали. Паспорт с целью прописки задержали в околотке и тут же переслали уездному воинскому начальнику. Так с могилы матери Константин попал в казарму.
Константин сразу же уловил некоторые отличия в отношении начальства к прочим мобилизованным и к нему. С ним, не в пример другим, были вежливы. Но когда он попросил увольнительную записку, ему ее не дали. И на следующий день – то же. Он понимал, что это значит, и перестал просить. Да и кого он мог здесь посещать? В первый же день приезда он выяснил, что единственная родня его – двоюродные сестра и брат уехали в Питер. Оказывается, Вера вышла замуж за какого-то приехавшего в командировку питерского механика.
В Питер, все толкало его в Питер.
Так как у Константина сохранилось подлинное удостоверение об окончании двух классов землемерного училища, он стал вольноопределяющимся и оказался в саперном полку в глухом, населенном татарами городке. Всю первую зиму войны он проходил там военную муштровку, которая впоследствии так ему пригодилась. Глухо доходили сюда вести из внешнего мира, особенно о том, о чем так хотелось услышать. Все, что он писал из полка, просматривалось военной цензурой. Он посылал в Питер открытки на известные ему адреса, осторожно сообщал о себе, но ответа не получал. Что делать? Он написал в Краснорецк, отцу Люды, доктору Гедеминову. Сообщил ему номер полевой почты, но из-за застенчивости не упомянул имени Люды – и ответа не получил.
Война между тем шла. Тяжело было Константину, когда он из газет узнавал об измене большинства социалистических лидеров стран Европы, – и верить не хотелось, и приходилось верить. Недоумение сменялось гневом против изменников, и тревога за судьбу великого дела борьбы, за будущее человечества грызла, как недуг. А хуже всего: не с кем было даже душу отвести. Но скоро в газетах появились скупые сведения о том, что большевистская фракция Государственной думы отказалась голосовать за военные кредиты, о том, что в германском рейхстаге Карл Либкнехт выступил против войны. Эти вести позволили распрямиться и гордо взглянуть на мир.








