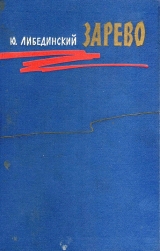
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 57 страниц)
Хаджи-Даут покачал головой и ничего не ответил.
– Сумнительно ты все говоришь, – сказал в раздумье подхорунжий.
Батырбек развел руками.
– Не по обычаю у нас расспрашивать гостя. Гостю – спрашивать, хозяину – отвечать. А они все насчет Краснорецка и насчет Арабыни…
– А что спрашивали? – спросил подхорунжий.
– Спрашивали, куда дорога тверже, – с готовностью ответил Батырбек. – Ну, мы, понятно, сказали, что в Арабынь тверже.
– Сумнительно, – повторил подхорунжий. – А давно уехали?
– Солнце село, они тронулись, а, отец?
И снова Хаджи-Даут ничего не ответил Батырбеку.
– Что ж, есаул сказал, нагонять надо. Э-эх, на всю ночь… Оружие у них есть? – обратился подхорунжий к Батырбеку.
– Кинжалы видел, хорошие кинжалы.
– А пистолеты?
– Что не видал, то не видал. Может, в карманах и есть. Сейчас пистолеты изготовляют с детский кулак.
– Ну, пошли, – со вздохом сказал подхорунжий. – Так что ты, Хаджи-Даут, не обижайся – служба.
Старик ничего не ответил и протянул зятю ключ от калитки.
Батырбек запер калитку, прислушался к тому, как, удаляясь, затихали звуки подков, пока не слились с мерным шумом реки и шепотом дождя. Потом подошел к крыльцу, где по-прежнему неподвижно сидел старик, и сказал:
– Ну, теперь ловить их будут до желтых седин. Науруз все тропы знает, пойдут они по тому берегу реки, через Байрамуковы пастбища, заночуют у моего отца.
Хаджи-Даут прохрипел что-то, и Батырбеку показалось, что это было проклятие.
– Ты сердишься, отец? – спросил Батырбек, заглядывая старику в лицо.
– А что же? Или мне радоваться на твои дела? – угрюмо переспросил Хаджи-Даут. – Когда ты еще неженатый был и, мне ничего не сказав, прятал ворованных коней у меня в конюшне, я сердился на тебя? Нет, я не сердился, потому что сам молод был и знаю: это дело молодецкое… А если ты, не сказавши мне, будешь таких гостей ко мне водить…
– Постой, отец, – прервал его Батырбек. – Значит, я не могу сюда гостей своих водить?
Ему вспомнился сегодняшний разговор с Наурузом, и он вдруг понял, что Науруз все время разговаривал с ним как взрослый брат с младшим, резвым братишкой. И эта улыбка Науруза, когда Батырбек похвалился, что в доме тестя он может делать что хочет…
– Не будешь ты таких гостей ко мне водить, слышишь?! – угрожающе сказал Хаджи-Даут. – Не друзья они нашему дому, а враги… И если бы не дочь, я бы их отдал казакам.
– Гостей? – с негодованием переспросил Батырбек. – Моих гостей?
– Если к тебе в гости змея приползет, голову ей сотри, – сказал Хаджи-Даут ворчливо, но, видимо, успокаиваясь. – Поспать нужно до света, – сказал он, зевая и поднимаясь с места. – Ты запомни, что я тебе сказал! – И старик ушел.
– Я запомню! – пробормотал Батырбек. – На всю жизнь запомню… Видишь, как? Я гостей к себе звать не волен… А если моего брата Талиба из тюрьмы выпустят, что ж, я его тоже принять у себя не волен?
Батырбек выругался и сел на то место на крыльце, с которого встал Даут. Он чувствовал, что в эту минуту случилось что-то очень для него важное. «Недаром старые люди учат, что не место зятю в доме тестя, – подумал он. – Вот как соберемся с утра да уедем к отцу в аул Веселый, ты здесь и сиди один», – мысленно обратился он к тестю. Но тут же подумал, что угроза эта пустая, не станет Балажан жить в доме на положении младшей снохи.
Батырбеку показалось вдруг, что сквозь докучный шепот дождя и однообразно бурный гул реки донеслись звонкие удары подков по камню. Он прислушался и понял, что это обман слуха. Знал он, что за это время далеко уже успели уехать его сегодняшние гости, и все же прислушивался…
Вольной и таинственной показалась Батырбеку сейчас жизнь, которой жили Науруз и его друзья.
Глава вторая1
Второй Гребенской казачий полк, оставленный в прошлом году после усмирения восстания в Веселоречье «для выявления подозрительных элементов и для несения патрульной службы», был весной 1914 года передвинут вдруг в город Елисаветполь, где казаки, готовясь к высочайшему смотру, предстоящему летом, совершенствовались в джигитовке, а офицеры наслаждались местными винами высокого качества и оживляли своим присутствием балы и танцевальные вечера города хотя и губернского, но довольно глухого. Здесь по кавказской традиции любили военных и хорошо принимали их. Потому внезапный приказ о спешной погрузке двух сотен полка по вагонам офицеры встретили с неудовольствием, а казаки – с тревогой; подозревали, что снова их предназначают для несения карательной службы, которая год от году становилась все менее популярной у казачества. И худшие их предположения как будто подтверждались – их везли в сторону Баку…
Чем дальше на восток от Гянджи шел поезд, тем скуднее становилась растительность. Пологие холмы раскинулись по обе стороны дороги, земля играла всеми красками палитры, но не радовала глаз эта мертвая минеральная пестрота. Река Кура, долго сопровождавшая поезд, скользнула вдруг под грохочущий мост и унесла на юг свои собранные со всего Закавказья плодоносные воды. Началась настоящая пустыня: неподвижные волны желтого песка расстилались до самых предгорий, а по ним шли верблюды рядом с железной дорогой и огромной черной трубой, по которой из Баку в Батум струился керосин. А вот и Каспий – он встретил казаков рычанием своих огромных синих валов.
Было холодно, мглисто, и, когда казаки поспешно выгружались на одной из каменных безлюдных платформ товарной станции Баку, газовые фонари светили в тумане красноватым светом. Совсем близко гудел, разноязычно кричал многотысячный город, в его могучем многоголосье слышалось что-то угрожающее, и жестоким холодом схватывало сердца казаков. Каждый отгонял прочь тревожные раздумья, тайные дерзкие мысли – люди превращались в дрессированную стаю. Узкою лентой, по три всадника в ряду, проезжали казаки, видя в тумане лишь огни фонарей. Порою из тьмы вдруг выступала то ярко освещенная витрина магазина, то вспышка пламени в жаровне. «Казаки! Казаки!» – шептали, выкрикивали вокруг на разных языках, и казаки знали, что эти люди ничего хорошего от них не ждут. А огней становилось все меньше, и вместе с темнотой наступала тишина – словно шум издавали огни. Клочья тумана наносило откуда-то сбоку. Из тумана вдруг поднимались черные строения, дальние и ближние, – вышки, промыслы… Запах нефти щекотал ноздри. «Вот оно, вот…» – думали молодые казаки. Им еще не приходилось иметь дело с усмирением городских бунтов. Но от старших своих они слыхали о соединенной силе городских рабочих, о камнях и кусках железа, летящих в голову, о том, как упряма масса людей, ожесточенных до полного бесстрашия и не расступающихся перед конями; и о том, как с той стороны кричат: «Братцы, мы боремся за нашу и вашу долю!» – русские, родные голоса кричат. Кажется, сестра твоя вскрикнула из-под копыт коня, а ты уже проскочил и направо, налево опустил нагайку. И вот уже на плацу начальство навешивает тебе медаль и хвалит: «Молодцы станичники, крепко держите присягу!»
Но нет, все спокойно, промыслы миновали, они остались позади и сбоку.
Было сыро, все потонуло во мгле, маленький круг луны светил с недосягаемой высоты, и вид его был печален. Клочья туч пронеслись мимо луны и исчезли… Звук подков говорил о том, что почва камениста. Издалека приносило запах нефти, но настолько слабый, что казалось, это был природный запах пустыни. Далеко справа все время тускло мерцали огни, они поднимались и опускались – то тянулись промыслы…
Но вот запахло травами, цветами, лошади зафыркали, и с той стороны, где раньше были огни, повеяло соленой свежестью моря и послышались мерные и грузные удары прибоя. Лай собак, приятный дымок, щекочущий ноздри, – все говорило о близости жилья. Впереди что-то зачернело. Казаков остановили, спешили, разрешили покурить. Потом командиры сотен собрали своих офицеров и унтер-офицеров.
Расположились по-походному на камнях, и незнакомый жандармский офицер, крупный и тучный, в светло-голубой шинели, разостлав карту, показал то место, которого они сейчас достигли, – деревня Тюркенд на берегу моря, в тридцати верстах от Баку и в девятнадцати от ближайших промыслов – от Сураханов. В деревне Тюркенд – чума. Казачьи сотни пригнаны для усиления карантинной службы, им предстоит патрулировать по ночам вокруг деревни. Службу начать немедленно, с момента прибытия…
Жандармский офицер кончил говорить и прикурил у соседа. Красноватый огонь осветил кончик жандармского носа, блестящие от фиксатуара черные усы…
– А казакам можно рассказать, ваше благородие? – спросил вдруг кто-то.
– Не только можно, – назидательно пояснил жандармский офицер, – но вменено в обязанность.
И казаки, узнав о цели своего прибытия, сразу повеселели: «Пусть чума, только бы людей в каталажку не водить». А Филипп Булавин, тот самый младший урядник, что задал вопрос жандармскому офицеру, только помалкивал. Уроженец станицы Сторожевой, едва ли не самой близкой к веселореченским аулам, он вполне разделял общее настроение казаков, хотя это у него внешне ни в чем не выражалось. Он вообще был молчалив и замкнут, этот невысокого роста, крепкого сложения русый казак, у которого едва стали отрастать рыжие усики. Наружность самая обычная, но по всему видно, что службист и аккуратист. Вся амуниция блестит. Все в нем соответствует общему впечатлению слаженности и солдатской обезличенности. Но стоило ему поднять на собеседника свои небольшие, четко обозначенные синие глаза, и сразу его юношеское, почти мальчишеское лицо становилось старше, значительнее.
– На этого молодца можно положиться, – говорил командир сотни подъесаул Дунаев.
Не дожидаясь производства Булавина в старшие урядники, Дунаев назначил его вахмистром и не мог им нахвалиться. Вообще все начальство, не только в сотне, но и в полку, считало Булавина одним из самых надежных людей. И никто не знал, что два года назад Булавин во время облавы на известного бунтовщика Науруза Керимова, встретившись с ним в лесу с глазу на глаз, выпустил из круга облавы этого опасного человека и даже подарил ему свой кисет. И никак иначе не мог поступить Филипп Булавин, потому что была у него до этого еще одна встреча с Наурузом Керимовым, но об этой первой встрече не любил Филипп вспоминать. С той встречи стали они кунаками. С тех пор душевная жизнь Филиппа приобрела глубокий и скрытный характер; именно это и выражалось в замкнутости его лица, в особенном – прямом и неуступчивом – взгляде. И когда он узнал о том, что казачьи сотни пригнаны сюда для карантинной службы, наверно никто из казаков не почувствовал такого облегчения, какое испытал Филипп.
Булавин, не очень доверяя плутоватому каптенармусу, сам проследил за отпуском продуктов на завтра. Потом вместе с дежурным, командиром взвода, прошел по всему лагерю. В палатках слышно было громкое дыхание, храп, все казаки давно уже спали, а Филипп все ходил между палатками и проверял, крепко ли вбиты колышки в землю, – Дунаев сказал ему, что Баку славится свирепыми ветрами. Когда он начал эту проверку, колышки приходилось нащупывать, шаря рукой в темноте, а когда кончал, он видел каждый колышек. Рассветало, туман разнесло, и на краю земли полосой обозначилось море, темно-синее, неприютное. Булавин взглянул на часы; было уже около шести, а он условился разбудить командира ровно в пять. Пока Дунаев, высокий, чернявый, потягивался, зевал, скреб длинными ногтями щеки, покрытые синей, отросшей за ночь щетиной, зевая, натягивал сапоги и пил горячий чай, принесенный денщиком, Булавин докладывал. Тихо ответив «рад стараться» на похвалу Дунаева и получив разрешение лечь спать, он пошел к себе в палатку, где вместе с ним помещался молодой казак из сторожевских Николай Черкашинин, приходившийся ему родней. Филипп заснул мгновенно, но сон был неспокоен. Представлялось, что его перед всем строем полка, посреди широкого плаца, «разносит» какое-то чужое высокое начальство. Он вскочил, озираясь… Нет, он был в своей палатке и совсем один. Веселые солнечные зайчики пробивались сквозь зеленые, шатром сходящиеся вверху полотнища. На самодельном, из ящиков сколоченном, столике, покрытом домашним рушником, вышитым красной решеточкой, стоял котелок. У самого изголовья Филипп обнаружил свою деревянную, привезенную из дому чапурку – вмещала она больше стакана и почти с краями налита была красным, вкусно пахнущим вином. Начальство со вчерашнего дня, очевидно в целях профилактики, ввело выдачу вина казакам, несущим карантинную службу. Конечно, это Коля Черкашинин позаботился о нем.
В палатке пахло какой-то аптекарской дрянью – ее назначение было отводить от палаток паразитов, и прежде всего блох, которые могли прискакать из зачумленной деревни. Все вокруг – как и всегда – обыденное, дневное, и только крик, приснившийся Булавину, продолжал звучать наяву. Слышались и другие голоса, хотя и громкие, но человеческие, мягкие. А в повелительном крике, разбудившем Филиппа, было что-то металлическое, жестяное.
Филипп вышел из палатки. В той стороне, где была зачумленная деревня, по-прежнему таинственно тихо. Только под весенним солнцем особенно нарядны белые и розовые цветущие сады и над невидимой из-за садов деревней кое-где появлялся дымок, который тут же уносило ветром в сторону моря. Туда же неслись облачка. Вдруг Филипп вздрогнул: начальственный голос вновь с пронзительной силой раздался в тишине утра… Филипп повернул голову.
Совсем неподалеку на большом вороном коне гарцевал плотный коротышка в офицерской синей шинели. Опытный глаз Филиппа сразу приметил неправильность в посадке; совсем не требовалось держать коня на таком коротком поводу, разрывать ему удилами рот и задирать голову, отчего конь, с оскаленными зубами и налитыми кровью глазами, пританцовывал на месте… Коротышка командовал, размахивая английским стеком, который он сжимал рукой в белой перчатке. Погоны у него были полковничьи. На побагровевшем лице выделялись только слепо поблескивающие стеклышки пенсне. Разинутый орущий рот… «Кого это он гоняет?» – подумал Филипп и, оглянувшись, остолбенел. Издали, со стороны голых пологих холмов, уже наскучивших Филиппу за время, пока их везли в Баку, шла, взметывая щебень, казачья сотня. Казаки лавой неслись прямо на палатки, на деревню. Филипп уже узнавал коней, угадывал «знакомых казаков… Полковник-коротышка провизжал команду, и сотня разбилась, как на учении. Обозначились взводы, отделения. Все удлиняясь и превращаясь из черного клубка в движущуюся цепочку, сотня охватила деревню. «Никак оцепление? Так мы же его вчера провели и без всякого этого парада», – недоумевал Филипп.
– Здорово? А, дядя Филипп? – спросил Коля Черкашинин. Высокий, гибкий, он мягким, неслышным шагом подошел к Филиппу. На его чернобровом лице еще удерживалась ребячья округлость, темный пушок оттенял рот. – Если бы не дневальство, так тоже попал бы в потеху, – рассказывал он с улыбкой.
– А чего это такое? – спросил Филипп.
Коля многозначительно кивнул и указал глазами, и Филипп увидел вдалеке странную треногую машину – она сверкала одним круглым стеклом, словно глазом. Несколько человек суетились возле нее, казак крутил на машине ручку – так быстро крутил, что полы его черкески разлетались в стороны. Слышен был сухой стрекот, и кто-то оттуда махал рукой полковнику-коротышке.
– Непонятное какое-то дело, – недоумевая, сказал Филипп.
– Кина будет, – важно ответил Коля, – театр то есть. Только не такой, что актеры представляют, а электричеством на мокрой холщовине. На ярмарке в Арабыни было такое представление. Меня тятенька с собой брали. Хата без окон, свет гасят, потом на мокрый холст фонарем светят – вроде белое окошко. И всякие там чудеса наводят. Распрекраснейший розан, большой такой розан – и вот он раскрывается, и враз из самой середки оттуда выходит барышня, ну вот, скажи, пчелка или того меньше. И, гляди, как танцует, бойко танцует, и ножки тоненькие, махонькие. Танцует, танцует, а потом у нее из-за спины крылышки, вроде как у бабочки, и враз летит обратно в свой розан, ну, скажи, пчелка…..
Пока они говорили, окрестности приняли прежний вид, казаки разъехались, и вновь возобновилось их мерное движение вокруг деревни. Но полковник-коротышка все не успокаивался. Он собрал вокруг себя казачье начальство и еще каких-то приезжих офицеров, среди которых особенно резко выделялись голубые шинели жандармов. Белели халаты врачей. С важным лицом коротышка показывал что-то на карте. И все это происходило под круглым глазом машины, наведенным прямо на них, – на палец, ползущий по карте, на сизо-красное лицо с блестящими стеклышками.
Теперь Филипп уже знал от Коли, что полковник-коротышка – это бакинский градоначальник Мартынов. Он прибыл сюда примерно с час назад, и с ним – несколько пролеток с врачами и санитарами, дезинфекционный отряд. Мартынов также привез и кинематографщиков с их треногой машиной. Врачи и санитары ушли в деревню, дезинфекционный отряд расставил палатки.
– Полковник приказал подъесаулу Дунаеву снять все дозоры и наново их поставить, да еще с налета, – рассказывал Коля. – Тут уж наш Дунаев чего-то дерзко сказал, вроде что нас не для игры сюда прислали, а для службы, ну тот на него завизжал: «Сдавайте командование – и марш на гауптвахту! Я вам покажу игру!» Как против старшего пойдешь? Наш, конечно, откозырял, но злой стоит, гляди, губу теребит.
– Поиграли, значит, – сказал Филипп, тоже пощипывая свои усики.
Но в это время произошло событие, сразу отвлекшее казаков от их разговора. Со стороны садов, скрывавших деревню, вышел полицейский. Он вел маленькую старушку в темной длинной, волочащейся по земле одежде. Она шла впереди и все оборачивала к полицейскому лицо, скрытое густою кружевной занавесью. Порою она пыталась что-то объяснить, подымала занавесь, и тогда становилось видно ее залитое слезами морщинистое и раскрасневшееся лицо. Но полицейский однообразно-скучливо указывал ей вперед – на кучку начальства, туда, куда вел ее.
И вот, откозыряв, довел – представил начальству. Булавин и Черкашинин подошли ближе. Старуха, всхлипывая, объясняла, показывая куда-то в сторону, потом на деревню, но того, что она говорила, никто из начальства не понимал. На некоторых лицах было смущение и сочувствие, другие недоумевали, но большинство относилось к старухе с безразличием и скукой. Из всех присутствующих только Филипп кое-что понимал в ее речи.
Четыре зимы подряд угонял он станичные табуны на «черные земли», где даже зимой продолжала зеленеть трава под влажным, быстро стаивающим, хотя порою и обильным снегом. Проклятое время, когда спать приходилось в шалашах, еле защищающих от ливня и снега, и по три месяца не бывать в бане! Из-за этих зимовок пришлось Филиппу отказаться от мечты своей продолжать образование после станичного двухклассного училища, которое он окончил с похвальным, золотом обрамленным листом и книжкой, тоже тисненной золотом, сочинений Жуковского. На этих-то зимовьях Филипп и научился немного азербайджанскому языку, – некоторые азербайджанские селения тоже выгоняли свой скот на черные земли. Да и как не научиться! Случалось вместе во время буранов и ненастных ночей спать обнявшись, чтобы хоть немного согреть друг друга… И хотя старуха говорила быстро и многих слов Филипп не мог сначала разобрать, но она твердила все об одном и том же, и Филипп стал уже понимать, о чем она говорит. В Тюркенде она, оказывается, пришлая, навестила сестру и возвращалась к себе, не то в Чихлы, не то Чихирлы, здесь неподалеку; ей туда непременно нужно сегодня попасть, потому что сыновья работают на промыслах в Баку. Они вернутся домой, а покормить их будет некому.
Когда Филипп разобрал, в чем дело, он шагнул к своему командиру, подъесаулу Дунаеву, и, приложив руку к козырьку, громко попросил разрешения перевести на русский то, что говорит старуха. Дунаев хмуро кивнул, и Булавин в струнку вытянулся перед градоначальником. Приложив руку к шапке и поедая его глазами, Филипп прохрипел:
– Разрешите доложить, ваше превосходительство, старуха эта просится домой.
– Отставить! – завизжал вдруг градоначальник. – Никаких объяснений не требуется. Есть приказ из карантина не выпускать… Кругом м-марш! – скомандовал он, и эта команда повернула Булавина так, точно он был заводной.
Но старуха, конечно, ничего не поняла. Растопырив руки, чуть раскрыв рот и даже забыв покрыть лицо, смотрела она в круглый рот начальника, откуда затем вылетало нечто вроде «о-о-и-и-и-о-и».
Зато полицейский понял все. Механическим, выработанным жестом он повернул старуху за плечи, толкнул вперед, и они – марш-марш – исчезли среди тех же зарослей, из-за которых появились.
– А ты – эй, как тебя? – младший урядник!
Поглощенный всем этим горестным зрелищем, Филипп не сразу отнес к себе слова градоначальника и, только когда был назван его чин, вздрогнул, вытянулся и почувствовал на себе отливающие серебряным блеском стеклышки пенсне градоначальника.
– Владеешь татарским? Так, это мне подходит. На сегодняшний день прикомандировываешься ко мне… Господин сотник, – обратился он к Дунаеву, – оформите.
Филипп обернулся к своему командиру пояснить, что языком владеет он слабо, но тот зажмурился, отрицательно покачал головой, и Филипп понял, что никто помочь ему не в силах. Так на весь этот день попал Булавин в свиту градоначальника, заменив официального переводчика, молодого бека Шихлинского, который, узнав о том, что предполагается поездка в чумной район, перепугался и тут же подал рапорт о болезни. В результате полковник Мартынов вынужден был выехать в зачумленную деревню без переводчика.
И все время, пока градоначальник находился в Тюркенде – а это продолжалось почти до трех часов пополудни, – Филипп Булавин «состоял при нем». Нельзя сказать, чтобы Мартынову часто приходилось прибегать к помощи своего нового переводчика. Да и тогда, когда Филипп заговаривал с крестьянами, они удивленно следили за движениями его губ, а дети и женщины даже смеялись, очевидно предполагая, что он нарочно искажает их родной язык, так как произношение у него, очевидно, было неверное. Но зато Филипп понимал все, что говорили крестьяне. Он понимал, о чем просит слабый от старости старик, обитатель глинобитной хижины на краю деревни, у которого дней пять тому назад побывал кто-то из зачумленной семьи Сафи оглы. Старик просил не выселять его из-под родного крова, а если ему суждено заболеть чумой, пусть его убьют. Он даже не собирался сопротивляться болезни: пожил достаточно, все сыновья женились, дочка вышла замуж, и он хочет умереть здесь, под родной крышей.
И так же, как в случае с женщиной, Филипп понимал не только слова, но и самые побуждения старика. Доведись до него, так он сам тоже отказался бы уйти умирать в чужой дом, в изолятор, и предпочел бы лежать в своем доме. Но Мартынов, выкатив глаза, орал и театрально указывал на старика рукой в белой перчатке. Кинематографщики крутили свою машину, и ее любопытствующий круглый глаз озирал все происходящее.
Санитары в белых балахонах и белых капюшонах схватили старика под руки.
– О алла! Ты взираешь равно на правых и виноватых. Рассуди, за что мне такой конец? За что отдан я на расправу этим белым шайтанам? И хотя бы одно родное лицо увидеть перед смертным часом! – плакал старик, волоча ноги и еле поспевая за «белыми шайтанами». Мутные слезы бежали по его старому лицу, испещренному благородными морщинами.
– Дозвольте доложить, ваше высокоблагородие, старик просит свидеться с родными. Пусть бы они его уговорили, – сказал Филипп Мартынову, но тот даже не оглянулся. Судьба старика была решена, он подлежал переселению в изолятор, и Мартынов уже садился на лошадь, чтобы галопом проехать на другой конец села, где шли дезинфекционные работы.
На его сизом лице, поблескивающем стеклышками пенсне, проступило блаженное выражение, какое бывает у детей, когда они целиком отдаются игре. Он скакал вдоль глиняных тынов, из-за которых сыпались белые лепестки, мимо низеньких, восточной стройки, жилищ, почти без окон, с плоскими крышами, мимо странных хижин с куполообразными сводами. За ним скакала целая кавалькада, а позади грохотала пролетка и на ней – кинематографщики, держа почти на весу свою неуклюжую машину. Филипп тоже скакал в свите градоначальника, и злобная, недоуменная тоска все сильнее бередила его душу. Он видел, как из-за заборов на них смотрят бледные, испуганные лица, глаза, взывающие о помощи и пощаде. Он видел самоотверженных людей, в большинстве своем русских людей. Они за два дня до приезда Мартынова бесстрашно пришли сюда, в это смертоносное гнездилище чумы, вошли в зачумленные жилища, стали ухаживать за больными и растолковывать встретившему, их недоверчиво населению правила гигиены, изоляции… А как трудно было спорить с муллой, который и сейчас продолжал упорствовать и утверждать, что болезнь пришла оттого, что люди поели мяса овцы, укушенной змеей! Доктор Нестерович, в белом халате, хилый, невысокий человек с темно-русыми, напущенными на рот усами, бесстрашно взглядывая из-под густых бровей своими острыми глазками, просил градоначальника принять меры против муллы. Филипп сочувствовал врачу, тем более что мулла со своей крашеной бородой, злым и противным лицом ему сразу не понравился. Но Мартынов как будто и не слышал, что говорил ему почтенный русский человек, и все косился на чертову жужжащую машину, которую вертели кинематографщики, снимавшие «разговор господина градоначальника с доктором Нестеровичем».
На эту тихую азербайджанскую деревню опрокинулась страшная беда, и русские люди пришли на помощь здешним людям для борьбы с грозным врагом человечества – с заразой, готовой обрушить бедствие на весь громадный город.
Нравственное чувство Филиппа Булавина было возмущено тем, что Мартынов, градоначальник, устроил здесь какую-то недостойную игру. Филипп считал себя, так же как и всех казаков, слугой государства – царя и отечества, – потому он и служил с таким рвением. Эта служба могла быть тяжела, могла быть даже, как говорили казаки, «укоризненна», но в этой службе он видел свою честь. И сейчас это чувство чести было у него жестоко оскорблено: ведь градоначальник – представитель верховной власти государства, воплощение воли самого царя.
2
Когда Мартынову сообщили о чуме, угрожавшей огромному городу, он почувствовал, как это ни противоречит представлению о человеческих переживаниях, радость, так как все последнее время у него было ощущение, что лично над ним нависла опасность куда грознее чумы. Эта опасность обозначилась со времени первомайских забастовок нынешнего года, дружно и слаженно прокатившихся не только по крупным, но и мелким предприятиям Баку. Эти забастовки предвещали, в чем Мартынов был уверен, события более серьезные.
Департамент полиции в циркуляре от 22 сентября 1913 года, разосланном всем губернаторам и градоначальникам за подписями Н. Маклакова и С. Белецкого, предупреждал, что «празднование рабочими Первого мая, как известно Вашему Превосходительству, не имея никаких оснований в бытовых или церковных началах русской жизни, позаимствовано от рабочих организаций западноевропейских государств и служит для социал-демократической рабочей партии средством для внедрения в рабочей массе партийной дисциплины и периодических смотров наличных сил, послушных вожакам партии».
Рассуждать о том, имеет или не имеет Первое мая «основание в церковных и бытовых началах русской жизни», Мартынов всецело предоставлял высшему начальству, склонному к умозрительным упражнениям. А вот насчет «периодических смотров наличных сил, послушных вожакам партии», как выражался департамент полиции, – не возразишь! И когда с девятого мая со всех промыслов одновременно стали поступать сообщения агентов охранки о том, что этим летом намечено пронести забастовку в промысловых районах, Мартынов не был удивлен. Самая одновременность этих сведений яснее ясного говорила ему, что руководящий большевистский центр в Баку готовится к большому сражению. Да, это была война, и в ней не могло быть ни мира, ни перемирия, а лишь временное затишье, используемое для действий разведчиков и для подготовки будущих схваток.
Рабочие действовали осторожно. Агенты охранки с разных промыслов сообщали, что на 13 мая назначено собрание уполномоченных, но, по-видимому, лица, подготовлявшие забастовку, по каким-то симптомам заподозрили, что время и место стало известно охранке, и отменили его. Через некоторое время охранка сообщила, что отмененное собрание назначено на 10 часов вечера 20 мая, но узнать точно место, где оно должно произойти, провокаторы не смогли. Известно было лишь, что оно должно состояться где-то по Раманинскому шоссе, в расположении промыслов Ротшильда и «Руно». Отличавшийся своей распорядительностью ротмистр Келлер получил приказание – во главе отряда конной полиции нагрянуть на эти промыслы. Но при всей внезапности налета вечером 20 мая захватить никого не удалось. Только на следующий день выяснилось, что собрание уполномоченных состоялось по тому же шоссе, но «в трех-четырех верстах от места, находившегося под наблюдением полиции. Собравшиеся в десять часов вечера получили точные сведения о том, что ротмистр Келлер оцепил промыслы «Руно» и Ротшильда, и это сообщение было встречено смехом. Собрание продлилось до одиннадцати часов вечера.
Мартынов имел сведения о собраниях по выборам уполномоченных. Но ему долгое время не удавалось выяснить ни одной, хотя бы мало-мальски крупной группы, подготовлявшей забастовку. О месте явки уполномоченных знало не больше двух членов забастовочного комитета, с которыми имел дело только технический организатор, назначавший время и место этой явки. Уполномоченные, выбранные рабочими, знали каждый свое условное место, куда следовало явиться за час до собрания, и лишь оттуда их вели на место собрания. А в это время на всех близлежащих дорогах и тропинках стояли патрули, поднимавшие тревогу, едва только появлялся кто-либо подозрительный.
Мартынову знакома была эта система, и он знал тех, кто здесь, в Баку, довел ее до такого совершенства. И Мартынов гордился тем, что в марте 1910 года, будучи еще начальником охранного отделения в Баку, он с помощью провокаторов задержал одного из этих столь опасных для самодержавия людей. Мартынов считал это главной удачей своей карьеры – ведь Иосиф Джугашвили, скрывавшийся под кличкой Коба, один из последователей Ленина, бежал из ссылки, и он, Мартынов, сумел поймать его, а другие, менее рачительные слуги царя, выпустили. Недавно, отнюдь не благодаря ловкости полиции, а только благодаря случайности, Сталин снова оказался в руках полиции. Теперь он сослан в Туруханский край, в такое место, откуда бежать невозможно. Но приходится признать: то, что посеяно Сталиным в Баку, вызрело. Аресты идут за арестами, а людей, которые – если уж выражаться точно – занимаются революционной деятельностью по-ленински, остается достаточно. И хотя Мартынов знал, что забастовочный комитет избран и один из агентов охранки даже проник в него, но выяснить срок забастовки ему никак не удавалось. Однако состав забастовочного комитета охранка сумела установить. Мартынову, признаться, внушало подозрение, что в комитете как будто бы не было ни одного более или менее крупного большевика. Конечно, выяснить состав комитета – еще не значит захватить его. Да и с разгромом организации ничего не кончается. Арестуешь один подпольный комитет, появляется другой. Захватил одну нелегальную типографию, через месяц принесут новые, свеженькие листовки. Конечно, бывало, что провокаторам удавалось изнутри подорвать революционное подполье. Но затишье после этого наступало очень ненадолго. При необычайно ловкой и усовершенствованной заговорщицкой сети даже самый умелый провокатор не в состоянии увидеть всю ее, и, как ни силен удар, наносимый революционной организации, она восстанавливается. Но самое страшное – это забастовка. Не предупредишь ее – тебе поставят в вину. Подавить же можно только с кровопролитием. А тут уж взволнуется общество. И не то чтобы известные своим либерализмом круги адвокатов, инженеров, врачей, но даже свой брат чиновник как-то конфузливо косится, словно ты, Петр Иванович Мартынов, кур крал, черт побери…








