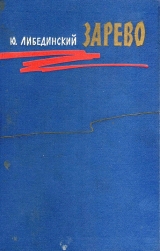
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 57 страниц)
1
Тропа то вздымалась до высоты горных снегов, то спускалась к влажным, знойным долинам. Три дня подполковник Темиркан Батыжев, начальник штаба одного из отрядов, действовавших на турецком фронте, верхом в сопровождении группы своих офицеров ехал по этой тропе. Но вот возле свежесрубленного мостика патруль проверил их документы. Здесь тропа превратилась в широкую дорогу. Свежо пахло: сосной, по сторонам дороги вблизи и в отдалении видны были хвойные горки.
– Ехали, ехали и на Урал приехали, – сказал сухощавый смуглый поручик Ерохин, сын лесничего с Южного Урала.
– А если возьмете еще на север, в Африку попадете. Непроходимые дебри, идти приходится с топором и рубить лианы, – ответил другой офицер, большеротый, с выпуклым лбом, капитан Зюзин. – Я там начал войну, участвовал в битве на реке Чарых; в ноябре от тропических, жарких дождей пропадали, а в декабре меня сразу сюда, под Сарыкамыш, в сугробы и мороз двадцать градусов.
– Говорят, здесь страшное сражение было в начале войны? – спросил белобрысенький прапорщик Антоновский. – Вы, кажется, тоже побывали здесь, Александр Елизбарович? – обратился он к подпоручику Елиадзе, едва ли не самому молодому из присутствующих.
Саша Елиадзе кивнул головой и ничего не ответил. С волнением глядел он туда, где на возвышенностях, продолговатых и округлых, среди сосновых перелесков, пшеничных и ячменных полей, обозначился столь памятный ему русский пограничный город Сарыкамыш с его деревянными домиками и каменными строениями.
Сарыкамыш оказался сейчас в глубоком тылу, и фронт настолько далек, что даже орудийная стрельба не доносилась сюда. Зеленой травой заросли старые могилы, цветы поднялись из пустых и никому теперь не нужных траншей.
Но гордое и грустное волнение испытывал каждый раз Александр, попадая на эти места, вызывавшие воспоминания о первых боях. По возвращении из Петрограда Саша Елиадзе получил назначение в отряд генерала Мезенцева, и начальник штаба отряда Темиркан Батыжев оставил его на штабной работе.
О Темиркане Батыжеве Александру рассказывал Науруз, еще когда они везли через Веселоречье в Баку тюки с подпольной литературой и шрифтом. Ничего хорошего не мог рассказать Александру Науруз о своем заклятом враге и исконном притеснителе веселореченских горцев. Все то плохое, что узнал Александр о Темиркане, в личном общении с ним подтвердилось – это был человек жестокий, хитрый, но не лишенный ума и своеобразных понятий о чести – чести своего феодального сословия.
Александр заметил, что Темиркан старается держаться подальше от армейского начальства; он и сейчас поехал в Сарыкамыш, где расположен был штаб армии, только потому, что к этой поездке его вынуждали обстоятельства.
Темиркану не хотелось ехать в Сарыкамыш, так как с этим местом у него связаны были воспоминания самые неприятные. Впервые прибыл он сюда, едва оправившись после тяжелого ранения, полученного на Западном фронте. Почему высшее начальство сочло необходимым послать его на Турецкий фронт, он не понимал, тем более что штаб корпуса, в распоряжение которого он прибыл, долгое время продержал его в Сарыкамыше без назначения. Ему крепко запомнилось то чувство раздражения и унылой, бессильной злобы, которое он испытывал изо дня в день, возвращаясь по горбатой, сбитой мостовой из штаба корпуса в помещение офицерской гостиницы. Останавливались в этой гостинице лишь наезжие уполномоченные земского и городского союза, неумело и кичливо носившие присвоенную им офицерскую форму, – с ними Темиркан старался не иметь дела. В гостинице проживали также офицеры, отчисленные из своих частей за всевозможные неблаговидные поступки: неумелые воришки, убийцы по пьяному делу, струсившие командиры, – и Темиркан понимал, почему офицеры, прибывавшие в корпус из боевых частей с поручениями, чуждались подполковника, неизвестно по каким причинам не получающего назначения.
Это была новая обида, а его душа еще ныла при воспоминании о том, как в первом же сражении на Западном фронте, когда он, создатель веселореченского полка, вел в бой своих соотечественников, кто-то из них выстрелил в него сзади и едва не убил его. Темиркан великодушно – так думалось ему – позабыл старую рознь, а они, эти пастухи, поднявшие восстание на пастбищах и заставившие его бежать из Веселоречья и, подобно выдре, плыть через коленчатые пороги реки Веселой, ничего не хотели забыть. А ведь он, взамен рваных чувяк из сыромятной кожи, обул их в крепкие сапоги и новые черкески и дал каждому коня, о чем они только в песнях пели. Да что говорить – кто из тюрьмы их вызволил? (О том, что в тюрьму веселореченцы были брошены по его настоянию, об этом как-то не думалось.) И тут пуля в затылок, пущенная недрогнувшей рукой, едва не оборвала его жизнь. В момент выстрела он нагнул почему-то голову – не иначе рука аллаха спасла, как сказал мулла, которого Темиркан увидел над собой, едва открыл глаза.
Однако эти враги его были веселореченцы, и какую бы страшную расплату он ни готовил им, связь с ними шла от отцов и дедов, он был их господин, они его люди. Угрозами и кровопролитием, лестью и даже уступками ему надлежало держать их в повиновении. Ведь вырыл же предок Батыж канаву, после того как убил беспокойного и непокорного Баташа. Вырыл своими княжескими руками, чтобы потушить кровомщение и обеспечить покорность народа! Тогда, в старину, все было как-то крепче, надежнее, и люди были проще, не так хитры и увертливы, как сейчас.
Темиркан не знал, кто стрелял в него. Но когда он лежал в госпитале, воображение рисовало ему, как будто ненавистный Науруз зашел с тыла и целит ему в затылок. А ведь Темиркан доподлинно знал, что Науруз среди солдат веселореченского полка никак не мог оказаться. И ведь сколько раз этот ненавистный враг почти что был в руках Темиркана и выскальзывал, как заговоренный. Не думать, забыть об этом. Найти забвение в бою, в воинских заботах! А ему изо дня в день адъютант командующего корпусом сухо отвечал: «Распоряжения не имеем». Так проходил еще один день, наполненный унылой скукой. По прямым, казарменным улицам городка носилась пыль и скрипела на зубах. Сунься за город – и сразу повернешь обратно: после зимних боев повсюду разило мертвечиной. Почти каждый день слышен панихидный благовест (в Сарыкамыше расположены госпитали, куда свозили тяжелораненых, которых невозможно везти дальше, и дня не проходило, чтобы кто-либо не умирал). Все напоминало о той ужасной стороне войны, о которой храброму воину не по душе думать, – о тяжелых ранениях, о страданиях и смерти.
Темиркан понимал, почему ему не давали назначения: он мусульманин, ему не доверяли. Стремясь действовать через мусульманское духовенство, Турция призывала мусульманских подданных Российской империи к газавату. И Темиркану именно потому не доверяли, а что с ним делать – не знали. Корпусное начальство не могло само разрешить этот вопрос и ждало распоряжения наместника Кавказа. А там или забыли, или не хотели решать.
Темиркан чувствовал, что он точно попал в паутину. Оправдываться и клясться в верности династии он не считал нужным, потому что не чувствовал себя ни в чем виноватым, – да ведь его ни в чем и не обвиняли. И кто знает, сколько времени находился бы он в этом положении, если бы в плен к русским не попал один из внуков того Мисоста Батыжева, который после присоединения Кавказа к России уехал в Турцию. Потомки его воспитывались в ненависти к России, и этот попавший в плен родич Темиркана – его тоже звали Темиркан – был командиром кавалерийского полка. Раненный при сражении под озером Ван, он был доставлен в штаб корпуса, и когда при первом допросе выяснилось, что он, Батыж оглу, является дальним родственником Батыжевых, о Темиркане сразу же вспомнили. Его попросили встретиться с «родственником» и помочь выяснить кое-что при допросе.
При установлении родственных отношений с пленным эфенди Темиркан вначале ничего не добился, кроме «гяурской собаки», «свиноеда» и других обидных для мусульманина прозвищ. Однако при настойчивости своей Темиркан был еще и хитер: когда он стал высмеивать боевую подготовку турецких кавалерийских частей, Темиркан-турецкий стал с запальчивостью восхвалять турецкую кавалерию и таким образом выдал Темиркану все, что было нужно русскому командованию.
Командующий корпусом вызвал после этого Темиркана к себе и, поблагодарив, тут же предложил ему боевое назначение – пост начальника штаба одного из отрядов, из которых в то время состоял корпус.
Отряд этот после июльских боев под Мелязгертом отходил под давлением свежих турецких сил на северо-восток, в направлении русской границы.
И хотя положение отряда было очень тяжелое, чего командующий корпусом не скрывал, Темиркан с охотой принял это назначение. Так как предшественник Темиркана был снят «за растерянность», Темиркан сказал себе, что уж его-то «за растерянность» не снимут! На фронте у всякого воина всегда есть почетный выход – смерть в бою.
За время вынужденного бездействия в Сарыкамыше Темиркан не переставал следить за ходом военных действий. У него были свои соображения о сильных и слабых сторонах турецкой армии.
Слабой стороной ее была общая слабость штабной работы, отсутствие координации частей, особенно в бою, а при наступлении – отставание тылов. И так как на участке, где сражался отряд, в который прибыл Темиркан, турки вели наступление, все эти недостатки турецких войск сказывались особенно сильно. Чтобы остановить наступление турок, нужно было использовать именно эти слабые стороны.
Сопровождаемый только надежной группой, состоявшей из личного конвоя и пулеметной команды, Темиркан кинулся на фронт, проходивший по знойной Аляшкертской долине. Выделяя из отступающих стойкие ударные группы, он стал отводить их на отдельные высоты хребта Агрдаг и закрепляться на тех позициях, которые господствовали над переправами и удобными путями. Получив от командования поддержку в виде двух артиллерийских батарей, Темиркан обеспечил отпор туркам, которые сразу же смешались.
Таким образом, наступление турок было остановлено, а задание командования выполнено. За Темирканом Батыжевым установилась репутация храброго и талантливого офицера.
К началу второго года кампании русская армия отказалась от разделения на отдельные отряды. Однако, когда к весне 1916 года на левом фланге вновь сложилась трудная обстановка, в штабе корпуса вспомнили об отрядах, и одним из первых был вновь воссоздан отряд генерала Мезенцева с начальником штаба подполковником Темирканом Батыжевым. Этот отряд в составе двенадцати пехотных батальонов, восьми ополченских дружин, девяти казачьих сотен и трех батарей горной артиллерии был спешно переброшен на труднодоступный горный хребет, ответвление Южного Армянского Тавра, с заданием закрепиться там и задержать турок в случае их движения в обход русским войскам, которые недавно взяли находившийся в глубине турецкой территории Эрзинджан.
Темиркан ни одной тропинки, даже самой уединенной, ни одного склона, даже самого крутого, где глазомером горца чувствовал возможность восхождения, не оставлял без внимания. Зато пропасти; прорезавшие местность, Темиркан поручил «охранять горным духам», как ответил он полковнику генерального штаба, приехавшему его инспектировать. Зачем сплошная линия, когда существует система маленьких крепостей, держащих в руках всю местность?
Однако позиции, занятые отрядом генерала Мезенцева, не имели удобно проходимых путей сообщения с тылами. Вопрос о снабжении продовольствием и боеприпасами приобрел большую остроту, поэтому Темиркан и выехал в штаб корпуса, взяв с собой нескольких штабных офицеров. Саша Елиадзе, у которого были свои цели, тоже напросился на эту поездку.
Получив из штаба корпуса указания и поддержку, Темиркан направился в Сарыкамыш, где располагались глубокие тылы Кавказской армии.
Давно уже Темиркан не испытывал такой удовлетворенной гордости. Сдержанными манерами, воинской суровостью образа жизни и осмысленной целесообразностью своей тактики, понятной каждому казаку и солдату, он внушал к себе уважение. Играло большую роль также и то, что после ранения – пуля прошла чуть ниже мозжечка, задела язык, выбила два зуба и поцарапала щеку – он бегло говорить не мог. Но при этом он стремился правильно произносить слова, потому речь его приобретала особенную внушительность.
Темиркан чувствовал – его уважают, а это было лучшим лекарством для той душевной раны, которую оставила пуля, нацеленная кем-то из веселореченцев. Эта пуля обозначала для него рубеж возраста. Все, что он пережил до того, как в него стреляли, теперь казалось юностью, после этой пули сама душа его постарела. О столичной любовнице своей Анне Шведе даже и вспоминать не хотелось, тем более о богатом содержателе ее банкире ван Андрихеме и о еврее Гинцбурге, занятом презренными денежными делами.
Темиркан мог позволить себе с презрением относиться сейчас к денежным делам – оклад командира полка вполне обеспечивал его. Семья же после его отъезда на войну жила скромно. Это только когда он находился дома, жена и мать начинали одна перед другой заноситься и сорить деньгами. Теперь они каждый день ели пироги с начинкой из горского белого сыра и считали это роскошью: даже барана резали один раз в неделю, по пятницам, о чем писала ему верная домоправительница Лейля. Жена родила еще одного мальчика. «Личико княжеское, в батыжевскую породу, – писал дядя Асланбек. – Жена напоминает: черед за девочкой». Темиркан усмехался: будет и девочка!
Ему казалось, что он совсем освободился от Анны Ивановны Шведе, этой присушившей его белой петербургской немочи, и если ему снился ее светлый неподвижный взгляд, ее прохладные руки, он отталкивал от себя «это видение, вздрагивал и просыпался… Что было, то прошло.
2
Привязав своего коня к коновязи, обглоданной лошадиными зубами, Саша Елиадзе вошел во двор гаража. Машин было мало – все, видно, в разгоне. Со стороны приземистых, сложенных из свежего, некрашеного дерева, но уже замусоленных и покрытых копотью строений доносилось лязганье и жужжанье; здесь помещались мастерские, которые в прошлый приезд Саши еще только строились.
Начальником гаража работал здесь Семен Иванович Дьяков, известный Саше под кличкой дяди Чабреца. С Семеном Ивановичем Саша был связан по линии подпольной работы. Идти искать Чабреца в здание мастерских Саше не хотелось, и он неторопливо прошелся мимо стоявших во дворе трех требовавших, очевидно, ремонта машин.
Это были санитарные грузовики системы «Рено» – мотор вынесен впереди радиатора. Капоты были подняты, точно у машин болели зубы и они разинули рты. Возле каждой возились мастеровые и шоферы; машины то оглушающе ревели, то чихали и стреляли.
Заглядывая в потные, оживленные лица людей, Саша убедился, что Семена Ивановича здесь нет. Вдруг, когда он подошел к третьей, стоявшей поодаль машине, знакомый голос негромко сказал из-под нее:
– Подай-ка гаечный ключ.
Это был голос Семена Ивановича Чабреца. Саша обрадовался и, пригнувшись, сказал по-грузински:
– Амханаго Симон, обнимаю вас, дорогой…
– Саша, шени чериме, это очень хорошо. А я, увидев из-под машины офицерские сапоги, признаться, и понадеялся, что это вы.
– Гаечный ключ лежит вот здесь, на тряпочке… – сказал Саша. – Подать?
– Бог с ним, с гаечным ключом. А впрочем, подайте, легче разговаривать будет.
Обросшая золотистым ежиком голова Семена Ивановича показалась из-под машины, его карие блестящие глаза, словно подзадоривая, оглядели Сашу.
– Я сейчас оказался в отряде генерала Мезенцева на крайнем левом фланге, – торопливо заговорил Саша, – оттого я так долго у вас и не был. Имею официальное поручение к начальнику вашего отряда.
– Так вы, как полагается, и отправляйтесь сейчас с этим поручением в канцелярию отряда, где обратитесь к нашему начальнику капитану Картвелашвили. А он тут же и меня призовет, потому что сам без меня ничего сделать не сможет.
В канцелярии щеголеватые и упитанные писаря с узенькими земгусарскими погонами указали Саше маленький домик в дальнем конце двора. Домик этот, беленький, с плоской крышей, резко выделялся среди окружающего; стоял он здесь, видимо, еще до того, как стали строить гаражи и мастерские автомобильного отряда. Когда Саша подошел к домику, заросшему кустами, он услышал звуки гитары и пение. Эта песня всегда казалась Саше едва ли не самой глупой из всех глупых песен, сочиненных царскими офицерами на Кавказе:
Дед был храбр и лют,
Дикий, как джейран,
Ел один шашлык,
Умер все ж от ран…
Саша вошел в домик, когда там вовсю гремел припев:
Есть у нас легенды-сказки
Про обычай наш кавказский…
Саша громко постучал в дверь. Музыка и пение смолкли, и Саша услышал, что кто-то громким, как на сцене, шепотом произнес:
– Погоди, какая-то скотина лезет сюда…
Слова были русские, но Саша даже из-за двери по акценту признал грузина.
Дверь открылась. Длинный, похожий на хлыст, белобрысый парень с погонами подпрапорщика на покатых узких плечах своими белесыми глазами вопросительно-брезгливо взглянул на Сашу, на его погоны и, держа в руках гитару, нехотя вытянулся.
В глубине комнаты, увешанной коврами, с натоптанным, давно уже не мытым полом, уютной и грязно-неряшливой, возле маленького столика, развалившись в кресле и вытянув франтоватые сапожки, сидел небольшого роста офицер в расстегнутом травянисто-зеленом френче с капитанскими погонами. Саша по черным густым бровям, по характерному крупному носу и блестящим глубоко посаженным глазам признал в капитане единоплеменника.
Едва Саша назвался, отдавая честь, как капитан, командир автоотряда, с усилием поднявшись с места – он прихрамывал, – протянул левую руку (правая была на перевязи).
– Пусть будет благословен этот день, в который судьба посылает мне такого дорогого гостя! – сказал он по-грузински. – Дорошевич! – по-русски обратился он к подпрапорщику. – Надо чествовать дорогого гостя.
Нам каждый гость ниспослан богом,
Какой бы ни был он среды… —
противненьким, но верным голосом, аккомпанируя себе на гитаре, запел подпрапорщик.
Командир отряда Филипп Мелитонович Картвелашвили усадил Сашу и вытащил из-под стола пузатый глиняный кувшин с коротеньким горлышком. И хотя одна рука у капитана была на перевязи, он действовал очень ловко: вино было мгновенно разлито, то домашнее вино, свежий и горьковатый вкус которого с детства любил Саша.
– У меня к вам, господин капитан, неотложное дело…
– Э-э-э, какой капитан, какое дело! Зови меня – батоно Филипе. Ты дворянин, конечно. Какой ты фамилии?
– Фамилия моя Елиадзе…
– Елиадзе, Елиадзе, не припоминаю, верно из пожалованных… Что ж, и это не плохо – русский царь жалует грузина дворянством только за благородное дело. Но вид у тебя прирожденный дворянский. Из какой фамилии матушка твоя?
– Цагуришвили, если это вам интересно, – краснея, сказал Саша.
– Цагуришвили? – капитан прищурил один глаз. – Как же это может не иметь интереса? В кадетском корпусе я учился с некиим Георгием Цагуришвили из Кахетии. Но Цагуришвили есть не только в Кахетии.
– Нет, мои родичи со стороны матери проживают в Кахетии, а Георгий Леванович Цагуришвили – это дядя мой…
– Значит, ты племянник Георгия? Выпьем за его здоровье. Он рано ушел в отставку и зарылся в навоз…
– Да, он занялся хозяйством.
– Ну, а я всю жизнь верхом на коне служу царю и отечеству, как это подобает дворянину. Под Лаояном меня ранили тяжело, а в Восточной Пруссии еще тяжелее. Хотели уже перевести на пенсию. Но куда я без военной службы? Написал прошение на всемилостивейшее имя – и вот сунули сюда. Ну, так выпей вина, дорогой мой! Конечно, это не ваше кахетинское мцевани, к которому ты привык с детства, но это наше настоящее оджилеши, и оно не хуже. Отведай, душа моя, и ты станешь мне родным, все равно что родной племянник.
Саша пил вино, закусывал нарезанным на бумаге свежим сыром и чувствовал себя так, как если бы действительно попал в дом к какому-то докучливому родственнику.
Капитан расспрашивал его о матери и об отце.
– Елиадзе, скажи пожалуйста, что за фамилия, никогда не слыхал. Элиава Платон, был такой у меня друг, а Елиадзе – не из священников ли?
Саша несколько раз пытался перейти к делу, но капитан морщился, точно отведав горького, начинал махать руками и требовал от подпрапорщика музыки. Состоя на должности вахмистра отряда, подпрапорщик, как выяснилось из разговора, заведовал здесь строевой частью и в этой своеобразной воинской части, состоящей по преимуществу из вольнонаемных и все время находившейся на колесах, бездельничал так же, как и начальник его.
Саша, не упуская из виду своего штабного поручения, уже начинал терять терпение. Время у него было ограниченное, а нужно было еще во что бы то ни стало встретиться с глазу на глаз с Семеном Ивановичем. И вдруг сам Семен Иванович, не считая нужным даже постучаться, вошел в комнату, вытирая руки тряпкой, издававшей запах керосина.
– А, Иваныч! – обрадовался капитан. – Хорошо пришел! – Э-э, пить будем, гулять будем, а смерть придет – умирать будем! Знакомься, Саша, это мой помощник, механик, русский человек, а, скажи на милость, понимает грузинский обычай.
Семен Иванович назвался, крепко пожал руку Саше, налил себе вина, сказал несколько слов по-грузински, крякнул по-русски, закусил салом, вытер рыжеватые усы и спросил, обращаясь к Саше и весело поблескивая глазами:
– Зачем пожаловали, ваше благородие?
Глядя в его хитрые и ласковые карие глаза, Саша рассказал о поручении, которое ему дал подполковник Батыжев.
– Так, – помолчав, сказал Дьяков, хитро прищурив глаз. – Значит, от Эрзерума это будет к югу…
– Да, да, Киги, Огнот… – говорил Саша.
– Без карты, Филипп Мелитоныч, не разобраться…
– Э-э, зачем карта? Кахетинский выпьем по-кунацки, чтобы жили мы по-братски! – Батоно Филипе даже встал со стула, и судорожное движение, которое он сделал поврежденной рукой, так как здоровой опирался на костыль, должно было изобразить лихость.
– Нет уж, генацвале Филипп Мелитонович, – отводя руку с бокалом, сказал Семен Иванович, – война идет, значит вот разберемся с этим делом, а тогда и пить будем и гулять будем, но военное дело прежде всего.
* * *
– Вот сюда, ваше благородие, здесь моя контора, – возвысил голос Семен Иванович, чтобы услышали шоферы, стоявшие возле крыльца. Он любезно пропустил Сашу вперед в двери новенького, еще пахнущего деревом домика.
В первой комнате стояли канцелярские и чертежные столы. Сидевшие за столами писаря поднялись с мест.
– Сидите, господа, сидите… Аркадий Иннокентьевич, дайте-ка нам в кабинет сюда квадрат восемьдесят восьмой и восемьдесят девятый…
Худощавый, в пенсне юноша с настолько выдающейся вперед верхней губой, что она, похоже, вот-вот красной каплей упадет на стол, с готовностью встал с места.
– У меня карты с собой… – начал было Саша, но Семен Иванович быстро провел его к себе в кабинет.
– У меня есть догадка, что сей Аркадий является осведомителем охранки, потому-то именно его я и попросил достать карту. Мы начнем разговор в его присутствии. Он, кажется, ничего не подозревает, но, знаете, береженого бог бережет, и особенно при теперешних делах.
Вошел Аркадий Иннокентьевич с теми же картами генерального штаба в руках, которые у Александра были с собой.
– Вот, Аркадий Иннокентьевич, глядите, господин подпоручик хочет предложить нам интересный маршрут для прогулок, – говорил Семен Иванович, прикалывая карты к чертежной доске. – Итак, Сарыкамыш – Эрзерум…
– Простите, господин, господин… – сказал Саша, обращаясь к Семену Ивановичу, как если бы он его не знал.
– Зовите меня – Семен Иванович, – перебил Чабрец. – Я человек штатский, со мной можно без чинов.
– Так вот, Семен Иванович, здесь, не доезжая до Эрзерума, есть Кепри-кей…
– Так, Кепри-кей… Кепри-кей… Вот он – место нам известное. Ну и что же сей Кепри-кей?
– От него к югу, – остро очиненный карандаш Саши медленно полз по карте, – идет дорога.
– Ну что вы, господин подпоручик, какая там может быть дорога?
– Простите, Семен Иванович, но в данном случае вы ошибаетесь, – мягко остановил его Саша. – Это старая турецкая военная дорога, и так как назначение этих дорог состоит в том, чтобы по ним провозить пушки, то дороги эти следуют по естественным путям, в данном случае – по руслу горной речки, вот она… Недостаток этих чудовищно извилистых дорог искупается, во-первых, тем, что они всегда идут по твердому грунту; во-вторых, хотя во время дождей и снегопадов они наполняются водой, но вода быстро стекает.
– Возле дороги всегда есть возвышенные площадки, приноровленные для стоянки пушек, следовательно годные и для машин – ведь верно?
– То, что вы говорите, это просто чудо! – сказал Семен Иванович искренне. – Что вы думаете об этом, Аркадий Иннокентьевич?
Аркадий Иннокентьевич вяло кивнул головой; предмет разговора его, очевидно, не интересовал.
– А как насчет мостов? – живо спросил Семен Иванович. – Ведь достаточно одного хлипкого моста, и машина провалится.
– Мостов совсем нет.
– Как же это может быть? Ведь тут речки? Вот здесь, и здесь, и здесь.
– Я имел честь вам объяснить; что пушечные дороги всегда проходят по руслу рек. Да чего толковать, ведь ваш отряд обслуживал армию при Эрзерумской операции…
– Имеем благодарность его высочества, – сказал Аркадий Иннокентьевич.
– Вот видите, его высочества… – И карие глаза Чабреца заиграли таким весельем, что Саша закашлялся, чтобы подавить смех, и приложил платок к губам.
– Ну, так вы должны знать, что дорога, по которой шло наступление одной из наших колонн… Вот отсюда, с севера, в обход Кепри-кея, шло по водораздельному хребту, вот здесь, по Северному Армянскому Тавру…
– Неоднократно сам проезжал по этой дороге, но ничего не знал. Вы, Аркадий Иннокентьевич, знаете эту дорогу, это через Ольты? – спросил Чабрец.
Но тот, став у окна и своей долговязой фигурой заслонив свет, ничего не ответил.
– Что это вас заинтересовало, Аркадий Иннокентьевич? – спросил Чабрец.
– Какая-то женщина разговаривает с нашим часовым, – ответил Аркадий.
– Это никуда не годится. О чем могут быть разговоры? – вставая с места, сказал Семен Иванович.
– Если разрешите, я выясню, – живо откликнулся Аркадий.
– Что ж, выясните. И кстати пришлите мне… – Он подумал. – Старостин у нас где?
– В пути.
– А Куров? Тоже в пути?
– Тоже.
– Досадно… А Василий Гаврилов?
– Кажется, вернулся.
– Пришлите-ка его сюда. Надо какого-то боевого шофера послать съездить и разведать эту дорогу. Дело-то серьезное.
– Так точно. – И Аркадий Иннокентьевич быстро исчез, видимо довольный тем, что начальник отпустил его из кабинета, где шел разговор ему неинтересный.
– Ну, теперь, Саша, мы имеем по крайней мере час для разговора. Васю Гаврилова раньше он не найдет. Это наш товарищ, и он не только разведает дорогу, но и перевезет в машине все, что нам нужно.
– Неужто такой большой груз, что требуется машина? До сих пор я его без труда провозил у себя под седлом, – сказал Саша.
– Груз – во! – И Семен Иванович развел руками. – Да и зачем подвергать вас излишней опасности, вы нам еще пригодитесь.
Они взглянули друг на друга, и столько теплоты и сердечности было во взгляде у обоих, что оба смутились.
Семен Иванович пригнулся к письменному столу и стал возиться в одном из боковых ящиков его. Там что-то щелкнуло. Из потайного отделения ящика Семен Иванович вытянул лист печатной бумаги и протянул его Саше.
– Мы перебрасываем на фронт несколько десятков тысяч этого обращения – это первомайское обращение Тифлисского комитета и Кавбюро РСДРП.
«Вы, насильственно наряженные в солдатские шинели рабочие, крестьяне, вы, оторванные от рабочих станков и сохи, покинувшие семьи в жертву голоду… – читал Саша. – Вы истекаете кровью на позициях, а за вашей спиной министры и дипломаты торгуют вашей кровью, получают взятки, продают планы, извещают неприятеля о ваших движениях. Вы, наголодавшиеся и изнуренные, подставляете груди под пули и штыки, а вас обкрадывают интенданты, подрядчики и правительство, которое думает о своих карманах, а не о ваших нуждах.
Международный союз восстанавливается. Интернационал выходит из жестоких испытаний стойким и укрепленным на позиции классовой борьбы и призывает пролетариат к международной солидарности, к борьбе под красным знаменем против международной буржуазии, за социализм.
Война войне – его клич!»
Саша дочитал и невольным движением хотел спрятать за пазуху листовку, но Семен Иванович протянул руку, и Саша покорно отдал ему листовку.
– У вас их будет целый тюк, – сказал Семен Иванович.
– Хорошо, – согласился Саша. – Кто это писал?
– Мне неизвестно, а тот, кто прислал в нашу армию этот подарок, он вас знает и велел вам поклон передать. Вам он известен под ласковым именем – Алеша.
– Алеша? Товарищ Джапаридзе? Он разве в Баку? – в изумлением и радостью спросил Саша, схватив за рукав Семена Ивановича. – Но ведь он был в ссылке на Енисее?
– Бежал из ссылки, побывал в Петербурге и вернулся в Закавказье. Он ведет работу в действующей армии, и вы, может быть, увидите его.
– Едва ли, уж очень мы с Жердиным в глухом углу оказались.
– Кстати, о Жердине, Алеша знает Жердина по Баку и просит устроить ему встречу с ним.
– Сейчас товарищу Николаю будет очень затруднительно держать связь с фронтом, – озабоченно сказал Александр. – До этого передвижения, находясь непосредственно в составе корпуса, мы были прекрасно связаны с Александрополем. А теперь, когда отряд генерала Мезенцева оказался на крайнем левом фланге позиций нашего корпуса, Жердин как бы привязан к своей батарее… Я уже месяц не могу попасть в Александрополь. Как там Лена Саакян? – спросил он с беспокойством.
Семен Иванович вздохнул и ничего не ответил. Саша оглянулся на дверь и вынул из широкого рукава своей черкески тетрадку.
– Вот, – сказал он. – Я сделал то, что вы мне в прошлый раз поручили… Вот здесь на первой странице воззвание от имени одной из наших артиллерийских батарей, а дальше крестиками обозначены подписи солдат. Каждый ставил этот крестик собственноручно, и под каждой группой крестиков проставлены цифры и буквы ее обозначающие. Вот пять «эс» «бе». Это значит – пятый стрелковый батальон. Три «и» «ер» – это третья инженерная рота. И так далее.
И Саша, еще раз взглянув на дверь, прочел вполголоса:
«Деды, отцы, братья и сестры! Взываем к вам с позиций. Примите меры к прекращению войны, нужен мир, мы здесь на позициях погибаем, время уже закончить пролитие крови, война нам ничего не несет хорошего, кроме нищеты… Пусть будет тот проклят, кто против мира!»
– И все? – спросил Семен Иванович.
– Но вы говорили, чтобы покороче, – покраснев, сказал Александр.








