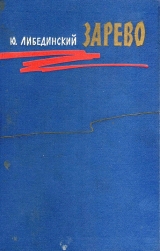
Текст книги "Зарево"
Автор книги: Юрий Либединский
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 57 страниц)
Проследив за направлением взгляда потускневших и заслезившихся глаз пристава, Касбот спросил, кивнув в сторону флага:
– Увидел?
И, дав полное утоление взлелеянному в продолжение последних недель чувству мести, Касбот тем привычно ловким и сильным движением, которому его так тщательно обучали во время строевых занятий, вогнал штык в тело Пятницкого, вогнал глубоко, до самого сердца. Выдернул и ударил еще два раза.
– Готов, – сказал Комлев, отпустив тело пристава, оно мягко шлепнулось на свежий, быстро заалевший снег. – Пошли.
И когда они, приняв вид военного патруля, обходившего город, посредине улицы в ногу отошли на квартал от дома пристава, отчаянный женский крик заставил их вздрогнуть и оглянуться…
Женщина в темной шали стояла над телом Пятницкого. Еще два раза во весь голос крикнула она и упала на тело мужа.
– Плачь, плачь, мы тоже плакали, – сказал Касбот.
Комлев взглянул на его лицо и отвернулся, оно показалось ему страшным.
5
Проснувшись в обычное время, Василий удивился странной тишине, господствовавшей в доме. Мать строго настрого запретила ему вставать голодному – она сама приносила сыну еду, – и Вася терпеливо ждал ее появления, но она все не шла. «Наверно, помогает Касботу», – подумал он. От Надежды Петровны Василий знал, что она взялась быть связующим эвеном между Комлевым и Касботом.
Сергей Комлев и другие арестованные солдаты сидели в той же тюрьме, что и Нафисат, но в другом флигеле, построенном в более позднее время. Изолированное нападение солдат горцев на тюрьму с целью освобождения Нафисат почти никаких шансов на успех не имело бы. Но нападение на тюрьму, изнутри поддержанное бунтом арестованных солдат, открывало возможность освободить не только Нафисат, но и других узников.
От Гамида Василий знал, что Касбот собирается, освободив Нафисат, вместе с нею и другими своими соплеменниками уйти в горы и укрыться там.
Может быть, Комлеву с освобожденными солдатами лучше всего уйти вместе с горцами? Они могут составить ядро революционного отряда и еще пригодятся.
Но, может быть, события пойдут еще стремительней. Все говорило о том, что отсрочка революции, которую получил царизм, ввязавшись в 1914 году в империалистическую войну, приходит к концу. Позорные неудачи на фронте и небывалое, известное всему народу разложение среди правящих кругов, связанное, в частности, с именами Распутина и Алисы – иначе теперь не называли царицу, подчеркивая ее немецкое происхождение, – все говорило о близости бури. Народ негодовал против подлого поведения буржуазии, наживающейся на спекуляции и биржевых махинациях. Голодные очереди в городах и бунты солдаток, у которых полицейские власти не стеснялись зажиливать скудное пособие, исчезновение промышленных изделий в деревне и обнищание бедноты и солдатских семей, то и дело вспыхивающие по стране солдатские бунты и начавшиеся поджоги помещичьих имений – все свидетельствовало о том, что гроза приближается. Снова началось со всех промышленных городах стачечное движение, под большевистскими лозунгами зарево революции вставало над страной.
В этих условиях кто может заранее предсказать, как обернутся события в Арабыни? Нужно было только обеспечить влияние на их ход через посредство людей, участвующих в событиях.
Василий так глубоко задумался, что не заметил, как вернулась мать. И когда она вошла в комнату с подносом, на котором стояло горячее молоко и яичница, Василий залюбовался ею – такая она была оживленная, помолодевшая, с ярким и свежим румянцем на щеках.
– Заждался? – спросила она. – А как спал?
В этом вопросе сын почувствовал какую-то скрытую шутку и вопросительно посмотрел на мать.
Она подсела к нему и сбивчиво стала рассказывать о событиях этой ночи. Произошло все то, что он и предполагал. «Итак, у нас есть в горах вооруженный отряд, – думал он. – Надо будет сообщить в Краснорецк».
– Удалось освободить эту бедняжку? – спросил он.
Мать заплакала, и Василий все понял.
– Бедный Науруз!.. – сказал он.
А ведь гада-то этого, пристава, убили, все утро на улице валялся, у крыльца.
– Собаке – собачья смерть, – сказал Василий. – Жаль только, что не пришлось его судить по всей революционной форме.
Часть четвертая
Глава первая1
Все словно спит в этой огромной долине, где протекает Кура. Даже облака, под которыми скрыты сейчас Большой и Малый Кавказ – два хребта, ограничивающие Великую долину, – даже эти облака, синие и плоские снизу, кудрявые и белые сверху, как будто застыли и не меняют своих очертаний. И так огромны эти две уходящие ввысь горные стены, что в сравнении с ними все кажется приземистым и маленьким: и огромные, то там, то тут растущие чинары, поднявшие свои темно-зеленые шапки среди арыков и полей, и даже самый город Елисаветполь, с его тонкими минаретами и церковными главами, белыми домами и старыми крепостными стенами.
Час еще ранний, солнце не встало, все неподвижно, все спит. И только по старому почтовому тракту, по щербатым камням его, легкой трусцой бежит сытенькая смирная лошадка рыжей масти и тащит за собой линейку-долгушу, нечто вроде усовершенствованной телеги, где сидеть можно, только спустив ноги или на одну, или на другую сторону, с опорой на длинную подножку. Смугленькая черненькая девочка лет тринадцати в шелковом нарядном платьице, с невыспавшимся лицом, полулежала на подушках, сплетя руки и положив их под голову. Ее не по-детски суровый рот полуоткрыт. Приподняв темные, слабо намеченные брови, она смотрела на небо – наверно, заснула бы, но тряская езда мешала. Звали ее Айбениз, что значит: луноликая.
Лошадью правил отец этой девочки Мир-Али-Бала Абасов. Девочка похожа на отца. У него такое же продолговато-смуглое лицо, и взгляд из-под длинных ресниц так же спокойно-внимателен, и даже очертания рта и носа, как у дочки, такого же рисунка и брови. Тонкие черные усы обрамляли его рот, как бы повторяя рисунок бровей. Мир-Али – преподаватель русского языка и литературы в маленьком, населенном исключительно азербайджанцами уездном городке Елисаветпольской губернии. Окончив так называемое татарское, то есть предназначенное для азербайджанцев, отделение учительской семинарии в Гори, он на всю жизнь остался приверженным к русскому образованию и к русской литературе. Двое сыновей его учились в реальном училище в Елисаветполе, и ему хотелось, чтобы светское образование получила и любимая дочь Айбениз. Но мысль о том, чтобы отдать Айбениз в женскую гимназию и оставить ее где-нибудь в Елисаветполе на квартире в знакомой азербайджанской семье, ему, а тем более жене его казалась невозможной. Тогда он сам начал проходить с ней гимназический курс, год за годом. А в этом году, весной, впервые повез он девочку в Елисаветполь, и она при женской гимназии сдала экзамен за пять классов, сдала превосходно, на круглые пятерки. Это было очень приятно.
Чтобы до ночи вернуться домой, Мир-Али еще на рассвете запряг лошадку, разбудил крепко спящую девочку, и вот они по сонным улицам города выехали на широкую, перерезанную арыками равнину. Ехали они уже более получаса, а по обе стороны дороги все одно и то же: надгробные камни, или стоящие прямо, стоймя, или накренившиеся, а то и вовсе упавшие. На них можно разглядеть арабские буквы, местами полустершиеся и потому однообразные. Жалобные эти обращения к аллаху, начертанные на камнях, звучали бессвязно, словно те слова, которые человек произносит перед смертью, в агонии. Заметив, что дочка отвернулась от земли и смотрит на небо, Мир-Али сказал:
– Большое кладбище. Ни один город в долине Куры не имеет такого огромного кладбища, как Гянджа. Да и вся эта местность, где сейчас едем, представляет собою огромный старый город – старая Гянджа. Приглядись. Видишь остатки старых стен? Это граница древнего города, он был довольно велик. Приглядись к той земле, по которой ступают копыта нашей лошади. Видишь, порой самой причудливой формы разноцветные камешки втоптаны и песок? Это все черепки посуды… Погибают города, люди, книги, а черепки остаются. Они свое скажут!
Отец замолчал, девочка, повернувшись, взглянула на дорогу, под копыта лошади.
– Наши муллы, которые все на свете начинают от корана, – заговорил Мир-Али, – утверждают, что построили этот город арабы, когда они огнем и мечом утверждали здесь коран. Но муллы могут говорить все что угодно – камни говорят правду. Пока ты была в школе на испытаниях, я прошел вдоль той части стены, где пробои наиболее значительны. Там под стенами тысячелетней давности можно обнаружить еще более древние: их складывали, не употребляя связывающего цемента, а просто накладывая один сырой кирпич на другой. Отвердевая, кирпичи сливались воедино, срастались навеки. Даже и сейчас видно, что эти древние стены сложены из множества отдельных кирпичей, но отделить один кирпич от другого невозможно, и эту часть стены не могли сокрушить даже пушки. И знаешь, что особенно взволновало меня? Эта самая древняя часть стены, основа ее, уже сложена в виде правильного четырехугольника, а углы городских стен обращены к четырем странам света. Так строили города в те древнейшие времена, когда первые открытия в сфере точных наук казались откровениями богов. Значит, наша Гянджа построена в те времена, когда геометрию и механику употребляли в Египте для строительства пирамидального вида усыпальниц фараонов и когда в Вавилоне первые обсерватории были неотъемлемой частью храмов. Совсем иначе построены города ислама: их мечети все обращены в сторону Мекки, и соответственно этому расположены площади и улицы. Нет, старая Гянджа много старше ислама. Ислам возник там, где караванные пути пересекают великие пустыни, это религия кочевых купцов и кочующих разбойников. Не только ислама, но и христианства еще в помине не было, когда на таких вот плодородных речных долинах возникали первые очаги человеческого труда и культуры, – в долине Нила, в междуречье Тигра и Евфрата, а здесь, у нас в Закавказье, – между Арагвой и Курой, между Курой и Араксом. Еще великий Низами, хотя он и жил во времена свирепых войн, превративших в пустыни эти места, так говорил о нашей родине…
И Мир-Али, раскачиваясь, нараспев прочел стихи Низами, которые, казалось, сами благоухали цветами. В них воспевался этот опоясанный Курой край цветов: райским рощам подобные рощи на берегах ее, луга, где круглый год благоухали вечнозеленые травы, край, где весенние ветры веют зимой и куда суровый дей (январь – декабрь) приходил в одеянии цветов. Здесь было место сборища птиц со всей земли; нужно тебе любое птичье перышко – ищи его здесь.
При последних словах суровые губы девочки шевельнулись, она грустно усмехнулась: вокруг была засоренная черепками пустыня, сборище могил, заросшие развалины, С грустной нежностью задержался взгляд ее на приземистом кирпичном здании, возвышавшемся совсем неподалеку. Жадно, как медовое питье, впитывала Айбениз произносимые отцом стихи. И красные камни мавзолея своим немым языком подтверждали достоверность той картины, которую написал великий гянджинец, – здесь он был похоронен.
– И он это видел, – прошептала она.
Хотя она сказала совсем тихо, точно выдохнула эти слова, отец услышал их, понял ее и, обернувшись, с волнением ответил:
– Да, он это видел, он жил здесь, и народ наш вот так же, как ты, говорит: «Он это видел», – и надеется на лучшие времена. А об этом мавзолее мне удалось кое-что выведать у старого Зульфагара-ага. Он потом притворялся глухим и клялся, что мне это почудилось, но что сказано, то сказано.
Он говорил, невольно возвышая голос, так как с запада нарастал грохот ни с чем не сравнимый – бодрый грохот приближающегося поезда. Поезд уже весь стал виден: дымно-черная голова и членистое, пестрое тело – поезд был пассажирский. Быстро мелькали вагоны между старинными усыпальницами, древними камнями и массивными чинарами. Паровоз оглушающе крикнул, и Мир-Али замолчал, так и не закончив своего рассказа. Он придержал лошадь, невольно залюбовался поездом, и мысль, которая рождалась у сотен, тысяч и миллионов, мысль о невиданной мощи нового века пришла ему в голову.
Отец и дочь наблюдали за поездом. Он совсем близко пробежал мимо них, потом изогнулся, следуя мерному закруглению железнодорожного пути, стал замедлять ход. И вдруг дочь схватила отца за руку: кто-то выпрыгнул из поезда. В воздухе мелькнула фигура человека, широко раскинувшего руки, как бы готового взлететь, мгновенно возникла в воздухе и исчезла… Поезд стремительно уходил, уменьшался…
– Ты видел? Он выпрыгнул!
– Да. Это безумие. Наверно, разбился.
– Нет, нет! Поможем ему!..
И Айбениз, не слушая предостережений отца, соскочила и легко, как можно бежать только тринадцати – четырнадцати лет, перепрыгивая через камни и ямы, понеслась в ту сторону, где должен был находиться тот, кто выпрыгнул из поезда.
Вот и железнодорожный путь. Человек в форменной фуражке железнодорожника склонился над неподвижным телом.
– Живой? – опросила она по-азербайджански и, видя недоумение в поднявшихся на нее светло-серых глазах, повторила вопрос по-русски.
– Пока еще живой, – не очень охотно ответил железнодорожник, – а что дальше будет… хрипит очень…
И верно, тот, что, раскинувшись, лежал на земле, со стоном хрипел. Это был красивый, могучего сложения молодец. Ей казалось, что именно такого она и ожидала увидеть, когда бежала сюда. Но на ее глазах живой и яркий румянец погасал на этом лице, оно становилось бледнее, желтело, конвульсия ползла по всему телу, его вырвало с кровью, с желчью… Он откинулся назад и затих. Железнодорожник (это был путейский сторож, будка видна была из-за цветущих кустов) приник к его груди.
– Жив.
И радостным эхом повторились эти слова в душе девочки.
– Сотрясение мозга, – озабоченно произнес из-за ее плеча голос отца.
Железнодорожник взглянул на лошадь, которую Мир-Али держал под уздцы, и сказал в раздумье:
– Надо бы его деть куда.
– В больницу? – быстро спросил Мир-Али. – Мы можем вернуться в Гянджу.
Но сторож, как бы не слыша его, продолжал:
– Поезд не остановился, значит жандармы – это он от них, наверно, скрывался – не видели, как он выпрыгнул, и ищут его по вагонам. Через пять минут поезд дойдет до станции, ну, клади еще минут десять или двадцать, пока паровоз подадут. Через полчаса могут за ним приехать.
– Кто? – удивленно спросил Мир-Али.
– А те, кто за ним гнался, – с усмешкой, сразу оживившей его изрезанное морщинами лицо, ответил сторож. – Это можно только от большой беды прыгать с поезда на ходу.
– Какой беды? – спросила Айбениз.
Сторож искоса скользнул взглядом по ее взволнованному лицу и быстро стал выворачивать карманы пиджака и брюк молодого человека, продолжавшего лежать неподвижно. Спички, несколько медных монет, пестрый, как хвост павлина, кисет, но пустой, без табака. Ни паспорта, ни одной письменной бумажки. Он сунул руку за пазуху лежавшего – и по неподвижному, с крепко стиснутыми зубами лицу прошло содрогание, даже глаза открылись на мгновение, карие и ясные, как солнце. И снова лицо помертвело, выражая лишь застывшее страдание. В руках сторожа была ладанка, искусно сделанная из кожи, маленькая, туго затянутая тоненьким ремешком. Ремешок тут же развязали. Отверстие, которое стягивал ремешок, раздвинули. Большие, ловкие пальцы железнодорожника достали оттуда лист бумаги, развернули… Две арабские буквы значились на нем.
– Два арабских «ба», – сказал Мир-Али. – Что бы это могло значить? Во всяком случае, человека надо спасти.
Айбениз взглянула на него благодарно и с гордостью: «Вот какой у меня отец!» Но он ничего не заметил, он обдумывал положение.
– Увезли бы его куда, – настойчиво повторял сторож. – А то ведь за ним приедут. Если его здесь не найдут, я уж как-нибудь отбрешусь.
– Да, мы увезем его. Айбениз, устрой, чтоб мягче было лежать, взбей подушки.
– Сенца бы подложить, – я только вчера с вечера накосил, – сказал сторож. Видно было, как он сразу повеселел.
Большую охапку свежего, душистого сена, первого сена, в котором так много всегда желтых и синих цветов, принес он, завалил им всю линейку и помог Айбениз поудобнее умять его.
Хотя Мир-Али и сторож с величайшими предосторожностями подняли не приходившего в сознание молодого незнакомца, его все же опять стошнило. Айбениз положила ему под голову свою маленькую узорчатую подушечку, подарок бабушки.
Лошадь тронулась.
– Прощайте, добрый человек! – сказал Мир-Али. – Вы, значит, нас не видели, мы незнакомы.
– Езжайте, отопрусь, – подняв фуражку, сказал железнодорожник.
Повозка тронулась, и Айбениз, увидев, как по неподвижно-страдальческому лицу человека при первом же движении пробежали судороги, повинуясь какому-то инстинктивному побуждению, подсунула свои ладони под его тяжелую голову и, сообразуясь с медленным покачиванием линейки, стала предохранять джигита от сотрясений.
Поглощенная этим, она не следила за дорогой и не вслушивалась в то, что говорил отец. Только когда линейку вдруг сильно встряхнуло на ухабе, из стиснутых зубов незнакомца вырвался стон. Айбениз сердито подняла голову и увидела, что они едут по какой-то другой, неизвестной ей дороге, что вокруг поднимаются скалы и вода бежит где-то внизу, в ущелье.
– Куда мы едем, отец? – спросила она.
– Так я же говорил тебе, – удивленно ответил отец. – К дедушке Авезу. Никому не придет в голову искать там молодого человека.
2
С того момента, когда Науруз, преследуемый с двух концов поезда облавою, вынужден был выброситься из поезда и ударился о землю, ему казалось, что он с еще большей стремительностью летит в каком-то рдеющем пространстве, среди ослепительных болевых молний, то и дело пронизывающих его всего. И вдруг нежные, единственные в мире руки, руки Нафисат, нашли Науруза в этом красном мерцающем мире и откуда-то сверху, непостижимо как, охватили его голову.
Болевые молнии теперь, пожалуй, падали реже, но по-прежнему были остры и жгучи. И все же его «я» очнулось и начало борьбу за себя. Возникло ощущение иного, не стремительного, а медленно-потряхивающего движения. Правда, порой жгучие молнии вновь переносили Науруза в мир стремительного полета, но руки Нафисат были с ним и удерживали его… И еще что-то непередаваемо-родное овладело его восприятием – он давно уже, сам того не сознавая, с наслаждением вдыхал запах свежего сена, на котором лежал, и оттуда возникло первое представление: «Нафисат увозит меня на пастбища».
Нет, это были еще не слова, это было похоже на какой-то напев, успокоительно мерный, и Науруз заснул. То, что он уснул, Айбениз сразу поняла: гримаса, сковывавшая его лицо, смягчилась, и дыхание стало мерным и спокойным.
– Отец, он заснул, – тихо сказала она.
– Это хорошо, – ответил отец.
Солнце низко висело над каменными горами, окрашивая их в какой-то красный, дикий и печальный цвет. Путники довольно высоко поднялись в горы.
– Мы будем ехать всю ночь? – спросила Айбениз.
– А ты устала? Потерпи, девочка, скоро мост, за мостом есть небольшая пещера, там можно будет переночевать.
Она долго молчала. Красный свет на горах становился все печальнее, он постепенно погасал. Солнце ушло за горы, горы почернели. И вдруг красный, но совсем другой, чистый и радостный, такой, какой бывает на небе, свет вспыхнул там, куда ушло светило.
Айбениз тихо спросила:
– А сколько еще речек нам осталось проехать?
Отец засмеялся.
– Кто же их считал! Реки и ручьи, арыки, вброд и через мосты…
– А сколько мостов? – спросила Айбениз – и так тихо, что он не расслышал, и она обрадовалась этому.
Если бы только отец мог догадаться, какую странную мысль пробудило у его дочери упоминание о том мосте, после которого им предстоит ночной привал. Она вдруг подумала: «Третий мост, еще четыре осталось». И, как бы отвечая вспыхнувшим в тот момент краскам закатного неба, яркий румянец загорелся на ее смуглом лице.
Еще четыре моста переехать с этим молодцом, голову которого она держала на руках, с этим отважным героем, жизни не пощадившим за какое-то благородное дело, – и она навеки не расстанется с ним, станет его женой.
Семь мостов только нужно переехать вместе с любимым, чтобы никогда с ним не расставаться, – эту старую песню пела ей бабушка. И как ни стыдила себя Айбениз, как ни пыталась отогнать от себя прочь эту назойливую, тревожащую мысль, она не покидала девочку.
Неполная луна, туманная и печальная, высоко висела над землей. Науруз был спокоен, только раз вздохнул, взглянул не то на нее, не то на небо и прошептал:
– Нана…
«Он за мать меня принял», – подумала Айбениз, и слезы счастья выступили у нее, и она не могла их вытереть, так как руки ее были под головой Науруза…
На следующий день с утра они тронулись и три раза подряд вброд переезжали ручьи. А потом перед ними оказался мостик, до того старый и ветхий, что отец призадумался, а у Айбениз дрогнуло сердце. «Сейчас вброд пойдем», – подумала она. Но нет, ручей под мостом ревел слишком внушительно, и отец, ласково понукая заупрямившуюся лошадь, заставил ее вступить на сотрясающийся мостик.
– Это не мост, а искушение шайтана, – облегченно сказал отец, едва они перебрались на другую сторону.
Айбениз сказала себе весело и смущенно: «Четвертый, четвертый мостик!» – И она смелей стала разглядывать мужественное лицо, на которое сегодня вернулся румянец.
Науруз проспал весь день… Она вливала ему в рот воду – он жадно пил. Попробовала дать ему каймака – его вырвало.
День длился и длился, а дорога все вилась и вилась и уходила выше, каменистая, кое-где размытая весенними дождями. Мостов то долго не было, то вдруг один следовал за другим. Два раза подряд пришлось перебираться по мостам с одного берега на другой. И когда перед ними на высокой горе возник город, в бесчисленных окнах которого отражалось солнце, Айбениз могла считать себя дважды обрученной. Через шестнадцатый мост перебрались они уже возле самого городка.
* * *
Это был тот самый город, где в доме при мечети прожил всю свою жизнь дедушка Авез, отец матери Айбениз, он же Авез Рассул оглы, довольно известный среди народов Ближнего Востока поэт и философ, у которого в свое время побывал Буниат.
Расположенный верстах в семидесяти от железной дороги, город стоял на высоте летних пастбищ. Сюда с весны вместе с табунами откочевывали жители знойных долин – азербайджанцы и армяне. В летнее время с плоских крыш и балконов, а также с некоторых возвышенных мест города видны были прорезанные ущельями и поднимающиеся к ледникам неровные зеленые просторы, пестрые кибитки и пасущийся скот, словно рассыпанный горох – белый, рыжий и черный.
И так же, как горами, город этот окружен был легендами и сказками, их и посейчас неустанно записывал старый поэт. Родившись здесь и прожив всю жизнь, он и теперь на очередной встрече прочитывал иногда своим друзьям стихи, в которых воспевался родной город, сказочное местоположение его, таинственное прошлое, светлое будущее. Писатель Ахвердов, любивший посещать дом Авеза, с удивлением и восторгом говорил:
– Там, где я вижу стада безмозглых баранов в человеческом образе, которых я назвал шутки ради, в духе традиций восточной поэзии, «мои олени» – стадо тучных обжор, развратников, пьяниц и святош, – там видишь ты чертоги, населенные мудрецами.
– Наверно, мы оба правы, – с усмешкой отвечал поэт. – Если бы жители нашего города узнали, что хозяин вон той мастерской, что ютится в подвале, известный в городке под прозвищем «нелюдимый курд», Сулейман Мамед оглы, мрачный неразговорчивый человек, сочиняет басни, и такие, что мы с тобой завидуем, то они очень удивились бы. Они видят вон ту вывеску «Аптека» и подсмеиваются над чудаковатым лысым кругленьким хозяином ее Геворгом Ханаяном, а ведь мы знаем его как великолепного кеманчиста и лучшего знатока вин. Что они знают о чиновнике межевого ведомства Илье Андреевиче Петрищеве, кроме того, что он единственный из всех русских чиновников не играет в карты? А мы с тобой знаем, что в нашем друге Илье Андреевиче, которого мы называем Ильяс-ага, может быть погиб второй Шаляпин. Знают ли они, что разорившийся дворянин Рустам-бек – а он живет один в своем обветшавшем, заросшем травой доме и неизвестно чем кормится – является замечательным историком?
И пока маленький старичок в стоптанных туфлях на тоненьких ножках, поглаживая свою реденькую и кудрявую бородку, в заплатанной чохе, измазанной красками, произносил эту напыщенную, немного старомодную речь, которая вот-вот может перелиться в стихи, саркастические морщины на внушительном, умном, украшенном красивыми усами лице Ахвердова разгладились, ласковое веселье зажглось в его крупных серо-голубых глазах…
Дедушка Авез замолк, а Ахвердов в таком же тоне и в такой же старинной традиции продолжил:
– И кто из жителей нашего городка знает, что чудаковатый старикашка, живущий при мечети и по должности своей вечно враждующий с муллой, нарисовавший чуть ли не все вывески города и не пренебрегающий малярными работами, за свою жизнь переписал от руки несколько сотен редчайших книг и создал около десятка своих собственных и что песни его поют по всему Востоку?.. А там, где я вижу вонючий и дикий городишко, в котором мулла и священник соперничают между собой в невежестве, фанатизме и низкопоклонстве перед господином исправником, там видишь ты подоблачный чертог мудрецов. Что ж, друг Авез, видно, таково свойство твоего высокого ума.
Городок этот при всем своем подоблачном положении был одним из тысяч уездных городков Российской империи. В городке сидело полагающееся для него уездное начальство и чиновничество, пропадало со скуки и пило горькую, писало друг на друга доносы губернскому начальству, вертелось в клубе, играло в карты, дралось и танцевало завезенные с Запада танцы. Еще нужно добавить, что городок этот был местом ссылки самых нерадивых, в чем-либо проштрафившихся и невежественных чиновников. Народа они, конечно, не знали и знать не хотели, а лишь снисходили к местному купечеству – и то потому, что были с ним связаны взяточничеством. Тем, как живут населяющие город ремесленники, землепашцы и садоводы, они не интересовались.
Правда, исправнику было известно, что у проживающего при мечети старика Рассула оглы каждый месяц, точнее сказать каждое новолунье – в день рождения нового месяца – собирались почти всегда одни и те же люди (исправник знал их наперечет), но все это люди пожилые, связанные давней дружбой. Подозрительно, конечно, было, что такой видный человек, как член Государственной думы Ахвердов, тоже иногда бывает на этих сборищах. По слухам, почтил Авеза также наезжий из Тифлиса, беспокойный человек Джалил Мамед Кулизаде, редактор журнала «Молла Насреддин».
Но на сборищах этих главным образом пели, рассказывали сказки и пили, впрочем довольно умеренно. Исправник через муллу, ненавидевшего старого Авеза, подослал своего шпика, владеющего азербайджанским языком, – нет, ничего предосудительного на этих собраниях не происходило! Авезу, впрочем, было известно, что их подслушивают. Да и трудно ли подслушать? Пиршества происходили, если не считать зимнего времени, на стеклянной галерее, окна ее постоянно открыты, и хоть не всегда можно было разобрать, о чем говорят, но пение и музыку мог слушать всякий, стоило только подойти к мечети.
Исправник однажды, будто бы разыскивая воров, обокравших мечеть (Авез был уверен, что мечеть ограбили с участием муллы), обыскал все имеющиеся при мечети помещения. Побывал он также в маленькой комнатушке, где зимой происходили эти сборища. Очаг, находившийся в этой комнате и сложенный из самодельных, самим Авезом изготовленных плиток, несколько выдавался вперед, он был предназначен для того, чтобы можно было зажарить шашлык и обогреть комнату. Самый очаг и стены комнаты окрашены в светло-желтый, солнечный цвет, на котором ярко выделялись узоры зеленой листвы, – казалось, что вся комната оплетена ветвями. Яблоки, груши, виноград и сливы висели среди ветвей, разноцветные птицы, летящие и поющие, гибкие змеи с изумрудными глазами и пестро раскрашенными телами, разинув пасти и грозясь смертельными жалами, видны были повсюду.
– Это что? – спросил изумленный исправник.
– Ай, аллах, богохульство! Какое богохульство! Дерзкий смеет уподобиться создателю в изображении живых зверей, – сказал мулла, сопровождавший исправника.
– Это, ваше благородие, изображение рая, – смело ответил Авез. – Видите, здесь и змеи, и яблоки, и змей-искуситель. Нет только изображений людей, но тут я согласен с досточтимым нашим муллой: ислам запретил изображать человека, – да и к чему? Мы сами люди, искушения дольнего мира живут в наших душах, и нам нет нужды изображать их на стенах.
Исправник ушел, за ним – мулла, бормоча молитвы и проклятия.
Исправник не считал эти сборища явлением, достойным внимания. У него была другая работа. Неуловимая чья-то рука продолжала из года в год возмущать народ: прокламации не только Бакинского комитета, но даже порой из Петербурга и Москвы, возмутительные брошюры, явно отпечатанные за границей, продолжали залетать в заоблачный город. Сколько ни изощрялся исправник, он никак не мог поймать эту руку.
«Избранная беседа», – называл себя круг людей, собиравшихся у Авеза. Его самого, самого старшего по возрасту, они тоже, как если бы были его детьми и внуками, называли «дедушка Авез» и считали, что нет у них человека ближе Авеза. И они имели все основания так думать.
– Если аллах из-за десяти праведников сберегает этот город и не сбрасывает его в пропасть, то эти десять праведников и есть вы, мои друзья, – не раз говорил Авез.
Друзья благодарили его за такие лестные слова. Они не знали, что есть у дедушки Авеза тайна и нити этой тайны идут сюда не только из Петербурга, Тифлиса, Баку, но и далеко из-за границы, что имя Авеза знакомо и дорого тому великому учителю, который через горы, моря, через границы и кроваво-огненные линии фронтов шлет лучи своего светлого разума всем угнетенным и порабощенным. Еще со времен ленинской «Искры» лучи эти преломляются в светлой голове Авеза и рассеиваются по всем погруженным во тьму селам и пастбищам Азербайджана…
Отцу Айбениз, Мир-Али, мужу старшей дочери Авеза, кое-что известно об этих потаенных делах тестя, потому-то он и повез к нему этого молодца, который предпочел разбиться насмерть, но только не попасть в руки врагов.
Старик еще ничего не знал об этой новой заботе, которая медленно двигалась к нему со стороны Гянджи. Пока что его отягощала другая забота. Его младший сын, студент технологического института, долговязый Гафиз, приехав на каникулы, привез с собой приятеля, студента этого же института, Мадата Сеидова, сына известного бакинского нефтепромышленника. Это было бы еще ничего, но с ними был также английский корреспондент Кавказского фронта, мистер Седжер, прекрасно говоривший по-азербайджански, армянски, персидски и арабски и несколько хуже – по-русски. Оказывается, Гафиз при первом же знакомстве с англичанином (они познакомились в Баку в доме Мадата) рассказал о замечательных «беседах» избранных, происходящих в начале каждого лунного месяца в доме его отца, как раз тогда, когда, подобный ноготку ребенка – такое сравнение есть в стихах деда Авеза, – молодой месяц повисает над каменными домами города, рассыпанными по горе.








