
Текст книги "Из чего созданы сны"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)
– Она не придет, – сказал Берти. Он сидел в машине рядом со мной.
– А может, и придет. Еще без пяти десять.
– Она не может прийти. Она загремела в Охрану конституции. С тем и конец. Ей теперь шагу не ступить без присмотра.
– А может, и придет, – упрямо повторил я. Иногда Берти умеет здорово действовать на нервы. Мы оба курили и не отрываясь смотрели на освещенный лагерь, в котором все было неподвижно. Полиция все еще была там. Я увидел над болотом странные огни. Они недолго мерцали, затем исчезали, потом вдруг снова появлялись совсем в другом месте. Сильно пахло водой и гниющим мхом. – В любом случае ждем до одиннадцати. Говорю тебе, она придет. Я это чувствую. Отчетливо чувствую. Хочешь, поспорим?
– Что она придет? Это все равно что отнять шоколадку у ребенка. Нет, я не буду спорить. Прекрасная испорченная история.
– Почему испорченная?
– Без девушки?!
– Мы и одни поедем в Гамбург. Поедем в любом случае.
– Да, но без девушки…
– Берти!
– Да?
– Заткнись. Я уже не могу это слушать.
Берти обиженно замолчал. Он преодолел дистанцию лагерь – Бремен – лагерь за рекордное время. Деньги, которые он привез, я распределил в соответствии с договорами и получил расписки. Потом нам пришлось еще раз пройти через допрос криминальной полиции. Как ни странно, за все это время из Охраны конституции никто так и не появился – ни большой господин Кляйн, ни господин Вильгельм Рогге в очках с толстыми стеклами.
Наконец, мы покинули лагерь и приехали сюда. Мы сидели здесь уже сорок минут. Я спорил с Берти без всякой уверенности. Я тоже не мог себе представить, что Ирина придет, что ей удастся прийти, потому что Охрана конституции…
– Эй!
Мы оба резко повернулись. Мое сердце бешено забилось. За оградой с колючей проволокой, на земле, лежала Ирина. Она подняла руку. Я выпрыгнул из машины и пригнувшись побежал по мягкой почве к столбу.
– Пунктуально, – прошептал я.
Она только кивнула.
– Не поднимайтесь, – сказал я тихо. У меня был с собой домкрат. Берти сидел за рулем и смотрел на нас из окна. Я дал ему знак. Он завел мотор. Осторожно дал газ. Двинулся медленно, очень медленно. В тишине ночи «Ламборджини», как мне казалось, производил адский шум. Канат натянулся. Машина вдруг задергалась. «Если колеса начнут сейчас буксовать, мы пропали», – подумал я.
Колеса не буксовали. Сантиметр за сантиметром машина ползла вперед с туго натянутым канатом. Там, где на бетонной опоре была трещина, по внутренней стороне образовался разлом. Опора стала клониться наружу. Я бросился к ограде, вставил в разлом домкрат и изо всех сил рванул его вверх. Машина продвинулась еще немного вперед. Разлом стал еще чуть больше. Натянутая сеткой проволока скрежетала. Берти делал свое дело отлично. Ни разу не дал слишком много газа. Опора стонала. Все ряды проволоки, в том числе колючей, натянулись до предела.
Теперь я сделал наоборот: руками и всем своим весом я надавил на домкрат и стал отжимать его вниз. Я оторвался от земли и повис в воздухе, сильно перевесившись вниз головой – прямо перевернутая латинская U. Только бы нам теперь повезло! Только бы сейчас никто не появился! Только бы мимо не проехала машина и нас не увидел водитель! Проклятые лампы на мачтах! Я чувствовал, как по всему телу у меня струится пот. Над головой я слышал тихий скрип. Это был нейлоновый канат. Если он порвется…
Он не порвался. Нам чертовски повезло. Это было невероятно. Внезапно верхняя часть растрескавшегося бетонного основания начала со скрипом клониться наружу, сначала медленно, потом все быстрее. Она потащила за собой проволочную ограду. Дальше. Дальше. Еще дальше. Мне пришлось отскочить, чтобы меня не зацепила падавшая на меня колючая проволока.
– Пора, – шепнул я. Ирина вскочила. На ней было пальтецо, с собой никакого багажа. – Пробирайтесь по сетке на четвереньках… Она почти горизонтальная… Держитесь за узлы… Спокойно… Спокойно… Скоро все закончится… – Теперь пот заливал мне глаза. Берти выключил мотор. – Осторожно, колючая проволока… Наступайте на нее… – Она так и сделала, по-прежнему держась за наклонившуюся ограду, которая висела в метре над землей. – А теперь быстро выпрямитесь и прыгайте на меня…
– Я боюсь!
– Прыгайте! Я вас поймаю!
– А если я в колючую проволоку…
– Прыгайте, быстро! – прошипел я.
Ирина выпрямилась, слегка покачнулась, а потом прыгнула, прямо в мои объятья. Ее лицо прижалось к моему. Я почувствовал ее дыхание. Оно было чистое и сладкое, как парное молоко. «Молоко, которое во время блокады не поступало в Берлин», – пришла мне в голову идиотская мысль.
– Готово, – сказал я.
Она посмотрела на меня, и в первый раз ее печальные глаза сияли. Ирина была прекрасна…
Пока она перебиралась через ограду, Берти смотал нейлоновый канат и бросил в багажник. Мы с Ириной побежали к машине. Двухместной, как я уже говорил. Ирина устроилась между нами. Теперь за руль сел я и снова завел мотор. Двумя минутами позже мы уже ехали по убогой дороге в сплошных выбоинах. Я не осторожничал, не старался беречь свой «Ламборджини», ехал так быстро, как только было возможно. Нас бросало туда-сюда.
– Вы ведь не верили, что я приду, да? – спросила Ирина, переводя дух.
– Не верили, – ответил Берти.
Неожиданно в полосу света фар прыгнул заяц. Он бежал перед машиной и никак не мог сойти с дороги. Я на мгновение выключил свет. Когда я включил его снова, зверька уже не было.
– Я тоже, – призналась Ирина. – После того как они меня допросили в первый раз, эти двое, Рогге и Кляйн.
– И как они вас допрашивали?
– О, крайне корректно и вежливо. Но они хотели знать абсолютно все. Все! Все! Больше, больше, во много раз больше, чем вы, – сказала мне Ирина. – Так же, как и в Праге. Мне даже показалось, что я снова в Праге. Я была совершенно уверена, что после допроса они меня куда-нибудь увезут из лагеря, откуда я не выберусь. Совершенно уверена.
– Но они этого не сделали, – сказал я.
– Нет, не сделали. В соседней комнате зазвонил телефон. Рогге туда пошел и долго говорил.
– Что? С кем?
– Не знаю. Дверь была закрыта. Потом он позвал Кляйна. Они говорили очень долго. Я не могла разобрать ни слова. Потом они вернулись. Еще вежливее, еще любезнее. Это было невыносимо! И сказали, что я могу идти в свой барак. Если я им буду нужна, они ко мне придут.
– Они вас так просто отпустили? Без сопровождения и без охраны? – спросил Берти изумленно. Но я был изумлен еще больше.
– Да! Да! Просто отпустили! – Я почувствовал, что Ирина задрожала.
– Знаете, что?
– Что? – спросил я, стараясь как можно быстрее проехать проклятую дорогу и при этом не сломать ось.
– Я думаю, это связано с Яном и с телефонным звонком. Мне кажется, что они что-то узнали, что случилось в Гамбурге. И после этого потеряли ко мне всякий интерес.
– Если бы в Гамбурге что-нибудь случилось, вот тогда бы у них как раз появился к вам настоящий интерес, – возразил я.
– А почему же все не так? Что случилось? Что, господин Роланд, что? – Она схватила меня за плечо и начала трясти. Машина прыгала по колдобинам. Нас бросало из стороны в сторону. Я оттолкнул Ирину правым локтем в бок. Она взвыла от боли.
– Больше так не делайте, – сказал я. – Никогда. Понятно?
– Извините, – прошептала она. – Извините. У меня сдали нервы.
– О’кей, – ответил я. – О’кей, малышка. Пока вы не будете так делать, все будет о’кей. Мы очень скоро будем знать, что там в действительности происходит в Гамбурге, – сказал я.
Я, идиот несчастный.
21
«Откуда я пришла, никто не знает.
Всё движется туда, куда и я.
Пусть море плещет, ветер завывает —
Никто не знает тайны бытия…»
[27]
Фройляйн Луиза твердила эти строки и шаг за шагом продвигалась вперед. Ее глаза горели от пролитых слез. Она чувствовала себя жалкой, и все-таки в ней пылал ярый огонь возмущения. Левая нога. Правая нога. Левая нога. Правая нога. Она шагала по узкой тропке шириной не более двух ладоней, которая тянулась между омутами с водой и топей, вглубь болота, все дальше и дальше. Ей было тяжело дышать. У нее болели ноги. Взлетали утки. Блуждающие огни, которые были ей так хорошо знакомы, плясали, загорались, исчезали. Было полчаса до полуночи. На фройляйн Луизе было старое черное пальто и капор с завязками. В руках – довольно большая сумка. Луна светила на ее белые волосы. Дальше! Дальше! Она торопилась. Там впереди, на возвышении, она видела темные фигуры. Друзья ждали ее. Она не должна заставлять их ждать. Они позвали ее, когда фройляйн Луиза уже лежала в постели, без сна, терзаемая мучительными мыслями, они пришли и поговорили с ней.
– Мы всегда здесь для Луизы…
– Пусть Луиза к нам придет, к нам на болото…
Она встала, оделась и пошла. Охрана у входа в лагерь увидела ее и поприветствовала, когда она отпирала калитку у ворот. Лагерный полицейский знал, куда она идет. Он давно уже был нездоров, и когда, в такие минуты, он видел фройляйн Луизу, ему очень хотелось тоже во что-то верить, тоже иметь возможность поговорить с высшими существами, чтобы сказать им, какие заботы и печали его тяготят. Но он не мог, потому что не умел верить, просто не получалось, он пытался, много раз…
Фройляйн Луиза торопилась дальше. В лунном свете серебром отливали голые стволы берез, лунный свет освещал тропинку под ногами. Но она не смотрела на землю, она смотрела вперед, туда, где ждали ее одиннадцать друзей, застывшие, неподвижные. Болотная сова снова и снова снижалась над головой фройляйн. «Болотная сова удивляется, она, наверное, принимает меня за куст можжевельника, – думала фройляйн, – и не может себе объяснить, как это куст можжевельника бегает». Да, бегает, потому что теперь фройляйн действительно бежала по тропинке, которую знали только она и старый крестьянин, показавший ее. Она ходила по ней так часто, что знала наизусть каждый поворот, каждое узкое место. Так спешила она по тропе в лунном свете, между бездонными омутами с водой и обманными плавающими островками травы. И для поддержания духа разговаривала сама с собой. То, что она говорила, она знала уже давно. Лет двадцать, не меньше. Она уж и не помнила, откуда она это знала. Иногда ей казалось, что этим словам ее научили ее друзья. А потом ей начинало казаться, что когда-то давно, сразу после войны, она смотрела удивительный фильм, в котором действие тоже происходило между временем и пространством и в котором звучали эти стихи, навсегда оставшиеся в памяти фройляйн…
«…Ответа нет, откуда ветер веет.
Куда умчит – никто спросить не смеет.
Откуда я иду – там бесконечность.
Куда иду – там распахнется вечность…»
По правую руку раскинулось огромное, чернеющее в ночи мертвое пространство без признаков жизни. Это было место, где в прошлом году вспыхнул большой пожар. От Пасхи до начала зимы он все не гас. И долго тлел даже под первым снегом. Только отводные каналы не позволили огню сжечь весь торф на болоте. Пятьсот моргенов[28] были точно так же обуглены до самой песчаной полосы со всеми косулями, оленями и множеством птиц в гнездах. Потом полетели на черный торфяной уголь вместе с ветром семена диких роз, уцепились за почву, и весной все огромное пожарище покрылось зеленью. Летом на длинных стеблях появились бутоны, и потом, несмотря на бесконечные дожди, там, где совсем недавно были только копоть, мертвое пространство и черная почва, все заполыхало красным и розовым цветом. Чудесный розовый сад, огромный, больше не бывает. Фройляйн постоянно приходила сюда из лагеря, в этот сад, сияющий алым цветом, и радовалась ему. Теперь цветы давно завяли, и вокруг снова простиралось черное пространство, обугленная земля, которой нужны были годы и десятилетия, чтобы восстановиться и ожить.
Все это и последующее рассказала мне вчера фройляйн Луиза. Пока я пишу, я иногда приезжаю к ней. Редко. Слишком редко. Надо делать это чаще. Я пишу лихорадочно, я хочу только одного: продолжать и закончить, полностью закончить. То, что я знаю, нужно сохранить. Я должен сберечь свои знания, эти знания о многих тайных и смертельных вещах. Я должен быть очень осторожным. Так я и делаю. Вчера я опять был у фройляйн Луизы. Она меня любит, и она мне доверяет.
– Вы хороший человек, – сказала она.
Я запротестовал.
– Ну, раз так, может, и нет, – рассудила фройляйн, – но вы же хотите стать хорошим.
– Да, – согласился я. – Этого я, пожалуй, хочу.
– Вот видите, – сказала фройляйн. И потом рассказала мне, что случилось в ту ночь. И вот я сижу и записываю ее рассказ.
22
Если не знать точно, как фройляйн Луиза, что это были одиннадцать мужчин, то можно было бы поклясться, что это одиннадцать ветел, которые среди ночи, подернутые легким туманом, в бледном свете луны стоят, похожие на людей, на мягком возвышении посреди болота в конце тропинки, в окружении кустарников и камышей. Задыхаясь, добралась фройляйн Луиза до места. Первым ее поприветствовал русский.
– Наконец-то матушка пришла. По-настоящему добрый вечер.
– Добрый вам вечер, счастливые, – ответила фройляйн Луиза.
Другие тоже поздоровались.
Русский был коренаст. На нем была защитного цвета форма, в которой он воевал.
– Мы так рады, – сказал русский, – что Луиза снова с нами.
– Представьте себе, как я рада, – отозвалась фройляйн.
Вокруг нее в болоте мерцали блуждающие огни. Когда-то до войны русский был великим клоуном, прежде чем ему пришлось стать солдатом. Люди смеялись над ним до слез, когда он кувыркался на манеже цирка. Но без грима и маски его лицо выглядело серьезным.
– Вы, конечно, знаете, что случилось, – произнесла фройляйн Луиза, и ее одиннадцать друзей молча кивнули. – Вы знаете также, что Ирина сбежала – вероятно, с этими приезжими репортерами. Они сломали бетонный столб у ограды, а сетку ограды сорвали. Там-то она, конечно, и перелезла. Я обнаружила по дороге сюда. И следы автомобильных колес. Вы это тоже видели, да?
Друзья снова кивнули.
– И как они уезжали? – спросила фройляйн.
– Да, Луиза, – ответил американец. Он был крупным мужчиной и все еще носил свой летный комбинезон.
– Этот Роланд и другой, фотограф, эти несчастные грешники. Они еще обеими ногами на этом свете.
– Но и для них есть надежда, – сказал свидетель Иеговы. На нем была бело-серая полосатая роба, похожая на пижаму, с полинявшими полосками на штанинах. В одной руке свидетель Иеговы держал красную книгу.
– Вы только предполагаете? – неуверенно спросила фройляйн Луиза. – Или точно знаете?
– Мы всё еще так мало знаем, – сказал украинец, в тужурке, в брюках из рубчатого плиса и убогих сапогах на деревянных подошвах. Лицо его было похоже на пашню, так оно было изборождено морщинами, такое землистое, такое старое. – Собственно, мы почти ничего не знаем.
– Но вы верите в это? – спросила фройляйн. – Вера надежнее, чем знание.
– Да, мы в это верим, – откликнулся поляк. – Но не это важно. Луиза должна верить, только она сама, – настойчиво говорил поляк. Он тоже все еще носил свою униформу, сильно потрепанную.
– Все зависит от того, что ты хочешь сделать, – сказал немецкий студент, самый молодой из всех. Он был в сером тиковом костюме и грязных сапогах, доходящих до икр. Студент был единственным, кто обращался к фройляйн на «ты». Все остальные говорили о ней в третьем лице. Фройляйн Луиза посмотрела на студента и снова почувствовала, как он трогает ее сердце. Этот юноша напоминал ей о чем-то, что было в ее долгой жизни. Она никогда не могла вспомнить, о чем именно, и в этом неясном воспоминании была неутихающая, но сладкая боль.
– Наша Луиза хочет ехать в Гамбург, – сказал студент. – Как можно скорее. Она уже надела свое зимнее пальто и прихватила свою сумку, потому что она так торопилась. Нужно ей ехать в Гамбург? Мы одобряем?
Остальные молчали.
– Дети! – страстно воскликнула фройляйн Луиза. – Дети! Они же оба были только детьми… мой бедный Карел… и Ирина тоже! Карела они у меня убили, Ирину они у меня похитили и увезли – Бог знает, куда! Я не могу этого допустить! Я не хочу этого допустить! Я… – Ей не хватало воздуха. – …Я должна найти Ирину, и я должна найти человека, который убил Карела! И этого человека нужно спасти! Потому что он убил! Это обязательно должно у меня получиться, чтобы мой мертвый Карел мог его простить и избавить! И потому этот человек должен покинуть этот мир!
А одиннадцать мужчин молчали.
– Вы считаете точно так же! – воскликнула фройляйн, все больше и больше выходя из себя. – Вы же знаете, что я права! Что есть высшая справедливость! И что она никогда не свершится, если я об этом не позабочусь!
А одиннадцать мужчин смотрели на нее и молчали.
– Говорите же! – закричала фройляйн рассерженно. – Если вы не заговорите, зло снова победит! Несправедливость и произвол будут снова господствовать на этом свете, на котором и вы пострадали до вашего избавления!
Штандартенфюрер СС, рослый человек с длинным узким лицом, у которого когда-то была майонезная фабрика в Зельце под Ганновером, печально сказал:
– Я не страдал. Я приносил страдания невинным.
На штандартенфюрере была черная униформа и высокие сапоги.
– Ты же это признал, – утешая его, произнес голландец. Голландец был одет в старый цивильный костюм и рубашку без воротника.
– Невинные, которым ты принес страдания, привели тебя к более высокому уровню существования, – добавил русский.
– Ну, так, – упавшим голосом ответил штандартенфюрер.
– И ты вместе с нами лежишь в болоте, – подвел итог поляк.
– Не вместе с вами, – возразил штандартенфюрер опечаленно. – Нет, не вместе с вами.
Фройляйн понимала, что он имел в виду. Других, когда они умирали, нацисты просто бросали в болото в мешках, заложив туда несколько камней. Штандартенфюрер встретил свою смерть, когда лагерем управляли британцы. Они подыскали для этих целей место позади лагеря, где почва была потверже, выкопали там могилы и опускали туда мертвых пленных нацистов в деревянных гробах. Это и имел в виду штандартенфюрер, когда говорил, что лежит не вместе с друзьями.
– Ты лежишь в том же болоте, что и мы, – сказал русский. – Ты умер там же, где и мы. Какая разница – мешок с парой камней или деревянный гроб в могиле? Вообще никакой!
– Там, где мы сейчас, там все люди равны, – добавил украинец.
– Ну так сделайте же теперь так, чтобы справедливость восторжествовала! – закричала фройляйн нетерпеливо, страшно нетерпеливо.
– Справедливость – не наше дело, – сказал американец.
– Нужно отказаться от этой мысли, – сказал русский.
– Почему? – прокричала фройляйн Луиза.
– Потому что это вредно для справедливости, – ответил голландец.
Это окончательно вывело фройляйн из себя.
– Для справедливости вредно только то, когда ничего не происходит! – закричала она. В следующую минуту все поплыло у нее перед глазами, а когда картина вокруг прояснилась, одиннадцать мужчин исчезли, и фройляйн Луиза увидела вокруг себя одиннадцать старых чахлых ветел. Она вдруг почувствовала, как она одинока, абсолютно одинока, далеко-далеко на болоте.
– Не надо! – закричала она в ужасе. – Не надо, не-ет… Не уходите… Вернитесь…
Но никто из одиннадцати не вернулся.
Тогда фройляйн Луиза упала на колени, в отчаянии сжала руки и прошептала:
– Я кричала… Я сама виновата в том, что они исчезли… Я кричала… А если я кричу, они исчезают…
Над болотом пролетела на ночные учения эскадрилья «старфайтеров». На фюзеляже и на несущих поверхностях самолетов мигали красные, зеленые и белые позиционные огни, но фройляйн их не видела. Она так глубоко ушла в себя, что ее сложенные руки и лоб касались земли. Всхлипывая, она шептала:
– Простите меня… Пожалуйста, простите меня… Я больше никогда не буду кричать… Только вернитесь… Вернитесь ко мне… Я ведь так одинока… И вы мне так нужны… Умоляю вас, ради Христа, вернитесь…
Порыв ветра прошелестел над ней, и к своему бесконечному облегчению – о, миг блаженства! – она услышала голос голландца:
– Мы здесь, Луиза.
23
– Простите мне, пожалуйста, что я кричала, – произнесла фройляйн. Ее друзья кивнули.
Чешский радист, приземистый, маленький, с веселым лицом, одетый в британскую униформу, сказал:
– Раньше, в мире Луизы, я часто кричал. От радости. Или от ярости. Но как живой на живых. Это большая разница. На мертвого кричать нельзя. Тогда он должен исчезнуть. Просто должен.
– Это все потому, что я была в таком отчаянии, – сказала фройляйн. – Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Мне нужно позаботиться об Ирине. Нужно найти убийцу малыша Карела. А вы не считаете, что я должна это сделать?
Американский пилот ответил:
– Если что-то непременно хочешь сделать, то это удастся.
– Да? – в радостном волнении спросила фройляйн Луиза. Как странно! Перед исчезновением друзья сомневались, правильно ли она решила ехать в Гамбург. Теперь, похоже, их мнение изменилось.
– Да, – подтвердил американец.
А русский спросил:
– Но почему матушка так торопится, так спешит? Время… – он запнулся, а потом продолжил: – Время, правда, земное понятие. В нашем мире времени нет. Но то, что матушка в своем мире называет временем, работает на нее. Пусть она не будет нетерпеливой. Добро в конце концов всегда побеждает.
– Но пока что не всегда в моем мире! – тихо сказала фройляйн Луиза.
– Верно, часто нет. Но тогда в нашем. А какое это имеет значение? – спросил русский.
– Для меня большое. Я не могу так долго ждать. Я уже старая, – ответила фройляйн Луиза.
Украинский крестьянин, угнанный на принудительные работы и здесь погибший, сказал:
– Кто-то по сравнению с нами Высший будет помогать Луизе и направлять ее. А мы дадим ей силы нашей надеждой и нашими молитвами.
– Этого недостаточно, – удрученно сказала фройляйн Луиза. – Всего этого недостаточно. Я ведь одна. В полном одиночестве я должна бороться на этом свете против всемогущего зла.
Штандартенфюрер покачал головой:
– Луиза вела отважную жизнь. И если Луиза и теперь будет бороться с высшим напряжением сил, то, в конечном счете, неважно, окончится это успешно или нет. Не спрашивайте об успехе.
– Но я должна его спрашивать, – возразила фройляйн Луиза. – Я на этом свете. Я не вынесу, если мне это не удастся.
– Потому что она еще жива. Это несчастье Луизы, – проговорил штандартенфюрер.
– А ты? – спросила фройляйн Луиза француза, который когда-то был репортером судебной хроники в Лионе и умер здесь пленным пехотинцем. Француз, одетый в старую униформу и ботинки с обмотками, был еще совсем молодым. С вечной иронической усмешкой на устах. Он сказал:
– В принципе, я придерживаюсь мнения нашей подруги.
– Да? – удивилась фройляйн.
– Да. – Он поднял голову и глубоко вздохнул. – Погода меняется, – сказал он. – Приближается буря. – «Но он же умер, и для него это не имеет никакого значения, – думала фройляйн, – и астмы у него теперь нет!» А француз тем временем говорил:
– Но слишком много действия на земле всегда приносит зло. Может быть, предоставим лучше это дело кому-то Высшему, которого мы хоть и не достигли, но можем чувствовать лучше, чем Луиза.
От этих слов фройляйн опять пала духом и тихо заплакала.
– Я вам верю, – проговорила она. – Скоро я буду с вами. Я вас люблю. Но я вас не понимаю. Почему именно сегодня я не понимаю вас?
– Именно потому, что мы друзья, – ответил свидетель Иеговы в полосатом серо-белом тиковом костюме. Потом бывший служащий сберегательной кассы в Бад-Хомбурге поднял руку с красной книгой. – Маленький Карел вырван из злого мира и ступил в наш добрый. Это такое счастье! Все сущее на свете служит только для того, чтобы прийти к Богу. И если бы с Ириной что-то случилось, то она была бы счастливее, чем сейчас. Поэтому я считаю, что все идет своим путем к добру, путем, предначертанным Всемогущим Господом.
– Послушай меня, мой друг, – сказал норвежский повар, которого арестовали и привезли в лагерь «Нойроде» как коммуниста. Он был очень крупным, еще больше американца, и носил робу узника концлагеря с красным треугольником политзаключенного. – Пока все люди не будут по правде жить в мире и дружбе друг с другом, до тех пор будут угнетатели и угнетенные, убийцы и их жертвы. Поэтому я считаю, что Луиза должна начать борьбу. Все больше людей вступают в борьбу за победу добра.
– Я поддерживаю то, что сказал повар, – высказался голландский книгоиздатель из Гронингена.
– И вы стали бы действовать так, как хочу действовать я? – взволнованно спросила фройляйн Луиза.
– Да, – одновременно ответили норвежский повар и голландский книгоиздатель.
– Вы меня понимаете! – воскликнула фройляйн, снова обретая надежду.
– Я тоже буду действовать, – отозвался польский артиллерист, который когда-то преподавал математику в Варшавском университете.
– Ты тоже? – вскрикнула фройляйн Луиза.
– Конечно, я тоже, – подтвердил поляк.
– Ты коммунист?
– Был им при жизни. И я взял с собой в высшие сферы все, что было в этом доброго и вечного, – ответил поляк.
– А ты, Франтишек? – спросила фройляйн Луиза чеха, бывшего архитектора из Брюнна. Он был ее земляком и единственным, кого она называла по имени. К остальным друзьям она обращалась просто со словом «ты».
– Ну разве не глупо, что малыши вечно бегают повсюду, как угорелые! Хоть сто раз им говори, чтобы были осторожными! Разве будут? Нет. Как глупо, в самом деле!
– И это все? – разочарованно спросила фройляйн Луиза.
– А что? Ах, да. Нет. Конечно, нет. Я буду действовать так же, как моя землячка, – ответил чех.
– Я тоже за Луизу, – сказал худой, слабый юноша, отбывавший трудовую повинность.
– Ты тоже! – обрадовалась фройляйн. А про себя подумала: «А как же! Он же мой любимец. Разве мог он поступить иначе?!»
– Да, я тоже, – повторил он. – Потому что во время учебы я ясно понял: на этом свете станет лучше только тогда, когда философы начнут действовать.
– В точности мое мнение, – поддержал норвежский повар.
– Послушайте меня, – сказала фройляйн взволнованно. – Прошу вас, послушайте меня! Мне нужно вам еще кое-что рассказать.
А ночное болото было полно шорохов и жизни, полно жизни и полно смерти.
24
– Вам известно, – сказала фройляйн внимательно слушавшим мертвецам, – что моя мать рано умерла, когда ей было только тридцать шесть лет. Я была единственным ребенком, и после ее смерти я совсем отчаялась. Вы ведь знаете, да?
Мертвецы кивнули.
– Мой отец был стеклодувом. Тихий человек. Люди в Райхенберге всегда говорили, что он знает много тайн. Мы с ним оба очень любили мать! Ну, вот, как он увидел, что я так убиваюсь, то поговорил со мной, примерно так: «Перестань плакать, Луиза, – сказал он, – не печалься. Мать умерла слишком рано. У нее не было времени пережить и сделать все, что ей было предназначено. Но когда человек умирает преждевременно, до назначенного ему срока, – сказал он, мой отец, – тогда его душа может вернуться в этот мир, чтобы завершить то, что осталось незавершенным». Это правда?
Мертвецы посмотрели друг на друга. Они казались озадаченными.
– Я вас спрашиваю, это правда?
Мертвецы долго молчали. Наконец, студент-философ сказал:
– Да, правда.
– Души тех, кто умер слишком рано, если захотят, – добавил американец, – могут вселяться в тела живущих.
– Так же говорил и мой отец! – воскликнула фройляйн Луиза. – Души могут вселяться в тела живущих! И могут определять поступки живущих, их мысли и деяния!
– Луизин отец хотел ее, конечно, утешить, – сказал свидетель Иеговы.
– Конечно, – согласилась фройляйн Луиза. – Но дальше он говорил так: «Это только кажется, что наша мать от нас ушла. Если она захочет, ее душа вернется к нам. В нас. И когда мы творим добро, и когда поступаем справедливо, и когда нас направляет наш внутренний голос, то мы должны понимать: это голос матери, которая говорит внутри нас». Так мне говорил мой отец, и вы сейчас говорите то же, вы говорите, что это так.
Она смотрела на своих друзей, а друзья смотрели на нее и молчали.
– Вы все, присутствующие здесь, – торжественно, как клятву, произнесла фройляйн Луиза, – умерли преждевременно. До своего срока. Вы все не смогли завершить то, что вам было предназначено. Значит, вы можете, вы все можете вернуться, если только захотите!
– Нам не нужно возвращаться, – ответил поляк. – Мы и так здесь.
– А наши души могут вселиться в живых, если мы решим, что можем направить бедняг, живущих на земле, к лучшему бытию, – добавил русский.
Фройляйн Луиза молитвенно сложила руки.
– Решите так! – сказала она умоляюще. – Я прошу вас! Я вас заклинаю! Я слишком старая и слабая и одна справиться не смогу! Мне нужна помощь! Ваша помощь! Другой у меня нет. У живых ожесточились сердца. Им знакомы только ненависть и ложь… Все богатые и могущественные… Все политики и человекоубийцы с орденами, они ведь мне не помогут, нет… Они только возлагают венки, пожимают руки, обнимаются, целуют маленьких детей, а сами – лжецы, все до одного… Они меня не заботят, а мои дети не заботят их! Почему? Да потому что они не знают, что такое невинность! Потому что они и мысли не допускают о вашем мире!.. Вы меня слушаете?
– Очень внимательно, Луиза, – отозвался американец.
– Я изменил свою точку зрения, – заявил украинский крестьянин. – Я думаю теперь так же, как повар, профессор и остальные, кто думает, как Луиза.
– Ты считаешь, что мы действительно должны заняться земными делами? – с сомнением спросил француз.
– Да, да, конечно! И помочь мне! Поддержать меня! – воскликнула фройляйн.
Мужчины опять помолчали. Некоторые что-то бормотали про себя.
– Луиза должна знать, что если мы это сделаем, это будет опасно, – произнес француз. – Потому что наш мир совсем иной, и Луиза не может полностью представить его себе. И ни один живущий не может. Это действительно опасно.
– Но почему? – воскликнула фройляйн.
– Потому что сейчас у нас нет страстей и мы друзья. А в мире Луизы – кем мы будем там? Сможем ли мы остаться друзьями?
– Конечно, – сказал норвежец. – Мы же узнали, что такое добро и зло.
– Тем не менее, – вставил француз.
– Вернитесь в мир, прошу, я прошу вас! – умоляла фройляйн. – Вы будете творить только добро, я знаю. Вы же прошли чистилище. Вы теперь не сможете делать зло, это невозможно! Так вы вернетесь?
Мужчины плотно сомкнулись, фройляйн Луиза стояла в сторонке. Она не могла разобрать, о чем шептались эти одиннадцать. Они совещались. А фройляйн Луиза смотрела, как лунный свет протянул через болото мост, словно мост между царством живых и царством мертвых.
– Ну, так что? – спросила фройляйн Луиза. – Что вы решили?
– Мы попытаемся помочь Луизе, – ответил американец.
– Но я повторяю: это опасно, – заявил француз.
– Да успокойся ты, – сказал норвежский повар.
– Я только хотел, чтобы это прозвучало еще раз, – сказал француз, со своей вечной усмешкой на устах.
Фройляйн Луиза очень волновалась:
– А когда вы будете мне помогать, вы будете знать друг друга?



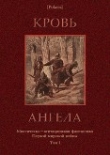
![Книга Жук [Том II] автора Ричард Марш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zhuk-tom-ii-263993.jpg)



