
Текст книги "Из чего созданы сны"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 45 страниц)
– С удовольствием, господин Херфорд, – вякнул этот моллюск.
Я поднялся и сказал:
– Я не буду писать «Мужчину как такового», господин Херфорд.
Мне было не по себе, но это заметил только Хэм.
– Еще как будете! – взвыл Херфорд.
Не выбирая, он выхватил пилюли из баночки и проглотил, не запив водой. Он поперхнулся, потом продолжил:
– Вы у Херфорда на договоре! Это Херфорд сделал из вас то, что вы сейчас есть! Это у Херфорда вы и научились писать! Так что больше ни слова, поняли?!
– Больше ни слова, да. Я не буду писать больше ни слова.
Он, поджав губы, смерил меня уничтожающим взглядом.
Я ответил ему кривой усмешкой.
Он тихо прошипел:
– У вас долгов больше чем на двадцать тысяч.
– Да, – сказал я.
– Вы живете в квартире, принадлежащей издательству.
– Да, – сказал я.
– У вас баснословный оклад. Скажите еще раз ваше «да», и Херфорд не знаю что с вами сделает! Роланд, сукин сын, вы будете писать «Мужчину как такового» и так, как еще никогда не писали! Или, видит Бог, Херфорд… Херфорд…
– Да? – сказал я. – Или вы вышвырнете меня, это вы хотели сказать? Ну так, вышвыривайте меня, господин Херфорд! Ну, давайте, давайте!
Он задрожал всем телом:
– Вы, сучье отродье, грязный, подлый выродок! Что вы о себе думаете? Если Херфорд вышвырнет вас, думаете, вас куда-то возьмут?! Вы так думаете?! Ха-ха-ха!
– Херфорд, Херфорд, пожалуйста!..
– Ха-ха-ха! – разразился Херфорд неистовым смехом и бушевал дальше: – Если Херфорд вас вышвырнет, то ни в один иллюстрированный журнал – да что там в журнал – в жалкую газетенку, в последний бульварный листок вас никто не возьмет! Мы им такое порасскажем, что никто просто не отважится взять вас! Вас, жалкого пропойцу! Вас, бабника! Вас, политического двурушника! Это вас проучит! Будете голодать, если Херфорд вас выкинет, поняли? Херфорд уничтожит вас! Слышите, Херфорд уничтожит вас! Слышите?!
– Слышу. Вы уничтожите меня, господин Херфорд. Было достаточно громко сказано. Что ж, пусть дойдет до этого. – Мое сердце колотилось с неимоверной силой. Сейчас, именно сейчас я должен решиться. Сейчас или никогда. Если я этого не сделаю, я больше никогда не смогу посмотреть Ирине в глаза. – Я не напишу для вас больше ни строчки, господин Херфорд!
– Подлый, неблагодарный подонок! – взвизгнула Мамочка.
Ротауг промолвил ледяным голосом:
– Вспомните, господин Херфорд, что я вам сказал однажды, много лет назад…
Не знаю, вспомнил ли Херфорд, но я-то вспомнил: «…Роскошный мальчик, но, попомните мое слово, однажды благодаря ему вы поимеете самый страшный скандал в истории нашего издательства…»
Ах ты, хитрая лиса Ротауг, ты, знаток человеческих душ! Вот мы и приехали!
– Все, с меня довольно! – неистовствовал Херфорд, пунцовый от гнева. – Ввиду вашего непотребного поведения объявляю вам увольнение без предупреждения…
Я посмотрел на Берти и Хэма. Берти ответил мне печальным взглядом, Хэм на мгновенье прикрыл глаза. Это значило, что они одобряли все, что я тут говорил и делал. Да, это было единственно возможное, что я мог сделать. Я сказал:
– Вам незачем объявлять мне об увольнении, Херфорд. Я ухожу. Я! Немедленно. Описывайте мое имущество! Подавайте на меня в суд! Ославьте меня! Делайте, что хотите! Но с меня довольно! По гроб довольно! Оставайтесь с миром! Хотя нет, мира вам не видать! – Я двинулся по нескончаемому ковру к выходу.
– Роланд! – взревело позади меня.
Я не сбавил шага. «Хва-тит, хва-тит» – колотило мое сердце.
– Роланд! Остановитесь! Стойте!
Я шагал дальше. Ко-нец. Ко-нец. Ко-нец, наконец!
– Роланд, остановитесь!
Я остановился. Я повернулся.
Он стоял там, за своим столом, задыхающийся, рука прижата к груди, мертвенно бледный, и снова хватался за свои пилюли. Мамочка подбежала к нему и схватила его за руку.
– Херфорд требует, чтобы вы незамедлительно… – превозмогая себя, начал Херфорд.
Но я перебил его, твердо, негромко:
– Господин Херфорд…
– Да… что?..
– Поцелуйте мою задницу, господин Херфорд! – сказал я, повернулся и быстрым шагом вышел из кабинета.
И мне казалось, что с каждым шагом с меня слетают ошметки ненависти, вины, унижения этих лет, всех этих лет, что я прожил в этом стойле, в этой насквозь прогнившей «фабрике грез» на потребу массовому оглуплению, в этой роскошной тюрьме со сроком в четырнадцать лет.
О да, я чувствовал себя великолепно. Как никогда раньше. Только в существование всемилостивого Господа я больше не верил, как это было всего лишь час назад.
5
Уведомление об увольнении без предупреждения, подписанное доктором Ротаугом, в котором мне предлагалось на следующий день, к десяти часам явиться в издательство, пришло с нарочным еще в тот же день. Ирина жутко испугалась, но я успокоил ее – я все еще пребывал в состоянии эйфории. «Никакого „Блица“! Больше никакого „Блица“! Все остальное еще сложится», – думал я.
Все остальное и сложилось – и как!
На следующий день, войдя в издательство, я дружески поздоровался с портье, великаном Клуге, с которым был знаком уже много лет – он на моих чаевых мог бы сколотить состояние. Но господин Клуге странным образом не узнал меня и заставил несколько минут простоять, пока он вел беседу с другими посетителями. Потом:
– А, господин Роланд… – окинув меня равнодушным взглядом, он поискал в своем списке. – Вы уволены без предупреждения – стоит здесь. Позвольте ваш ключ от лифта.
– Послушайте, как вы со мной разговариваете?!
– Господин Роланд, пожалуйста, ваш ключ!
Я подал ему ключ от «бонзовоза» – он даже спасибо не сказал, а повернулся к некой юной даме, которая начала ему объяснять, что поступила сюда в качестве волонтерки.
Я прошел к «пролетчерпалке», перед которой уже стояли семеро, и вместе с ними стал терпеливо ждать, когда же, наконец, придет убогий подъемник. Он пришел через четыре минуты. Мы все втиснулись в кабину, в которой жутко воняло, и вот таким образом я поднялся в отдел доктора Ротауга. Все, с кем я ехал, старались не смотреть мне в глаза. Никто не проронил ни слова.
Ротауг заставил меня ждать ровно полтора часа, пока, наконец, не нашел для меня времени. Когда я вошел в его кабинет, отделанный красным деревом, он стоял навытяжку, подтянутый и враждебный. Руки он мне не подал. Он указал мне на самое неудобное кресло, и когда я сел, принялся расхаживать по своему кабинету на прямых негнущихся ногах. Так он и маршировал в продолжение всего разговора, то и дело дергая свой воротник или дотрагиваясь до великолепной жемчужины в галстуке. Он был исполнен ледяной сдержанности и великого триумфа. Он всегда терпеть меня не мог и теперь явственно выражал это.
Это был милый разговор, ничего не скажешь!
Ротауг потребовал от меня во-первых, вернуть аванс в двести десять тысяч марок, во-вторых, немедленно освободить принадлежащую издательству квартиру.
– У меня нет двухсот десяти тысяч марок, это вам доподлинно известно.
– Разумеется, известно, господин Роланд. – Он все чаще останавливался, слегка раскачиваясь. Вот и сейчас. – У меня нет на вас времени, я слишком занят. Существуют две возможности…
Он озвучил их мне.
Первая состояла в том, что издательство предъявит мне иск. Я проживаю в служебной квартире, наши отношения, вытекающие из трудового договора, разорваны в результате моего «исключительно беспардонного поведения», таким образом, я более не обладаю правом на проживание в пентхаузе. Суд присудил бы мне все личное имущество – за исключением полагающегося по закону минимума – передать в собственность издательству, чтобы хотя бы частично погасить мою задолженность. После этого я как должник должен буду дать в суде показания под присягой о своем имущественном положении, затем будут производиться постоянные проверки судебными исполнителями, которые имеют право накладывать арест на деньги, возможно заработанные мною в этот промежуток времени – также за исключением прожиточного минимума.
– А так как вряд ли приходится ожидать, что вы в обозримом будущем будете располагать значительными денежными суммами, – продолжал Ротауг, – советую вам использовать вторую возможность – возможность, представляющую собой не заслуженную вами уступку со стороны издательства.
– А именно?
– Вы признаете ваши долги. В течение десяти дней вы освобождаете служебную квартиру. Разумеется, мебель, ковры и прочее остается в нашем распоряжении. Равно как и банковские счета и драгоценности. Ну, и ваша машина, естественно. Все это, конечно, не покроет двухсот десяти тысяч. – Ротауг раскачивался. Он почти дошел до оргазма, так возбуждал его наш разговор. – У нашего нотариуса вы подпишете признание долгов – ваше имущество будет оценено и вам будет предъявлен только остаток долга – затем исполнительный лист. В вашем случае Херфорд в своем великодушии, которое мне совершенно непонятно, готов оставить вам вашу одежду, пишущую машинку, некоторую часть вашей библиотеки и еще кое-какие мелочи. Я советую вам принять это не заслуженное вами любезное предложение издателя. Итак, ваш ответ? Пожалуйста, решайте быстрее. Я очень спешу.
Свинья, торопится подлец.
– Я принимаю любезное предложение господина Херфорда, – сказал я.
– Хорошо. И еще: мы спишем большую сумму – большую, учитывая ваше отчаянное положение, – если вы выразите готовность передать «Блицу» ваш псевдоним «Курт Корелл»! Для дальнейшего его использования.
Я молчал, сжав кулаки.
– Ну, – спросил он, раскачиваясь.
– Чтобы вы могли украсить им «Мужчину как такового», да?
– Естественно, – усмехнулся он. – Корелл – это имя, для этого оно нами и создано. Без нас и нашей поддержки вы бы так и остались нулем без палочки. Итак?
– Нет.
– Вы не передаете нам псевдоним?!
– Нет.
– Ни при каких условиях?
– Ни при каких условиях, – подтвердил я, охваченный внезапной яростью. – Корелл должен исчезнуть, навсегда! Должен, должен, должен!
– Ни за какую сумму?
– Ни за какую! Забудьте о нем! Это имя принадлежит мне. И вместе со мной оно исчезнет. Если же вы посмеете его использовать вопреки моей воле…
– Ну-ну-ну! Вы совсем обнаглели, без этого вы не можете! Обойдемся и без Курта Корелла, а вот сможете ли вы без нас обойтись, очень сомневаюсь. А теперь, будьте любезны документы на машину и ключи. «Ламборджини» прямо сейчас остается здесь. А во второй половине дня я приду к вам с официальными оценщиками, и еще посмотрим, чего стоит ваше имущество! Само собой разумеется, в то же время вы передадите мне все магнитофонные записи, относящиеся к последнему делу, что вы расследовали, и всю письменную документацию по нему. Ваша чековая книжка у вас с собой?
– Да.
– Позвоните в банк и попросите сообщить вам состояние вашего счета. Я буду слушать по параллельному телефону.
Я позвонил. И потому как фройляйн, обслуживающая мою группу счетов, знала меня по голосу, я незамедлительно получил справку. Ровно двадцать девять тысяч дойчмарок – я как раз должен был снять большую сумму для выплаты налогов.
На сумму в двадцать тысяч доктор Ротауг заставил меня выписать чек и забрал его. Девять тысяч дойчмарок он великодушно оставил мне.
– Других счетов у вас нет?
– Нет.
– Я предупреждаю вас. В случае если вы солгали, и мы обнаружим еще какой-то счет, мы подадим на вас в суд. Теперь вы должны подписать заявление под присягой.
Я просто кивнул.
Мысль, как можно быстрее переписать все кассеты, пришла в голову Берти. Он занимался этим всю ночь. Хэм сделал фотокопии со всех моих записей.
– Сегодня ваше имущество будет оценено, завтра вы должны явиться к нашему нотариусу, хоть это и выходной день, – скорбно заявил Ротауг. – Он примет вас. Это все. С оценщиками я буду у вас в три.
С тем он и покинул свой кабинет. Я поднялся и пошел – ни одна из секретарш не ответила на мое приветствие – к «пролетчерпалке», на которой и спустился вниз. И сейчас все, кто ехал со мной, избегали смотреть на меня. Я спустился в подземный гараж, погладил напоследок свой «Ламборджини» и, не оглядываясь, вышел. Весь обратный путь до дома я прошел пешком. День был холодный, и я с наслаждением вдыхал свежий воздух. И еще одна мысль доставляла мне удовольствие: в пентхаузе, который пока что оставался моим, был встроенный стенной сейф. Там обычно я хранил деньги и мои три неоправленных чистой воды бриллианта больше чем на три карата, которые я теперь передал на хранение Берти, как и двенадцать тысяч марок.
Ирина приготовила печень по-португальски и храбро встретила меня веселым выражением лица. Я тоже изобразил полную беспечность. Да, собственно, так оно и было. И еще у меня разыгрался жуткий аппетит.
Ровно в три – теперь Ирину уже не охраняла криминальная полиция – явились трое оценщиков в сопровождении Ротауга. Оценщики были холодно-невозмутимыми ребятами. Работали они споро. Я нимало не был удивлен, когда они дали заключение, что все, чем я владею, не представляет никакой ценности. Один из них, который занимался «Ламборджини», оценил его в пятнадцать тысяч марок, как сообщил мне Ротауг. Это было бессовестно, авто стоило, по меньшей мере, пятьдесят восемь тысяч. Но что я мог поделать?!
Вместе с оценщиками Ротауг произвел инвентаризацию всей квартиры, потом они долго подсчитывали, и, наконец, Ротауг поставил меня в известность, что после всего за мной остается еще сто двадцать пять тысяч марок. Магнитофонные записи и блокноты, которые Берти и Хэм, слава Богу, вернули вовремя, он забрал с собой. На следующий день я вместе с ним побывал у нотариуса и послушно подписал долговое свидетельство и инвентарный лист, а также заявление под присягой, что никаких ценностей или побочных доходов я не укрываю. Это заявление я подписал с легким сердцем.
Мы с Ротаугом получили каждый по экземпляру всех бумаг, по одному осталось у нотариуса – оплачивать все полагалось, естественно, мне.
Я должен упомянуть еще две вещи. Гардероб, который Мамочка отказала Ирине, не был изъят, счет за него был оплачен издательством автоматически, без осложнений, как и счета за пребывание фройляйн Луизы в палате первого класса в психиатрической клинике. В таком монстре, как «Блиц», подобное иногда случается. Какой-нибудь маленький клерк получает однажды поручение, которое потом забывают отозвать, и тот продолжает исполнять это поручение дальше, как ему и было сказано…
Канцелярия нотариуса располагалась на втором этаже учреждения, и в конце концов, доктор Ротауг и я вместе спустились оттуда по широкой лестнице. Не проронив ни слова, Ротауг повернул налево к своему автомобилю, а я пошел направо, к ближайшей трамвайной остановке. Так закончилась моя четырнадцатилетняя карьера звезды «Блица». Вполне достойный конец, как мне кажется.
Я возвратился в пентхауз, который еще девять дней будет принадлежать нам. Я держался бодро, Ирина тоже изображала беспечность, и оба мы делали вид, что нет никаких забот и проблем. Что все снова будет хорошо. Забавно, если так не будет.
Так я и думал до того момента, как получил вечернюю почту.
В Германии есть внутренняя издательская пресс-служба, которая публикует последние новости и сплетни в нашей отрасли. Все мы получаем эти листки. С вечерней почтой пришла последняя рассылка. Херфорд действовал необычайно быстро. Во всяком случае, в этом последнем выпуске внутренних издательских новостей целых две страницы под рубрикой «последние сообщения» были посвящены мне. «Конец Вальтера Роланда?» – гласил заголовок. И в том же юридически заковыристом стиле, как этот заголовок, был составлен весь текст сообщения: от «кажется, что…», «очевидно, это свидетельствует о том, что…» до «как говорят…». Каждое предложение было, так сказать, защищено от ответных обвинений и заправлено такой гнусью, какой я и предположить не мог, хотя уже многого ожидал от этой индустрии. Здесь Ротауг превзошел самого себя.
В свете последних событий в «Блице» выходило с полной неопровержимостью, что, «как давно уже ожидалось», «о чем уже давно шли разговоры», алкоголь сгубил-таки мою так блестяще начинавшуюся карьеру. Я превратился в невменяемого, аморального, неблагонадежного, абсолютно не заслуживающего доверия необузданного пьяницу на грани полного падения и больше не способного писать так, как раньше. В крайне непотребной форме я оскорбил своего издателя, который предъявил мне вполне обоснованные упреки, и тот, с тяжелым сердцем, был, в конце концов, вынужден расстаться с «человеком, который когда-то был звездой, а теперь стал представлять собой постоянную угрозу срыва очередного номера журнала» в форме увольнения без предупреждения. И все в таком духе на полные две полосы.
Я перечитал все еще раз, выпил и подумал, что должен, конечно, подать с суд на это издание и на «Блиц» заодно. Но тут же подумал о том, чего я добьюсь этим, конечно, предусмотренным Ротаугом и его службами иском. «Блиц», вне всякого сомнения, в продолжение долгого времени не упускал возможности делать значительные денежные вливания в этот листок и определенно пообещал ему всяческую поддержку в случае возбуждения судебного процесса. Я был абсолютно уверен – и эта уверенность зижделась на опыте бесчисленных дискредитирующих кампаний в мою бытность в «Блице», – что Херфорд собственноручно просчитал шансы проиграть процесс с вытекающими отсюда обязательствами дать опровержения в прессе. Однако пока процесс придет к своему завершению, пройдут долгие месяцы – месяцы, в продолжение которых все измышления листка будут оставаться неопровержимыми. А это для Херфорда в его жажде мести было главным! Ему было наплевать на возможные расходы за моральный ущерб. (Я и так ему достаточно задолжал.) А может, «Блиц» и вообще ничем не рисковал, потому что то, что там утверждалось, было отчасти правдой. И даже в том случае, если бы я выиграл и они обязаны были бы опубликовать опровержение, что я бы выиграл по истечении всех этих месяцев? Кто вообще в этой отрасли принимает во внимание разного рода опровержения?! Меня уволили без предупреждения, и на это возразить нечего. Все остальное в нашем деле никого не волнует. В конце концов, должен же быть весомый повод, чтобы Херфорд сподобился вышвырнуть без предупреждения своего ведущего автора! По крайней мере, мне стало ясно, почему никто из конкурирующих фирм и вообще никто не сделал мне предложения сотрудничать с ними. Должно быть, люди Херфорда предварительно распространили по телефону то, что теперь было опубликовано в этом листке для внутреннего пользования. Впервые мне стало по-настоящему муторно. А потом медленно, шаг за шагом, меня обуял страх, который лишил меня дыхания, заставил судорожно схватиться за горло, смертельный страх, парализующий волю и погружающий в полное бессилие. Это, без всякого предупреждения, нагрянул мой «шакал».
То, что последовало за этим, я не забуду до конца своих дней, хоть проживи я сотню лет. Все началось, как обычно. Я проглотил двадцать миллиграммов валиума, лег в постель, крайне осторожно, на спину, и попытался глубоко дышать, чтобы не потерять самообладания и контролировать свои страхи, как это было во всех подобных случаях. Ирина бросилась ко мне, страшно перепуганная. Заплетающимся языком я пролепетал, что такое случается время от времени… от пьянства… и что никакого врача не нужно, и так о том, что я пьяница, судачат все кому не лень. И что врач – совершенно ни к чему – упечет меня в какое-нибудь заведение, и тогда все станут тыкать в меня пальцами, и я больше никогда не смогу устроиться на работу… И хотя она была страшно перепугана, все же пообещала мне не вызывать врача… А потом я попытался заснуть. Но из этого ничего не вышло. Учащенное сердцебиение, прерывистое дыхание, слабость с приступами тошноты усиливались с угрожающей частотой. Я начал потеть (такого еще не было!) от ладоней до груди и кончиков волос. И эти мои влажные от пота руки предательски дрожали. Но в приступе упрямства и отчаянной решимости я не принял ни глотка виски, а снова двадцать миллиграммов валиума, а затем еще раз двадцать. После этого я наконец погрузился в сон, наполненный кошмарами, о котором помню только лишь потому, что едва не умер от страха. Когда я снова проснулся, Ирина сидела у моего изголовья и стирала мне пот со лба. Она дала мне выпить фруктового сока, и я снова проспал три часа. Только три часа с шестьюдесятью миллиграммами валиума!
Мне надо было выйти, и я чуть не упал. Ирина поддержала меня. В туалете мне стало плохо, и меня со страшной силой вырвало, хотя я ничего не ел. На голодный желудок я снова решил принять валиум, но стеклянная трубочка выскользнула у меня из рук и разбилась. Ирина собрала маленькие голубые таблетки и подала мне. И отвела меня в мою постель, которую перестелила, потому что вся она насквозь пропотела.
Ирина.
Когда я снова очнулся от моих кошмарных снов, она сидела рядом, давала мне еду и питье и силой заставляла съесть и выпить, несмотря на то что я тут же все извергнул. И я потащился, нет, она потащила меня в ванную и обратно, и снова перестелила мою постель, ни слова не говоря, но неизменно улыбаясь, хотя я видел, что в глазах у нее стояли слезы.
Ирина.
Не знаю, как она умудрялась не спать, но она не спала – всякий раз как я открывал глаза. Она притащила матрацы с постели из гостевой и постельные принадлежности, и все они лежали у моих ног, и Ирина сидела на них рядом, совсем рядом, как только я приходил в себя.
Ирина.
Я приходил в себя, но это не было настоящим бодрствованием, в моем сознании все путалось, и даже в мгновения моего пребывания в этой реальности я продолжал блуждать по отвратительным событиям своих снов, которые меня преследовали. Сны, сны, сны и во сне и наяву. Они вторгались в реальность и порой я орал на Ирину, проклинал ее, кричал, что ненавижу ее, что она должна исчезнуть. Ирина ни разу не приняла это всерьез.
Ирина.
Вдобавок к валиуму, который я поглощал в неимоверных количествах (потому что говорил себе, что это дерьмо все-таки всегда прогоняло «шакала»), я еще принимал всевозможные снотворные. Но сны становились все страшнее, я метался в поту, меня колотило от озноба и от страха. Мои глаза отказывали мне. Я видел свою комнату то невообразимо большой, то невозможно маленькой, моя кровать то и дело разворачивалась не в том направлении, что на самом деле, а вещи меняли свою форму и цвет, даже лицо Ирины.
– Может, я все-таки принесу тебе виски? – осторожно спросила она где-то к началу Третьей Бесконечности, наверное, на второй день.
– Нет, – вымолвил я, и слюна потекла у меня по подбородку. – Нет. Нет. Нет. Не хочу. Должно так пройти. «Шакал» должен так убраться. Дай мне валиум.
Она дала мне валиум, но «шакал» не убирался, а мое состояние становилось все ужаснее. Мне виделись ад Брейгеля и ад Данте,[131] вместе взятые, да что там они! – они были ничто по сравнению с моим собственным адом, который не отступал, даже когда я приходил в себя. Я уже мог передвигаться только с Ирининой помощью, ей приходилось меня поддерживать, а то и держать, даже в туалете. И она делала это. Я страшно стеснялся, но она ни разу не выказала ничего, кроме заботы и сочувствия, ни раздражения, ни отвращения, даже при самых жутких вещах, когда я разразился поносом и страшной рвотой и все вокруг загадил. Она просто все убрала.
Ирина.
Мои видения становились невыносимыми. От меня несло вонью из пасти «шакала», который лежал возле меня в постели и лизал мое лицо и душил меня почти до смерти.
Потом снова появлялась Ирина – с фруктовым соком или бульоном, или куском белого хлеба, намазанным маслом и медом. Она не успокаивалась, пока я не съедал или не выпивал, что бы после этого ни случалось. Я уже не различал электрический и дневной свет, не знал день сейчас или ночь и должен был спрашивать Ирину.
Под конец второго дня у меня остановилось сердце.
Понимаю, что на самом деле оно не остановилось, иначе бы я умер, но ощущение было такое, самое отвратительное ощущение, какое мне пришлось когда-либо пережить. Вокруг все потемнело, широко открытым ртом я хватал воздух, воздух, воздух, – но воздуха не было, я прижал мокрые руки к мокрой груди, и последнее, что я еще помню, – мое тело скрутило, и я захрипел: «Помогите… помогите… помогите…»
Потом обмяк и упокоился.
Покой. Покой. Покой.
7
Два следующих дня выпали из моей жизни.
Я преодолел их, но все, что я о них знаю, я знаю от Ирины, которая бодрствовала у моей постели час за часом, ни на минуту не оставляя меня одного.
Позже Ирина сказала мне, что я спал эти два дня и две ночи, но постоянно кричал во сне и метался по постели. Время от времени я просыпался, и тогда она водила меня в туалет или давала мне есть или пить, да, я даже, сидя на стуле, побрился.
Обо всем этом я не имел ни малейшего представления, когда на четвертый день пришел в себя. Но определенно так оно и было, потому что я был гладко выбрит, на мне была свежая пижама, постель была чистой, а у моих ног на импровизированной постели, прямо на матрацах, одетая задремала измученная Ирина. Горел электрический свет. Едва лишь я пошевелился, она тут же вскочила – на губах неизменная улыбка.
– Как… как ты?
– Лучше, – ответил я, безмерно удивленный. – Кажется, мне лучше.
Она издала торжествующий клич, побежала в кухню и вскоре вернулась с легкой закуской. Во время еды, сидя в постели, я чувствовал еще сильную слабость, меня пробил пот, руки дрожали. Но «шакал», это я тоже почувствовал, несколько отступил. Я снова принял неимоверное количество валиума и заснул до утра. Я проснулся в час, и уже смог в первый раз самостоятельно дойти до ванной, хотя мне и приходилось держаться за стены и то и дело останавливаться. У меня дрожали колени, пот катил градом по всему телу, но я побрился стоя и сам помылся. Потом я добрел до постели и без новой порции лекарств провалился в глубокий сон без сновидений. На этот раз я проспал двадцать четыре часа, потому что, когда я проснулся в следующий раз, было уже утро пятого дня. Четверг, 28 ноября 1968 года – эту дату я никогда не забуду.
За окном брезжил серый рассвет, в комнате горела лампа, а Ирина спала на своих матрацах и на этот раз даже не проснулась, когда я поднялся. И тут случилось чудо. Я твердо стоял на ногах, мог идти, не держась за стены, мне больше не было плохо, я не потел, сердце билось ровно, я свободно дышал. И я был жутко голоден!
Я отправился в ванную, потом на кухню и приготовил грандиозный завтрак для себя и для Ирины. И пока я ждал, когда закипит вода для кофе, мне кое-что пришло в голову.
Я пошел к бару и в кладовку, достал виски и все спиртное, какое там только было, сложил бутылки в раковину, а потом взял тяжелый молоток и перебил их одну за другой. Под конец я аккуратно собрал все осколки. И меня снова – в последний раз – вырвало, когда я смывал алкоголь и нанюхался его. Я чистил в ванной зубы, когда заметил, что кто-то за мной наблюдает.
Это была Ирина.
– Думаю, все прошло, – сказал я.
Она подлетела ко мне, бросилась на шею и осыпала поцелуями, то и дело повторяя: «Спасибо, спасибо, спасибо…»
Только «спасибо».
Я спросил, кого она благодарит. Я тоже Его поблагодарю.
Мы завтракали на кухне – я с большим аппетитом – и дурачились, и смеялись беспрестанно. Эти пять дней, самых страшных дней в моей жизни, были позади!
Позже я спрошу доктора Вольфганга Эркнера, возможно ли такое вообще. И он ответит, что вполне возможно, если на определенной стадии далеко зашедшего алкоголизма случаются тяжелые душевные потрясения, если человека вырывают из привычной среды, но в то же время он и освобождается от гнетущего психического бремени. Однако лечить такие состояния в домашних условиях – это редко кончается добром.
Я пишу эти строки не для того, чтобы морально возвысить себя или выступить тут миссионером, нет, просто потому, что иначе в этой книге будет чего-то не хватать.
Но с того 28 ноября и по сей день я не принял ни единой капли алкоголя, ни в каком виде. И «шакал» больше никогда не возвращался.
8
Хэм забрал нас с Ириной к себе, в свою огромную квартиру.
Он отвел нам две комнаты – спальню для нас с Ириной и вторую – для моей работы. Когда мы выезжали из пентхауза, двое служащих следили по инвентарному листу Ротауга, чтобы мы не прихватили с собой ничего лишнего. Так что взяли мы с собой немного – все убралось в пару чемоданов. На «мерседесе» Берти мы перевезли чемоданы, книги, мои костюмы и Иринин гардероб к Хэму – хватило трех ездок. Ключ от квартиры я обязан был вручить этим служащим, но взамен получил новый – от Хэма. Мы переезжали в понедельник, после первого адвента,[132] в первый раз шел снег. Снежинки были сухие и ложились на землю, не тая. Квартира у Хэма была обставлена в античном стиле. В спальне стояла большая двуспальная кровать, в которой он когда-то спал с женой. Теперь он спал в другом конце квартиры.
Мы с Ириной остались вдвоем. Понедельник – день сдачи номера, и Берти с Хэмом были заняты в редакции. Я знал, что домой Хэм вернется поздно. К вечеру я занервничал, и мое беспокойство все нарастало, потому что я не мог отделаться от мысли о том, что мне предстоит спать с Ириной в одной постели. Это были нелегкие раздумья. Я убеждал себя, что мы с Ириной любим друг друга, и было бы вполне естественно сделать и это. Но потом снова возвращался к тому, что ребенок, которого она носит во чреве, вовсе не от меня, а от другого мужчины. Я бы с превеликой радостью переспал с ней, но должен был думать обо всем, что произошло, и когда дальше уже невозможно было тянуть, я отправил Ирину первой в ванную, а потом купался сам и все обдумывал, как скажу ей, что вполне могу справиться с собой и подождать, пока ребенок не родится, даже если и придется ждать еще полгода. Правда, я не был уверен, что выдержу это, ночь за ночью лежать подле нее. Но в конце концов, если уж станет совсем невмоготу – был еще диван в кабинете!
И я пошел к Ирине. Она выключила весь свет, кроме ночника у кровати, и лежала там совсем нагая.
– Иди ко мне, Вальтер, – сказала она и раскрыла объятья.
И стало так просто, и все было так хорошо и все как положено. У меня было такое чувство будто я еще никогда в жизни не любил, и мы делали это снова и снова, и я совершенно забыл себя, и Ирина тоже. Это было чудесно, то, чего я так боялся. Это было самое чудесное из всего, что я испытал в своей жизни. Один раз, когда я изливался, мне показалось, что я умираю, и я был бы счастлив умереть так, но нельзя, потому что теперь у нас был ребенок.
Наконец, Ирина, утомленная, заснула в моих объятьях. А я еще долго лежал в темноте и был несказанно счастлив. Потом, должно быть, тоже заснул, потому что, когда я почувствовал какое-то движение и открыл глаза, Ирина сидела возле меня на постели, сложив руки.
– В чем дело, любимая, – нежно сказал я. – Тебе хорошо?



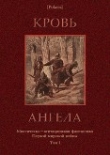
![Книга Жук [Том II] автора Ричард Марш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zhuk-tom-ii-263993.jpg)



