
Текст книги "Из чего созданы сны"
Автор книги: Йоханнес Марио Зиммель
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)
В тот день, когда он говорил со мной о злобности человеческой натуры и о малоформатности человеческого мышления, из стереодинамиков в его музыкальной комнате звучал концерт ре-мажор для скрипки с оркестром («Quasi una fantasia»), написанный в 1911–1912 годах. Это не был концерт в обычном смысле слова, а, скорее, монолог скрипки в сопровождении оркестра, в котором доминировали рожок, кларнет и гобой.
Музыка разливалась по прекрасным комнатам с мебелью в стиле ампир. Я сидел напротив Хэма, курившего трубку, и слушал музыку его любимого композитора и его самого.
Зазвучала первая часть.
Романтика в стиле Айхендорффа.[82] Началось вступление. Как будто из чудных лесов, раздались призывные звуки рожка. Струнный аккорд соль-диез мажор прозвучал так, словно взошла луна. И вот запела скрипка, мечтательная скрипка! Она поднялась над всеми другими инструментами, плача и скорбя вслед ушедшей любви, заколдованной, растаявшей, прошедшей, давно забытой…
Хэм сказал:
– Знаешь, старик, я все лучше понимаю, что некоторые люди используют красивые, правильные и благородные понятия только для того, чтобы отстаивать собственные интересы. Непостижимо, почему этого почти никто не видит. Правильные лозунги служат этим людям, но сами эти люди никогда не служат своим лозунгам! А ведь они должны были бы жить в соответствии с собственными принципами – синтонически, как говорят в психиатрии, но они этого никогда не делают. Они используют свои мнимые принципы агрессивно, для захвата власти, а не по какой другой причине…
Скрипка пела. Аллегро попыталось резко ее прервать, но было вытеснено звуками рожка. Рожок разделял со скрипкой ее печаль. Вдруг бурно вскипела интермедия высоких и низких струнных инструментов. И вот снова скрипка осталась одна со своей любовью, с воспоминаниями, с тоской.
– Все всегда зависит только от мотива, которым руководствуются при использовании лозунгов или принципов. А мотивы, Господи помоги нам и нашему миру, во все времена были и остаются дурными. Лозунги никогда не были, да и не могли быть такими! В противном случае разве они смогли бы овладевать массами, увлекать, поднимать и заставлять служить им и жертвовать собой? Видишь, Вальтер, это величайший обман, которому когда-либо подвергались люди – во все времена, при всех режимах: я имею в виду, что людей заманивали понятиями, словами и мечтами, которые изначально были, не могли не быть совершенно правильными и хорошими, – если только забыть об их продажных, преступных авторах и инициаторах.
Дикие страсти первой части успокоились, зазвучала реприза, осторожно, мягко, сдержанно. Я смотрел в окно. Стоял сентябрь, деревья и кусты полыхали красным и золотым, желтым и коричневым, каким-то уже совершенно неземным блеском, перед тем как опасть и умереть.
– Всё здесь извращено, – слушал я голос Хэма, – и все избегают говорить об этом, но я скажу: кто-то должен быть честным, верным, мужественным, спортивным, закаленным и здоровым, против этого действительно нечего возразить, ей-богу нечего. Люди, которые это провозгласили, и сами хотели быть такими, но уничтожили шесть миллионов евреев, выламывали им зубы, делали из их кожи абажуры, они виновны в развязывании величайшей войны всех времен, в неописуемых бедствиях и страданиях. Это особенно ясно показывает, каким лживым был образ их мыслей, каким в глубочайшей степени дьявольским и злым. Но по этой причине нельзя заодно с ними и все перечисленные мной качества назвать дьявольскими и злыми! Не станешь же ты утверждать, что отвага и верность, смелость, честность, искренность и готовность к самопожертвованию – это плохие качества! Это хорошие качества!
– Не исключая нацистов?! – воскликнул я. – Но ведь нацисты были настоящими преступниками, Хэм! Не можете же вы…
– Спокойнее старина, – сказал он, – спокойнее. Разумеется, они были преступниками. Величайшими. Но даже в их программу, в их идеологию было встроено благое, им пришлось его встроить. Не могли же они прямо заявить: мы хотим войны! Мы хотим искоренить евреев и еще столько-то народов. Это бы попросту не прошло. Не сработало бы.
– Но в их партийной программе уже говорилось о жизненном пространстве и расовой чистоте, и уже тогда они были ярыми антисемитами!
– Знаю, какая безумная это была программа. Но и время было такое, старик! Я только хочу тебе доказать, что даже величайшие преступники не отваживались обращаться к народу без пропаганды хороших, достойных целей… «Свобода и хлеб»… «Работа для всех»… «Чистота и порядок»…
– А еврейский вопрос?
– Тут было особо дьявольски продумано, – ответил Хэм. – К этому я еще вернусь, позже. Нацисты хотели обратиться к немецкому народу и просто обозначили евреев как не-немцев. Сразу же вслед за этим верные, честные и храбрые жрецы бога Солнца начали насиловать и расчленять еврейских девушек! Досточтимые священники на каком-то церковном соборе выдумали не знаю сколько сотен видов разврата, чтобы потом часами на исповеди девушек распалять свое сладострастие и в конце концов соблазнять несчастных… Но это не повод отвергать понятия морали как таковые! Это величайшая путаница, которая постоянно происходит в наше время. Теперь тебе это понятно?
– Да, Хэм, – ответил я.
Начало Grave из второй части безнадежно и мрачно. Орган. Потом деревянные духовые. Они пытаются вступить в борьбу с мраком. И снова соло скрипки, и оно взаправду звучит так, словно инструмент оплакивает любовь, которой больше нет. А разноцветные листья в парке Грюнебург вспыхивают дивными красками в лучах осеннего солнца…
Хэм продолжал:
– Как и все остальное, ты можешь извратить принцип свободы! Так происходило во всех идеологиях с древних времен и происходит сегодня – на Востоке и на Западе! Нацисты то хорошее, что сами проповедовали, претворили в полную противоположность! Они заставили свою такую чистую, сильную и храбрую молодежь миллионами бессмысленно умирать на полях сражений, чтобы эта свинья Геринг мог собирать свою коллекцию и колоть себе морфий, Геббельс – спать со всеми киноартистками, а Гитлер, этот законченный психопат, – перейти из мелкобуржуазной формы существования в божественную! А посмотри на коммунизм! Я подписался бы его под лозунгами на сто процентов! Стоит ли что ближе к религии, чем коммунизм? Свобода! Равенство! Братство! Отказ от любой не самим лично заработанной собственности! Что может быть прекрасней? И где те двадцать пять миллионов, что погибли во время сталинских чисток? Или вот, назови мне заповедь прекраснее, чем «Возлюби ближнего своего, как себя самого»! И какое угнетение, какой ужас, смерть скольких миллионов людей принесли крестовые походы и инквизиция? Какую огромную вину взвалила на себя церковь? И все это во имя Креста, во имя Бога!
– А как насчет остальных? Насчет демократий? – спросил я.
– Демократия – это не идеология, – ответил Хэм. – Но моя теория подходит и здесь. С одной маленькой оговоркой: если демократия очень старая и прочная, как в Англии, тогда даже самым коррумпированным ее нелегко разрушить. Но все-таки удается. Просто труднее – вот и вся разница. А возьми, например, американскую Декларацию независимости! – Он процитировал: «Следующие истины мы признаем как сами собой разумеющиеся: что все люди созданы равными; что они получили от Творца определенные неотъемлемые права; что к ним относятся жизнь, свобода и стремление к счастью…»! Чудесно, правда? Великолепно, да? Все люди созданы равными! А что происходит в США с черными? В каких масштабах коррупция, насилие и преступность уже погребли эту демократию? Право на счастье! И кого беспокоят миллионы нищих? Несколько сотен семей в Америке владеют тремя четвертями всего богатства нашей планеты! Право на жизнь! А когда ты идешь через Центральный парк, даже днем, должен учитывать возможность быть убитым. Нигде на свете нет такой преступности! Что случилось с убийцей Кеннеди? Что случилось с убийцей Мартина Лютера Кинга? Родились свободными и независимыми! А что происходит во Вьетнаме? Кто убивает вьетконговцев, как скот, в этой, даже не объявленной войне, потому что рассматривает врага только как скот, как паразита, которого нужно искоренить и уничтожить, так же как нацисты искореняли и уничтожали «недочеловеков»… Это то же самое, это всегда и везде, в любое время и в любом месте то же самое.
Вторая часть. В ней зазвучали страх, отчаяние, напрасные усилия. И снова вернулась основная тема – все еще полная надежды, в противоположность печали и плачу вступления. Вот! Жизнерадостный пассаж си-мажор преодолел все, а теперь весело вступили скрипка и кларнет, как будто сами хотят спастись, освободиться и вырваться из-под гнета.
– А возьми программы черных и социал-демократов, – говорил Хэм. – Сильно ли они различаются в действительности? Едва-едва. Поскольку в наше время нет никаких других программ, кроме таких, в которых заложено улучшение социальной структуры, здоровья народа, благосостояния, безопасности, финансовой стабильности и культурного развития! Ведь сегодня любому человеку – от чистильщика обуви до генерального директора – и без того понятно, что только это еще и можно сделать! Кто станет заявлять в своей программе: «Мы не позволим детям заниматься спортом, потому что хотим, чтобы у них были отвислые животы»? Или если какая-либо партия заявит: «Мы пропагандируем курение гашиша», то ее прогонят к черту! Так что программы стали совершенно несущественными! Но и они никогда не исполнятся! Это просто обрывки предвыборных плакатов, которые призваны удержать у власти группы холодных как лед эгоцентриков и тщеславных властолюбцев… Слушай, это основная тема последней части, здесь она появляется, но не может победить. Оттесненное страдание опять заявляет о себе в полную силу. Вот, сейчас мы в си-бемоль-миноре, а потом будет что-то вроде любовного монолога, который так и хочется выразить словами, чувствуешь? Вот отчаяние и страх… А там, в третьей части, еще раз вернутся воспоминания о любви из вступления… – Хэм долго слушал музыку гения. Потом задумчиво сказал: – К сожалению, дело обстоит так, что в конечном счете осуществление целей какой-либо партии возможно только для примитивного типа, не обладающего ни интеллектом, ни необходимой зрелостью для понимания ситуации. Зато как только этот тип придет к власти, он немедленно включит фактор времени! Он скажет: теперь, чтобы остаться у власти, мне нужно как можно быстрее отключить всех политических противников, занять все должности своими людьми и – вот тебе самое главное – заключить гнилые компромиссы по моей программе, а также для видимости прийти к соглашению со всеми враждебными мне группами – будь то церковь, будь то коммунисты или нацисты, будь то ястребы или голуби, демократы или республиканцы – лишь бы только остаться у власти! И через этот примитивный механизм никакие системы, в конечном счете, не будут законным путем отстаивать интересы хороших, порядочных, бедных и маленьких людей. Важнее всего будет только это соглашение об удержании власти. Понимаешь?
Я кивнул.
– Этот примитив кричит: «Мы должны удержать власть!» Члены партии кричат: «Да!» Примитив с головой окунается в работу, нужно устранить или даже ликвидировать тех, кто стал для него опасен и с кем невозможно заключить гнилые компромиссы. Твой недавний вопрос – евреи! Гитлер и его друзья-бандиты знали, что евреи умнее, что у них более древняя культура, – да при чем тут древняя, хватит и просто культуры, у нацистов вообще не было никакой! – что они благодаря уму обладают властью. Так что нужно было ожидать, что евреи окажутся смертельными врагами Гитлера, что они приведут его, притом безусловно, к падению! Поэтому Гитлер с самого начала включил в программу их подавление в качестве стимула для черни, а будучи у власти, евреев уничтожал! Католическая церковь точно знала, что ей грозит опасность от просветителей. Значит, срочно уничтожить, искоренить сволочей, пусть даже их много тысяч! Сталин понимал, что интеллектуалы, каждый, кто пытался самостоятельно разобраться в социалистических идеях, представлял для него смертельную опасность. Значит, уничтожить, искоренить! Пусть даже их много миллионов! Американские патентованные демократы опасались, что будут раскрыты их коррупция и их эксплуататорские методы хозяйствования. Значит, охота на ведьм господина Мак-Карти! Каждый, кто был не за героев Нового Света с горячей кровью, каждый, кто заявлял хоть о малейшем сомнении, подвергался преследованиям, и его объявляли…
– Коммунистом, – закончил я мысль.
– Правильно, коммунистом. Нужно было его арестовать, наложить запрет на профессию, исключить его из общества. Из этой глупости, из этого слабоумия, из этого narrowmindedness, этого примитивного способа мышления возникают все преступления на земле. Настоящее несчастье – это ограниченность, а не злобная натура человека…
Сквозь музыку до меня доносились через раскрытое окно смех и крики играющих в парке детей, и сейчас, когда я это пишу, я думаю, что дети в Врхлицком саду в Праге точно так же играли, смеялись и кричали, как и дети в парках Москвы и Рима, Нью-Йорка и Варшавы, Пекина и Йоханнесбурга.
– Так было, так есть и так всегда будет, – сказал Хэм, – что отдельные люди или группы людей используют какое-либо само по себе правильное учение – их существует совсем немного, прежде всего мировые религии, но не их распространители, их я исключаю! – для укрепления собственной власти. Ах, а сколько движений их противников по всему миру, при всех режимах, в церкви, которые говорят то, что я только что сказал, наступают, слепые от ярости, видят призраки вместо реальности, вместе с водой выплескивают дитя и разрушают остатки порядков – то хорошее, что пока еще осталось! Эти новые пророки, неопытные в реальных отношениях, необдуманно и с революционным пылом рубят направо и налево, так что только щепки летят от всего, на чем еще держится наш мир…
Свобода! Радость! Хотя бы в интермедии. Радостно пела скрипка, и деревянные духовые радовались вместе с ней…
– Почему я об этом говорю? – вслух размышлял Хэм. – Почему вынужден подолгу об этом думать? Потому что я и ты, и все мы каждый день стоим перед этим феноменом в своем малом мире.
– Вы имеете в виду в «Блице»?
– Да, в «Блице», – ответил он грустно. – В самом начале было такое время – без идеологии, без лозунгов и без компьютера.
– Прекрасное время, – сказал я. Радость и свобода для скрипки закончились. Усиленно заявили о себе отчаяние, скорбь, страдание. А скрипка, скрипка пела, пела в тюрьме своих воспоминаний и тоски. – Прекрасное время, – повторил я.
Хэм кивнул и пососал свою трубку.
– Потому что у нас не было ни идеологии, – повторил он, – ни схем, ни догм. Сегодня мы можем выбирать самые чистые и лучшие темы на свете. Но с того момента, когда мы в рамках этого аппарата переводим их в слова и иллюстрации, все они становятся коррумпированными! Возьми свои триумфальные серии. Что, собственно, можно возразить против разумного сексуального просвещения?
– Ничего.
– Ничего, – сказал он. – В наше время коммуникации такое сексуальное просвещение можно было бы только от всего сердца приветствовать, если бы весь этот замысел с самого начала не был организован и направлен только на то, чтобы господин Херфорд и его Мамочка как можно больше заработали!
– И я тоже, – добавил я.
– И ты тоже, и я тоже, и мы все тоже, – продолжил Хэм. – В Библии, из которой Херфорд так любит читать, сказано: «Если вы не одумаетесь, то все погибнете.» – Он покачал головой: – Мы не одумаемся. Ни один из нас. Никто на свете. Ни мы, маленькие люди, ни великие. Мы все погибнем.
Вступил весь оркестр, скрипка собрала напоследок все свои силы в трагическом протесте и смолкла.
21
– Ну, ты, растяпа! – взревел плотный краснорожий надсмотрщик. – Ты, мразь, пес ленивый, собрался улечься здесь на солнышке и подремать? – Он стоял на краю длинного рва, уходившего в болото неподалеку от «Нойроде». Во рву работало множество молодых мужчин с лопатами, отрабатывавших трудовую повинность. Нужно было осушить часть огромного болота.
Надсмотрщик стоял, уперев руки в бока, широко расставив ноги, и рычал на тощего работягу, едва державшегося на ногах, там, во рву. Сапоги бедняги почти до верху погрязли в болотной жиже. Дрожа всем телом, из последних сил, он прислонился спиной к стенке рва. Но надсмотрщик не унимался:
– Я порву тебе задницу, ты, грязный засранец! Тоже мне академик! Думаешь, ты лучше нас! Студент философии! Тут тебе не философия! Тут надо работать, понял? Хоть ты выблюй душу из своего интеллигентского тела, засранец, ты будешь мне работать, как все остальные!
– Я больше не могу, – шептал молодой человек. Пот заливал его узкое лицо. – Я, правда, больше не могу, господин надсмотрщик!
Это происходило около полудня 12 августа 1935 года. Над болотом висела изнуряющая жара. Ни ветерка. Воздух звенел от жужжания комаров. Они беспрестанно жалили работяг во рву. Те чертыхались и лупили себя по обнаженным торсам, но им редко удавалось убить хоть одного из своих мучителей. Тела их блестели от пота. Все они были на пределе сил, хотя все же не настолько, как двадцатидвухлетний студент философии, которого бугай-надсмотрщик гонял и мучил с того момента, как увидел. Надсмотрщик, по гражданской профессии неудачливый мясник, ненавидел «умников-засранцев», как он их называл, проклятых образованных с их созерцательностью, мягкотелостью и беспомощностью.
– Еще как можешь! – заорал надсмотрщик вниз. – Сам удивишься, как долго ты еще сможешь! Посмотри на своих товарищей! Они же еще могут! Ты, грязная ленивая свинья, умник, с задницей вместо морды, я из тебя еще сделаю порядочного человека, можешь не сомневаться! Ну, вперед! Режь дальше!
– Я… я… я правда больше не могу, господин надсмотрщик, – прошептал студент, шатаясь. – Я боюсь…
– Что значит боюсь? – взревел надсмотрщик. – Чего ты боишься, засранец?
– Что упаду и утону, – простонал студент.
Комары пели свою пронзительную песню.
– Здесь еще никто не утонул! – разозлился надсмотрщик. – Значит, боишься подохнуть?
– Да, – прошептал студент.
– Немец не страшится смерти! – заорал надсмотрщик.
– Немец… смерть… это болото… какая здесь связь? – стонал студент.
– Ты еще смеешь мне отвечать… – Надсмотрщик втянул воздух. – Ну, погоди, свинья! – прорычал он и спрыгнул в ров. Высоко взлетели ил и вода. Надсмотрщик со всей силы пнул тощего студента сапогом в бок. Парень упал навзничь. Надсмотрщик дал ему еще пинок под зад. Парень лежал лицом в грязи, неподвижный, как кукла. Его голова ушла под воду, тело начало погружаться. Надсмотрщик пнул еще раз. – Проклятая грязная свинья, – выругался он. Потом зарычал на работяг, возившихся вблизи: – Эй вы, ну-ка сюда! Вытащите эту трусливую свинью!
Полдюжины молодых мужчин подошли по воде и грязи, молча, с ненавистью глядя на надсмотрщика. Они толкались, мешали друг другу, и понадобилось немало времени, пока они вытащили студента из грязи и подняли его. Голова у него запрокинулась назад, он не шевелился. Один из мужчин приложил ухо к его груди, проверил пульс.
– Ну, что? Что там? – бесновался надсмотрщик. – Что там с этой свиньей? Дайте ему пару раз по морде, чтобы очнулся! Давайте! Делайте, как я сказал! По морде! Вот ты!
Тот, на кого он указал, кто проверял у студента сердцебиение и пульс, помотал головой.
– Не хочешь дать ему по морде, ты, собака?
Тот, снова помотал головой.
– И почему же? Почему ты не хочешь дать этой свинье по морде? – Его голос сорвался.
– Потому что «эта свинья» умер, господин надсмотрщик, – ответил тот, держа студента на руках.
Вскрытие показало, что студент скончался от острой сердечной недостаточности. Дело надсмотрщика было передано в дисциплинарный суд Службы государственной трудовой повинности. Его понизили в должности и наложили взыскание. Позже он работал у Генерального уполномоченного по службе занятости, гауляйтера Заукеля. Сегодня – заседает в наблюдательном совете концерна мясных изделий.
22
– Студент – единственный, о ком вы знаете, как он погиб? – спросил я фройляйн Луизу. Она рассказала мне эту историю. Вчера. Вчера я ее навещал снова.
– Да, – ответила фройляйн с седыми волосами и добрым лицом, на котором всегда блуждала улыбка. – Студент – единственный. Остальные не говорят о своей смерти. А студент мне о ней рассказал. Много лет назад.
– Почему именно студент, а не остальные?
– Сама не понимаю, – взглянула она по-детски, и диктофон записал ее слова.
Я подумал, что она, возможно, в самом деле не знала, почему именно студент был для нее любимее всех остальных мертвых, и что она, действительно, уже давным-давно забыла того другого студента, который был ее единственной любовью и много лет назад погиб в Исполинских горах, в болоте Белый Луг. «Она об этом забыла, – думал я, – но пока она жива, все, что она тогда пережила и перестрадала, будет подсознательно влиять на мысли и фантазии фройляйн, совершенно неосознанно для нее самой». Было ли это так на самом деле? Возможно.
Возможно, – подумал я, – но ее, конечно, об этом не спрашивал.
Теперь, после всего, что случилось, я мог говорить с фройляйн Луизой так же, как пастор. За это время она прониклась ко мне доверием и знала, что ничего плохого я ей не хотел. Поэтому она говорила со мной и о своих друзьях. Она не боялась меня.
– И что?
– И уже к вечеру, то есть за несколько часов до того, как ваши друзья пообещали вам помочь, французский торговец антиквариатом Андре Гарно и польский портье Станислав Кубицкий в качестве свидетелей сообщили полиции о жестоком покушении на нашего корреспондента Конрада Маннера.
– И что?
– Вы мне рассказывали, что Кубицкий и Гарно были вашими французским и польским друзьями, возвратившимися в тела двоих живых людей.
– Правильно, так и есть. И что? Я же сама потом с ними обоими…
– Вот именно, – подтвердил я. – К этому я и веду.
– К чему, господин Роланд?
– Если речь шла о двоих ваших мертвых друзьях, то ведь они появились за много часов до вашего разговора с ними! Задолго до того, как они пообещали вам помочь! Вы понимаете? Тем вечером ваши друзья еще ничего не знали о вашем плане! Как вы объясните это несоответствие во времени?
– Он говорит – время, – пробормотала фройляйн и покачала головой, изумляясь моей наивности. – Он говорит о времени, этот господин Роланд! После того, как я ему уже так много рассказывала о бесконечности и вечности. Видите ли, господин Роланд, там, по ту сторону, в ином мире, там времени нет. Время – это совершенно земное понятие. А как же! Как может существовать время в вечности и бесконечности? Можете ли вы мне сказать, сколько там длятся несколько часов?
– Нет, не могу.
– Не можете. А почему? Потому, что если бы вы могли, то не было бы ни бесконечности, ни вечности! Тогда их можно было бы измерить, как жизнь здесь, внизу, которая имеет начало и конец! Мой друг американец сказал мне однажды: «Бесконечность и вечность – это две сети, ну, вроде как у рыбаков, вот, и они тоже состоят из бесконечного множества бесконечностей и вечностей – это их отдельные ячейки, а то, что разделяет эти ячейки, волокна сети, – это и есть времена.»
– Какие времена?
– Все времена вместе взятые с возникновения этого мира, например, образуют одну частицу такого волокна! Просто чтобы вы могли составить себе представление. Вы можете?
Я помотал головой.
– Вы не можете понять?
– Нет, – ответил я.
– Тогда вы должны в это верить, – сказала фройляйн Луиза.
– Этого я тоже не могу.
– Вы должны попробовать все это понять, – настаивала фройляйн Луиза. – Математикам, физикам, философам приходится пробовать то и это. И вы тоже попробуйте! И многие из них снова становятся на свой лад набожными. Чем больше они знают, тем более они великие. Возьмите, к примеру, господина Эйнштейна. Вы утверждаете, что наука имеет дело только с чистым мышлением? Ладно, пусть! Чем больше такая наука развивается, тем меньше она имеет дело только с чистым мышлением! Ученые хотят исследовать Вселенную. Они сами, да-да, сами ученые, господин Роланд, говорят, что Вселенная бесконечна и вечна! И хотя у них нет пока реального объяснения понятий вечности и бесконечности, но все же они работают с этим постулатом, волей-неволей просто принимая его. Как и остальные люди.
– Я не могу, – возразил я.
– Я тоже долго не могла, – ответила фройляйн. – Все никак не могла вообразить это в голове, хоть умри! Ни вечности, ни бесконечности. И как я ни напрягалась, просто до потери сознания, но все-таки думала, что должно быть начало и должен быть конец, должен, должен, должен! – Она задорно рассмеялась: – Да, а что если и вправду нет ни начала, ни конца? Или если они оба – одно? Тогда наш конец всегда есть наше начало, а так оно и есть, когда мы умираем, так ведь? Конец есть начало. – Она нарисовала пальцем в воздухе большой круг. – Где, скажите мне, господин Роланд, в такой Вселенной есть место для времени? Я имею в виду место, если вы возьмете всю Вселенную, в которой начало есть конец, а конец есть начало? Вот вы говорите: около полуночи двенадцатого ноября я встретилась с друзьями, и они мне пообещали помочь. Это было сказано по-земному. Это же глупо! Это слишком просто! Это именно так, как выражаемся мы, глупые живые. Извините. Я не имела в виду кого-то лично, вы же понимаете? Ну да ладно. В действительности я могла бы встретить своих друзей на тысячу лет раньше или позже – все было бы точно так же. Потому что раз на том свете нет времени, то и значения оно не имеет. По нашим дурацким понятиям о времени мои друзья могут передвигаться в нем вперед и назад и сделать что-нибудь намного раньше, чем обещали живому, или намного позже. И еще раз скажу: на том свете времени нет, поэтому француз и поляк спокойно могли оказаться в Гамбурге во плоти живых людей до моего разговора с ними.
– То есть ваши друзья уже действовали, еще до того как вы подвинули их на это?!
– Выражаясь по-земному, да! А выражаясь по-неземному, они, конечно, начинают действовать только после того, как получат импульс. Потому что Вселенная не может быть нелогичной. Теперь понимаете? Хоть немного?
– Немного, – неуверенно ответил я, вспоминая все, что рассказывал мне Хэм, когда я стоял в телефонной кабинке гамбургского Центрального вокзала.
– Ну ладно, я вам еще немножко помогу, – сказала она. – Если вы об этом подумаете, увидите, что так у нас все в жизни и идет. Примерно так.
– Как?
– Ну, к примеру, что мы чувствуем последствия чего-то, прежде чем оно произойдет. Вот подумайте. Разве вам никогда не было грустно и вы при всем желании не могли сказать почему?
– Было, конечно…
– Вот, пожалуйста! Вот об этом я и говорю! Вам было грустно от чего-то, что еще не произошло, что еще только должно было произойти! Но ваша связь с потусторонним миром – у каждого человека есть очень тонкая связь с тем светом – дала вам возможность предчувствовать то, что произойдет, и потому вам было грустно. Это был момент вашего предвидения будущего! Так где же тогда было время? Ну, вот видите. В этот момент вы, может быть, даже знали, что с вами случится, но не хотели допускать этой мысли и выбросили ее из головы. Только грусть – она, конечно, осталась. Если уж мы, бедные живые, можем иногда скользить туда-сюда между прошлым, будущим и настоящим, то, как вы думаете, неужели этого не могут мои друзья! Для них не существует ни пространства, ни вчера, ни сегодня, а одно только завтра!
– Ага, теперь, думаю, понимаю, что вы имеете в виду, – сказал я.
– Ну, наконец-то. Это же так просто! – И она опять засмеялась. – И, пожалуйста, запишите это все, что касается времени и вечности, ладно? И все обо мне, чтобы люди это тоже поняли, все, что случилось. Мое разрешение на это у вас есть. Письменное!
Да, разрешение у меня было, письменное, и фройляйн получила за него деньги, но на суде эта ее передача права на публикацию не имела бы, конечно, никакого значения, не стоила бы даже листа бумаги, на котором была напечатана. Однако перед земным судом нам с фройляйн Луизой никогда бы и не пришлось предстать.
23
– Что вы делали после разговора с друзьями? – спросил я Луизу Готтшальк.
– Ну, я, конечно, сразу отправилась в путь, – ответила она.
– Сразу же?
– Конечно! Возвращаться обратно в лагерь не было необходимости, я уже собралась в дорогу. Сумка с паспортом и деньгами была у меня с собой…
– И много денег?
– Пожалуй, побольше четырех тысяч марок.
– Что?
– Ну, да, – подтвердила она. – Те две тысячи, что вы мне дали, и все, что я скопила. Я же тут, на болоте, никогда ничего не тратила, у меня и так все было, и все мое жалованье осталось при мне – все, кроме того, что я раздарила.
– Много раздарили?
Она весело рассмеялась и ответила:
– При такой нищете, ради Бога, господин Роланд! Не то чтобы я была мотовкой. Только, конечно, дети, бедные мои…
– Но двинуться в путь с четырьмя тысячами… Я имею в виду, это не было легкомысленно с вашей стороны?
– Легкомысленно было бы оставить деньги в лагере! Хоть бы и спрятанными. А как же? Они же за мной шпионят, эти бабы, рано или поздно они бы нашли их и украли!
– А у вас все сбережения были в тайнике?
– Да, и в очень хорошем. Но потом я сказала себе: кто знает, а вдруг они все-таки их найдут.
– А почему вы не отнесли сбережения в банк?
– Идите вы подальше со своими банками! – воскликнула фройляйн. – Да я в это все вообще не верю! Я слишком хорошо помню, как в 1929 или после 1945 все, что люди держали в банке, все пропало, фьють – и нет! Так просто поживились себе эти банки и сберкассы и все остальные.
– Но тогда деньги пропали и у тех, кто держал их дома, – заметил я.
– В самом деле? У меня не было сбережений ни в 1929, ни после 1945. Да хоть бы и были! Ни за что бы не сдала их в банк или в сберкассу! Я в такие вещи не верю. – Она немного помолчала, потом сменила тему. – Я, конечно, так, между прочим, спрашивала господина пастора, с кем это Ирина говорила по телефону, и он ответил, что с этим господином Билкой и что он сначала ответил, а потом не стал. Адрес этого Билки я записала, так? А номер телефона у него – 2 20 68 54. Верно?
– Вы его до сих пор помните? – спросил я изумленно.
– А, память у меня отличная! – Она снова рассмеялась. – Да нет, просто шутка! Видите, вот моя записная книжка, я туда сразу все и записала. – И она показала мне маленький блокнот из искусственной кожи, какие обычно магазины раздаривают покупателям в конце года. На переплете было вытеснено: «Йенс Федеруп, продовольственные товары».
– Вы были уверены, что я с Ириной поеду в Гамбург?
– Ну, а как же! Вы исчезли, Ирина исчезла, она обязательно хочет попасть к своему жениху, вы репортер. Я же не глупая, господин Роланд!



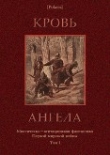
![Книга Жук [Том II] автора Ричард Марш](http://itexts.net/files/books/110/oblozhka-knigi-zhuk-tom-ii-263993.jpg)



