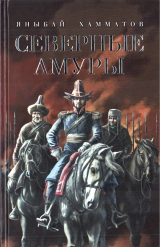
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 42 страниц)
– Не увезет ли он жену Виткевича с собою в летний домик на Хакмаре?
– Да-с! Ее пригласит отдохнуть, а муженька сплавит в дальние кантоны.
Утром Перовский вместе с Владимиром Ивановичем Далем, чиновником особых поручений при губернаторе, отбыл в летнюю резиденцию[53]53
Это место до сих пор называют «Яйляу Перовского», но летний дворец не сохранился.
[Закрыть].
Бедняга Виткевич, затравленный сплетнями, анонимными письмами, застрелился, но это уже никого не интересовало.
23Вскоре на Хакмар прискакал по вызову губернатора Буранбай.
– Здешняя дивная природа требует музыкального сопровождения! Назначаю тебя моим личным кураистом, – со снисходительной добротою промолвил Перовский и вскинул голову, дожидаясь благодарности.
Но есаул хмуро молчал.
Верхами Василий Алексеевич и Буранбай ездили от зари до зари по берегам реки, по урманам, по седой от плещущегося по ветру ковыля степи, и всюду Василий Алексеевич заставлял его играть на курае протяжные и душевные башкирские песни.
Как-то поехали вечером на рыбалку; естественно, бродили с сетью в Хакмаре оренбургские казаки, мастера-рыболовы, они и варили уху в чугунном котле, а губернатор и личный кураист возлежали на паласе у костра.
– Эх, отлично, ну до чего замечательно! – Умилился Перовский. – Играй, Буранбай, песню за песней!
Василий Алексеевич, с наслаждением вслушиваясь в мелодию, – а курай в ночной тишине звучал, пел, тосковал, плакал особенно проникновенно, – думал, что только на Южном Урале, в Оренбуржье, в башкирских степях, на берегах полноводного Хакмара могли возникнуть такие лирические песни. В лесах темно, пламя костра пляшет, изгибается, толкаемое ветром, первые звезды прорезались на небе, на лугу бродят стреноженные кони, гремят колокольчиками, и все это гармонически слилось в прозрачном, ясном, как свет звезды, голосе курая. Может, такими вот вечерами и рождаются задумчивые башкирские мотивы, песни?
– Хорошо, – повторил Перовский. – Истинная музыка – всегда любовь, всегда переживание, всегда размышление.
Стоявший неподалеку молодой башкирский казак не утерпел, откликнулся на слова губернатора:
– Башкорт песню любит: верхом скачет – песни поет, кунака в доме принимает – песни поет, в урмане гуляет – песни поет.
Перовский вспылил, цыкнул на казака, осмелившегося нарушить губернаторское блаженное упоение музыкой. Исчезла прелесть одинокого созерцания величия летней ночи, сокровенных раздумий.
Сотник подбежал на цыпочках и показал наивному парню увесистый кулак.
Василий Алексеевич был горяч, но отходчив, и через минуту подозвал денщика, велел выдать всем казакам по чарке, а казакам-рыбакам по две чарки водки.
– Играй! Играй, – подтолкнул он Буранбая.
Есаул набрал полную грудь прохладного воздуха, поднес курай ко рту, и потекла, заструилась, заиграла брызгами, как горная речка на перекатах, мелодия, но не уютная, не баюкающая, как недавние песни, а боевая, призывная, гремящая подковами военных коней, лязгом мечей, гулом барабанов.
– Это очень похоже на марш, – заметил, встрепенувшись, Перовский.
– Да, ваше превосходительство, вы угадали, ее сочинили наши джигиты на русско-турецкой войне, – ответил Буранбай. – Слова песни и даже название забылись, а вот мелодию они принесли домой, от ветеранов переняли молодые кураисты, и я запомнил, не раз играл в походах от Бородина до Парижа.
«Слава богу, что это марш русско-турецкой войны, а не гимн Салавату», – сказал себе Перовский.
Неожиданно его охватили грустные воспоминания, он думал о Бородинском сражении, поминал добрым словом ушедших – великого Кутузова, Багратиона, Фигнера, Сеславина, Кудашева…
– Послушай, – обратился он к Буранбаю, – ведь ты в тот раз собрал целый оркестр кураистов…
– А как же, – тридцать музыкантов.
– И все они отличные кураисты, мастера-виртуозы, – чистосердечно хвалил Василий Алексеевич, а Буранбай согласно кивал, хмыкал в усы.
– Всегда, во все времена каждая национальная армия имела свой марш, – с заметным воодушевлением воскликнул губернатор, как бы размышляя вслух. – У нас иные полки имеют свои марши, к примеру, преображенцы-гвардейцы – «Преображенский марш». Вот и ты собери-ка лучших кураистов по кантонам, скажи, чтобы придумали слова и мотив. Пусть состязаются, сочиняют каждый сам по себе, а мы потом заслушаем, посоветуемся. Победителю, автору лучшего марша, я подарю коня и пятьсот рублей. Так и назовем – «Башкирский марш». Ты сам, Буранбай, тоже сочини марш, а если не согласишься, то возьми на себя сбор и прослушивание кураистов, проверку слов. Ну как, нравится тебе мое предложение?
– Нравится, ваше превосходительство, и, конечно, конь и пятьсот рублей – щедрая награда, но прошу поручить это дело кураисту Ишмулле, очень талантливому музыканту и поэту.
– А он воевал?
– Еще бы! В нашем Первом полку. До Парижа дошел.
– А ты почему отказываешься?
– Шестой десяток идет, ваше превосходительство, – горько улыбнулся в усы Буранбай. – После тюрьмы совсем здоровья нет. И один глаз не видит.
При упоминании тюрьмы губернатор поморщился: «Я же тебя и освободил, держу около себя, ни в чем не нуждаешься, пора бы уж позабыть! Я тоже страдал в плену, а молчу…»
Василий Алексеевич не учел, что он томился, голодал в плену у врагов, а героя Отечественной войны Буранбая истязали в оренбургской тюрьме свои.
Буранбай молчал.
– Ладно, вызывай Ишмуллу, но спрос будет с тебя!
Спорить, отказываться бессмысленно, и Буранбай щелкнул каблуками:
– Слушаю.
– Вот так-то лучше.
Перовский усадил Буранбая рядом на паласе, налил водки; уха была душистой, отменного вкуса – никогда губернаторские повара в Оренбурге не сварили бы такую уху; правда, попахивала дымком, но от этого становилась еще слаще.
Медленно шел Василий Алексеевич к дому по извилистой береговой тропке, иногда вздрагивал, ежился – от реки тянуло резкой прохладой; позади шагал Буранбай и тоже молчал, весь отдавшись мечтам о мотиве и словах марша, «Башкирского марша»; в отдалении следовали верхами конвойные казаки.
Проживая в загородном летнем домике, Перовский не благодушничал, не бездельничал, а неусыпно следил за положением края, посылал Циолковскому приказы, требовал от него рапортов, донесений. От летней резиденции до Оренбурга сто двадцать верст, но депеши доставлялись с молниеносной быстротой: на каждой версте день и ночь дежурил в седле казак, сменившиеся спали в шалаше. Получив пакет, казак скакал во весь опор, не щадя коня, ровно версту, вручал эстафету следующему гонцу, и тот на свежем, уже снаряженном, взнузданном иноходце уносился наметом в степь.
Перовский, страдая бессонницей, мог и среди глухой ночи вызвать дремлющего в передней в кресле адъютанта, продиктовать приказ, черкнуть подпись не перечитывая, адъютант опрометью бежал на крыльцо, кричал стоявшему на плацу казаку, верхоконному, бодрому:
– Генерал-майору Циолковскому! Ответ через два часа.
И ответ приходил через два часа, минута в минуту.
Круглые сутки, в погоду и в непогоду, этот «живой телеграф»[54]54
Конная эстафета Перовского так и называлась «живым телеграфом».
[Закрыть] действовал безотказно, к великой радости и гордости Василия Алексеевича, но у Циолковского, видимо, от эстафеты хлопот прибавлялось.
Сколько казаки запалили обезумевших от плети лошадей? В губернской канцелярии павших коней не считали.
Днем и ночью в степи раздавались истошные крики всадников:
– Пакет губернатора!
– Ответ губернатору!
– Жи-ива-а!..
Пешеходы и проезжие в испуге шарахались в кусты и буераки, лишь бы не раздавили на бешеном скаку.
Перовский постоянно, старательно занимался обучением башкирских казачьих полков, часто выезжал с ними на учения, требовал быстрого маневра на опыте Отечественной войны: сочетания фронтальной атаки – конной лавы с партизанскими вылазками, фланговыми ударами по батареям, обозам. Толковых джигитов, отличавшихся на учениях сметкой, неутомимостью, меткостью стрельбы из лука с седла и крепостью удара саблей, награждал деньгами из собственного кошелька, присваивал звание урядника, назначал пятидесятниками и сотниками.
К осени полки, которыми лично занимался Василий Алексеевич, превратились в надежные ударные части, щеголявшие и выучкой, и стремительностью атаки, и форсированными маршами, – офицеры, есаулы, урядники понимали приказ с полуслова, по взгляду Перовского.
Любил губернатор посещать сабантуи, наслаждался мелодиями кураистов, песнями сэсэнов, любовался лихостью скачек, яростью борьбы батыров, победителей награждал и добрым словом, и полтиной, а то и рублем – по тем временам это были большие деньги.
Вернувшись в усадьбу, Перовский зазывал из Оренбурга гостей, закатывал пиры на сто персон с европейскими и восточными кушаньями, с лучшими французскими винами, вечером под звуки струнного оркестра в зале начинались танцы до рассвета; музыкантов – и полуживых от усталости, и пьяненьких – складывали плашмя на телеги и увозили на тройках в Оренбург.
Случалось, перебравшие водки и шампанского мужья теряли молодых шаловливых жен, и гости знали, что проказницы резвятся всю ночь с губернатором в спальне, пересмеивались втихомолку, но помалкивали, страшась дикого гнева Василия Алексеевича.
Начались затяжные осенние дожди, из-за Хакмара летели лютые степные ветры, свистели, завывали в трубах, качали скелетообразные безлиственные деревья в парке.
Перовский затосковал, усердно налегал на горячительные напитки, но и они не рассеивали хандры. Днями он лежал на диване, ночью расхаживал по кабинету.
«Какое быстротечное, какое беспощадное к человеку время! Годы идут, мне под пятьдесят, а ни семьи, ни любящей жены, ни детей. Где Клавдия, которую любил так страстно, так пламенно? Наверное, она тоже уже не та, постарела… Все эти бесконечные шалости с чужими женами добром не кончатся. Жаль, конечно, беднягу Виткевича, но ведь его милую женушку я силком в кровать не тащил. Сама примчалась во дворец по первому намеку… Да, годы идут. До сих пор чудесно везло: не погиб на двух войнах – с французами, с турками, в плену. Но дальше?.. Страшна одинокая бобыльская старость. Друзья-товарищи приятны на пирушке, на охоте, на рыбалке, но нагрянет на меня царская опала – и разбегутся разом, отрекутся… Губернаторство? Конечно, кое-что сделано, но ведь Неплюева, Волконского уже забыли, – значит, и генерал-губернатор Перовский так же бесследно исчезнет из памяти людей».
Неожиданно он вспомнил о Буранбае и послал за ним гонца.
Через день он приехал, а с ним – кто верхом, кто на тарантасах – Ишмулла и кураисты. Василий Алексеевич приказал их накормить, но без водки, а к себе пригласил одного Буранбая.
– Ну как, сочинили «Башкирский марш»? – без предисловия спросил он.
– Так точно. Готовы пятнадцать мелодий. Изволите прослушать, ваше превосходительство?
– Ну все-то слушать не стану – боюсь, запутаюсь. Я же поручил тебе выбрать наилучший.
– Выбрал! – отрапортовал по-военному Буранбай. – И назвал его «Марш Перовского».
Василий Алексеевич оживился, обрадовался:
– Зови музыкантов! А слова?
– И слова сочинили, не беспокойтесь. Пока музыканты и Ишмулла не пришли, я вам переведу. Но только, ваше превосходительство, сначала спою один в сопровождении курая Ишмуллы – он замечательный музыкант.
Перовский кивнул в знак согласия.
Вошли гурьбой кураисты, военные отдавали губернатору честь, а музыканты в годах кланялись в пояс. По знаку Буранбая Ишмулла выступил вперед, приложил ко рту курай; мотив был бодрящий, зажигательный; певец, волнуясь, пел воодушевленно, вкладывая в слова и мелодию всего себя – солдата былой великой войны.
Василию Алексеевичу марш понравился.
– Хорошо, очень хорошо! Замечательно! Теперь всем оркестром!
Кураисты только того и ждали, вскинули певучие дудочки-тростиночки, и грянул боевой марш!.. Перовский сиял, притопывал, как бы подзадоривал музыкантов и улыбкой, и плечами, и бровями, наконец принялся хлопать в ладоши. Едва музыка оборвалась, он встал, обнял Буранбая, кивнул благосклонно кураистам, подал руку Ишмулле.
– Музыка сильная, захватывающая, так и подмывает вскочить в седло, гикнуть, помчаться в атаку, рубить, крошить врагов!.. Слова? Ну мне трудно судить по переводу, но, вероятно, и слова легли на мотив верно, слились с ним, понеслись на крыльях мелодии… А кто сочинил?
– Да все сочиняли, ваше превосходительство! От каждого да по капельке… И спорили, и ругались, и переделывали. А кто сочинял известные башкирские песни? Народ!..
– Спасибо, друзья, что назвали марш моим именем, – сказал Василий Алексеевич сердечно, Буранбай-то знал, что не всем его похвалам можно верить, иные были только для отвода глаз. – Такой боевой марш будет звучать в народе долго-долго, и дело не в Перовском, а в музыке, словах и чувствах.
Он отвалил кураистам денежные награды, велел накормить их до отвала, а Буранбая и Ишмуллу, отметив и благодарностью, и деньгами особо, щедрее, пригласил к себе на обед.
Дожди между тем все не унимались, музыканты с Буранбаем уехали, и опять тоска крепкой хваткой сжала сердце Василия Алексеевича. Он пил в одиночестве, но все же опомнился, эдак немудрено и допиться до белой горячки, и верхом с конвоем – дороги развезло, в карете не проедешь – поскакал степными тропами на границу с немирной степью, проверял, как несут кордонную службу башкирские казаки, с нерадивых взыскивал, усердных пограничников чествовал перед строем и рублем, и благодарностью.
Вернувшись в Оренбург, Перовский занялся вплотную строительством Караван-сарая и расширением менового двора, где заключались купчие на куплю-продажу скота, табунов киргизских лошадей, самаркандских шелков, восточных пряностей, фруктов и лакомств.
24Иван Иванович Филатов, попечитель Девятого кантона, ехал в вверенный ему кантон в тарантасе, закутавшись от студеного ветра в чапан. Впереди скакал оренбургский казак и, размахивая нагайкой, кричал что есть силы:
– Дорогу их благородию Ивану Ивановичу, эх-ух!.. Дорогу!
Пешеходы, месившие ногами грязь, возчики арб с дровами, зерном, сеном поспешно сворачивали, а те, кто потрусливее, шарахались в буераки, чтобы не вышло беды: у Пилатки, ныне тучного, сонного, высокомерного, нрав сквернейший, привяжется по любому пустяку…
Буранбай и Ишмулла верхами возвращались в аул, неспешно беседовали, иногда и тешили душу песнями. Сизая предзимняя степь и безлиственные леса не наводили на них тоски – все здесь свое, родное, заветное.
Когда позади раздались переливы колокольчиков под дугою, крики передового казака, Буранбай спокойно оглянулся, пожал плечами и продолжал путь.
Он и спутник поднялись на пригорок, заросший молоденькими березками вперемежку с вечнозелеными, радующими взор сосенками.
– Дорогу их благородию Ивану Ивановичу-у-у!.. – истошно орал казак.
– Кто это там надрывается? Ба, Пилатка!.. – засмеялся Буранбай.
Казак налетел с разгона, поднял плеть, но узнав знаменитого певца, растерялся, с беспомощным видом оглянулся на тарантас попечителя.
Скачущие позади тарантаса казаки по приказу знатного ездока пришпорили лошадей, понеслись наметом на пригорок, но разом осадили коней – у кого же поднимется рука на Буранбая?!
– Чего там встали? Гони их нагайками с дороги, – не глядя рявкнул Филатов.
– Помилуйте, ваше благородие, да разве ж мы посмеем!.. – сказал оренбургский казак.
Филатов приподнялся кряхтя в тарантасе, узнал Буранбая и заставил себя скрипуче рассмеяться в бороду.
– А-а-а!.. Кураист его превосходительства!.. Куда путь держите? Домой? Садитесь рядом, прошу, довезу с разговорами, а во фляжке водка…
– Рахмат! – кивнул Буранбай. – Спасибо… Да верхом-то по этой распутице легче пробираться. И опять же я не один, – он указал на Ишмуллу.
– Ну твоего ординарца я в тарантас не возьму, – грубо заявил Филатов.
– Он не ординарец и не денщик, а герой Отечественной воины, – с уважением произнес Буранбай. – Знаменитый кураист!
– А все ж не их благородие, – насупился, засопел Филатов.
Буранбаю не хотелось пререкаться с попечителем, он передал повод своего иноходца Ишмулле и прямо с седла перелез в тарантас, потеснив развалившегося вольно Ивана Ивановича.
Тарантас тронулся, звякнули, залились дорожной песней валдайские колокольцы.
– Когда-то все называли меня Пилаткой, – вновь предался воспоминаниям Иван Иванович, – тыкали в нос, мол, губернаторский служка, а видишь, стал большим начальником, кантонным попечителем!
Буранбай молчал.
– Как, не раскаиваешься, что звал меня Пилаткой? – злорадствовал Иван Иванович.
– Но это же правда, что ты был мальчиком на побегушках у князя Волконского, – заметил невозмутимо Буранбай.
– Дело не в том, кем я был, а в том, кем стал! – повысил голос Филатов. – Или ты считаешь, что я не имею права быть попечителем Девятого башкирского кантона? Так что о мальчишке на побегушках, о служке губернатора не заикайся, забудь!.. Благодари русского Бога и вашего Аллаха, что меня назначили попечителем кантона! Я строг, но справедлив.
«Эти слова не твои, Пилатка, а губернатора Перовского», – сказал себе Буранбай.
– Мои конвойные казаки не зря говорили, что ты остался благородием, а я, попечитель, возвысился до высокоблагородия, – неудержимо хвастался Филатов. – Я буду приобщать диких башкир к европейской цивилизации!
– Не такие уж башкиры дикие, а европейскую цивилизацию я видел собственными глазами, – возразил Буранбай. – А вот тебя на войну не взяли, ты в Европе не был.
– Это не имеет значения! – остановил его Филатов. – Есть книги, газеты… Начнем с европейского быта. А ты сочини в мою честь песню, хвали перед народом…
«Э-э, вон для чего ты усадил меня рядом с собой в тарантас!» – подумал Буранбай и заметил уклончиво:
– Положим, ты в моих гимнах не нуждаешься – и без курая, и песни видно, какой ты сановник.
Ивана Ивановича словно по губам маслом помазали – так и расплылся в самодовольной улыбке:
– Да, да, мои заслуги неоспоримы.
Когда приехали в аул, Буранбай решительно вылез из тарантаса и сказал:
– Я тебе, Иван Иванович, мешать не буду!.. Остановлюсь с Ишмуллой у приятеля.
Филатов важно качнул бородою и толкнул сапогом кучера: гони, дескать, на площадь.
Там уже стояла толпа жителей, заранее собранных старшиною юрта по указанию попечителя. Не здороваясь, не ответив на приветствия старшины и народа, Филатов встал в тарантасе и закричал, напрягая горло, багровея от усердия:
– Приказываю сбросить башкирскую одежду и носить мужчинам косоворотку, широкие шаровары! За неподчинение – розги! Запорю! Их превосходительство губернатор Перовский решили построить в вашем ауле больницу. Старшина-а-а! Собрать незамедлительно деньги на больницу, возить из леса бревна. За невыполнение приказа – розги-и-и!..
Из мешка Иван Иванович вынул черную сатиновую косоворотку, черные шаровары из плиса, швырнул старшине:
– Шить новую одежду по этому образцу!
– Помилуйте, ваше благородие, наши жены не умеют шить по такому фасону, – растерялся старшина. – И тканей таких у торговцев нет.
– Не разговаривать! Жива-а-а!
Сидя в избе приятеля, Буранбай слышал эти вопли Пилатки на площади и злился на себя, терзался своим бессилием… Самодур, хам, издевается над его народом, а он, Буранбай, не способен его усмирить – после тюрьмы нет в нем ни богатырского здоровья, ни былой напористости.
А Филатов тем временем надрывался, приплясывал от ярости в тарантасе:
– Ломать чувалы и ставить русские печи!
– Помилуйте, ваше благородие, – снова взмолился старшина, – разве мыслимо на зиму глядя ломать чувалы? Да и как башкиру прожить без своего чувала?!
– Не разговаривать!
– Очаг сломаем, а куда же казан поставить? – спросил кто-то.
– Где осенью кирпичи достанем? – вопрошал другой.
Но упоенный властью попечитель не слушал возражений и еще пуще мешал угрозы с дикой руганью.
Пообедав у старшины, набив утробу пирогами и мясом, Иван Иванович поспал на перине у чувала, так и полыхающего жаром, ни разу не заикнувшись, что пора ломать все чувалы, и велел закладывать лошадей.
– На обратном пути заеду, – предупредил он хозяина, – собери деньги на больницу, а на подарки чиновникам губернской канцелярии, ну сам понимаешь, – мяса, масла, сыра, шерсти… Всем же приходится совать. И мне жить надо! А где Буранбай?
– Он уехал верхом в Ельмердек.
– А! Ну ладно, я тоже туда наведаюсь.
Казаки выводили со двора оседланных отдохнувших лошадей. Сытые кони покусывали удила, звякали бубенцами, переступали с ноги на ногу.
Народ в испуге разошелся, забился в избы к исконным чувалам, а старшина кланялся, провожая Филатова и проклиная его в душе: «Когда же мы от тебя избавимся, обирала, палач!..»
А Буранбай поехал не улицей, а задами, там, где кончались огороды, и все ему чудилось, что жители по избам осуждают его нерешительность:
– И наш сэсэн предался начальству!
– Отшатнулся от своего народа сэсэн!..
Разъезжая по кантону, не раз ловил он на себе косые взгляды, слышал гневные упреки, но оправдывал себя: «Да, я приближен к губернатору. Но что мне оставалось делать? Если поссорюсь, то вовсе лишусь возможности за сородичей заступаться».
Лесными тропами, где земля не раскисла от дождей и иноходец без усилий шел крупной рысью, он прискакал в аул задолго до появления Пилатки. Приемный сын его Зулькарнай, старшина юрта, знал о приезде попечителя и заблаговременно облачился в косоворотку и шаровары, писарь, сторожа, кое-кто из аксакалов тоже щеголяли в русской одежде и лапоточках вместо башкирских катов с кожаным низом и с суконными голенищами.
– Н-да, – многозначительно крякнул Буранбай.
– А что прикажешь делать, отец? – не скрывая раздражения, спросил Зулькарнай. – Сам-то молчишь? Терпишь?.. Уедет Пилатка, и опять наденем чекмени, обуемся в каты. Лишь бы поскорее пронесло этого изверга!.. Как-нибудь откуплюсь.
И промолчал гордый солдат, пряча глаза, махнул рукою и пошел к Ильмурзе, наказав сыну, что если Пилатка начнет допытываться, где он, сказать, что простыл в дороге, занемог и лежит.
А на площадь влетел с громом и звоном колокольцев, с лихими возгласами скачущих казаков тарантас, залепленные грязью лошади дымились. Увидев, как приоделись к его появлению старшина юрта, писарь, пятидесятники, Иван Иванович просиял:
– Сразу видно культурных людей! Молодцы! Хвалю за усердие!
Милостиво подал пухлую ручку Зулькарнаю, с остальными поздоровался лишь кивком головы.
– Если бы все старшины юртов проявляли такое же рвение, то башкиры быстро сбросили бы с себя ярмо дикости, азиатчины! С радостью доложу в городе губернатору Перовскому об отрадных переменах в жизни аула. Ну же, веди к столу, то бишь к табыну, закусим, выпьем и на боковую.
И, почтительно поддерживаемый под руки казаками, неспешно, солидно проследовал в дом.
А Ильмурза встретил гостя хмуро, – нет, он и обнял Буранбая, и усадил на подушку, и велел нести скорее самовар, угощение, но разговаривал нехотя, цедил слова и то и дело почесывал ногтем седую бороду.
Буранбая и смех разбирал, и злость, что так быстро из аула в аул летят худые вести о нем, но в то же время ему было понятно, что оправдываться перед народом трудно, а может, и невозможно.
– Сейчас и не поймешь, кто друг, а кто враг, – жаловался Ильмурза. – Башкиры сильно изменились, и-и-и… Не те, совсем не те, какими были при Пугаче и батыре Салавате. Тогда джигиты верно хранили дружбу, рука об руку боролись за свободу. А ныне угождают начальству, друг друга продают за деньги, за должность.
В дверь заглянула Сажида, пошамкала беззубым ртом, заныла:
– Отец, опять распустил язык, Аллах сохрани, подслушают и донесут!
– Слыхал?! – воскликнул Ильмурза со злорадным торжеством. – Вот так, в своем собственном доме я, герой войны с турками, друг князя Волконского, должен помалкивать и смириться!.. Кто нами, башкирами, верховодит? Подлый Пилатка!..
– Агай, моя совесть чиста… – начал Буранбай.
– Чиста-а!.. – передразнил его старик, разбушевавшись. – А если она чиста, борись за народ, за его благополучие! Ты же, кустым, ублажаешь губернатора маршами и хвалебными песнями.
Не ожидал Буранбай услышать от Ильмурзы столь обидных слов. Задыхаясь, он слез с нар, зашагал по горнице.
– Сам посуди, что я могу сделать один? Кричать? Шуметь? Меня же упрятали в темницу, и вытащил меня оттуда Перовский. Марш написан башкирским казачьим полкам. Кураистам, Ишмулле и мне губернатор дарил за музыку и слова собственные деньги. Да, губернатор Перовский приглашает меня к себе. А как откажешься?.. Я хоть могу при случае заступиться за безвинно преследуемого башкира.
– С одной стороны, это и хорошо. Согласен, – рассудил хозяин, меняя тон. – Да ты не горячись, садись… Но с другой стороны, кустым, ты ошибся: народ потерял в тебя веру. В кантоне тебя и не видно. Все знают, что ты неделями живешь у губернатора. Да к тебе, кустым, с жалобами на притеснения-то не пойдут, побоятся твоего гнева. Приемный твой сын – старшина юрта…
– Моя совесть чиста, – угрюмо повторил Буранбай.
– Да, меня ты убедил, но ведь всем людям не докажешь, что твоя совесть чиста. По избам ведь не пойдешь с разговорами о чистоте твоей совести. Ты еще за полсотни верст от аула был, а уже все знали, что едешь в тарантасе с Пилаткой. Хе!.. И все тебя ругали… Я, кустым, человек темный, но так прикидываю: генерал тебя приблизил не для того, чтобы ты заступался перед ним за башкирские вольности. А может, он с тобою возится, чтобы отвадить тебя от башкирского народа? Хе!.. Из зиндана не зря, видно, выпустил – станет, мол, благодарным слугою.
– Нет, агай, нет, губернатору верю. Я жизнь ему спас на Бородинском поле, он мой собрат по оружию.
– Ай-ха-а-ай!.. А ты не заблудился среди трех сосен, кустым?.. Верно говорят в народе – с начальником дружи, а топор за кушаком держи!.. Генерал-губернатор Перовский – хитрюга. До него бунты в Башкортостане не затихали, а он народ усмирил. И усмирил башкирскими же руками. Где похвалой, где чинами, где деньгами приблизил к себе башкирских батыров, заласкал их, забаловал подачками, оторвал от народа, и они же лупцевали нагайками башкир-бунтовщиков. Башкир башкира бил, башкир башкира на каторгу гнал по этапу. До Перовского так башкиры друг с другом не враждовали. Да мы и с татарами, с мордвой, с чувашами разошлись. И жизнь всюду тяжелая, а люди пикнуть не смеют. Доносов боятся! Ты же слышал, – он показал на дверь, куда уползла Сажида, – за меня, за бывшего старшину юрта тревожится… Слушай, кустым, – он оглянулся, убедился, что дверь плотно закрыта, и зашептал, вращая тусклыми слезящимися глазами, – по наговору Азамата кое-кто из здешних башкир хочет на тебя донести, что ты не Буранбай, а беглый ссыльный Еркей.
У Буранбая сердце сжалось, пропустило два-три удара, заколотилось с перебоями.
– Азамату я никакого вреда не причинил. Наоборот, всегда старался помочь. За что земляки меня ненавидят?
– Да за то, что ты привержен Перовскому. За то, что приемный твой сынок Зулькарнай старшина юрта. За то, что живешь с большими деньгами.
Буранбай лишь теперь оценил проницательность старика: как видно, не выезжая эти годы из аула, он видел все и вся и понимал. Вот с кем советоваться бы, набираться ума. Неужто поздно?..
– Сейчас мне понятна хитрость Пилатки, – понурившись, сказал Буранбай.
– Ай-хай! – Старик показал в усмешке беззубые десны. – Этот Пилатка безнадежный дурак. С ним Перовский еще наплачется. А твой приемный сын Зулькарнай научился обводить Пилатку вокруг пальца. Вьет из него веревочки. А почему? Да потому, что аксакалов слушается. Зулькарнай и налоги собирает, и башкир не обирает. Спаивает Пилатку, сует ему в карман деньги.
Без стука вошел мулла, тоже одряхлевший, но не утерявший сановитости, величия.
«Не он ли собирает подписи под доносом на меня?» – спросил себя Буранбай.
Секретная беседа его с Ильмурзой оборвалась.
Хозяин велел кухарке греть самовар.








