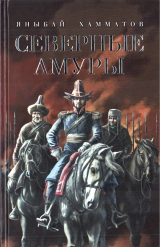
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 42 страниц)
Коновницын, отпуская Кахыма, сказал, что завтра его примет Кутузов.
Однако ни утром, ни днем никто не вызывал Кахыма, и вечером он сам, не понимая причины промедления, пошел в домик Коновницына, но дежурный адъютант, не глядя ему в лицо, буркнул, что никаких распоряжений не последовало.
И в следующие дни никто не вспомнил о Кахыме, а когда он выходил на улицу, то встречные офицеры торопливо проходили мимо. Жил Кахым с ординарцем на постоялом дворе, забитом офицерами, то числящимися в резерве Главной квартиры, то прибывшими по вызову, как и Кахым, то ждущими назначения.
Кахым терялся в догадках: что стряслось?.. Или кто оклеветал? Но врагов у него, кажется, нету. Может, мстят за какую-нибудь обиду отцу?..
Наконец в середине второй недели унылого житья на постоялом дворе прибежал связной и пригласил незамедлительно к генералу Коновницыну.
На этот раз домик был пуст, генерал посмотрел на Кахыма рассеянно, словно впервые встретил, и без предисловия спросил:
– Конь у вас добрый?
– Лихой иноходец! – с обидой сказал Кахым, окончательно сбитый с толку.
– Возвращайтесь немедленно в Муром!
– А разве башкирский казачий корпус не сформируют?
Генерал поморщился: такие вопросы без разрешения задавать неуместно.
– Об этом поговорим в свое время, а сейчас надо скакать без передыху в Муром – в башкирских полках заваруха: не хотят идти на фронт, решили вернуться домой.
– Этого не может быть! – вскричал Кахым.
– И тем не менее это так. Скачите, меняя лошадей, – получите в канцелярии подорожную особо важного назначения. Подчиняйте себе и в дороге, и в Муроме любых офицеров и чиновников – в канцелярии получите об этом полномочия. Каждый день рапорт с надежными курьерами. Вернетесь сюда по вызову.
– Оправдаю доверие…
– Их светлости князя Кутузова… – подсказал Коновницын.
– Наведу порядок…
– Железной рукою! Ну, желаю удачи!
Кахым вышел словно в чаду. Если б кто из встречных заглянул ему в лицо, то наверняка решил бы, что молодой офицер болен, и тяжело, – глаза блуждают, не только щеки, но даже губы побелели… Лишь в дороге ветер, режущий лицо, отрезвил его: нет, это недоразумение, его соотечественники, его земляки-батыры не могли уклониться от долга, опозорить свою ратную честь, свои знамена славы и верности… Четыре раза он менял лошадей, бросив на первом же перегоне с ординарцем хрипящего от усталости, с безумно кровавыми глазами жеребца.
Верстах в двадцати от Мурома он заметил в низине у реки сидевших вокруг костра джигитов; рядом бродили лошади, пощипывая кое-где выглядывающую из-под снежного паласа озимь.
Кахым решительно направил к ним коня.
– Из какого полка?
– Из Двадцатого башкирского.
– А где майор Руднев?
– Руднеф-ф? – нахально засмеялся тощий парень, не вставая. – Пес его знает, где сейчас Руднеф-ф? Он нам отныне не указ!..
Джигиты злорадно, дружно захохотали.
– Что ты болтаешь? – привстав на стременах, закричал гневно Кахым. – Командир назначен оренбургским генерал-губернатором! Война!.. Французы в Москве!..
На него обрушился шквал злых криков, упреков, визга:
– Какие там х-французы? Вранье!..
– И про Ополеона-Наполеона вранье!
– Нас увели с Урала, чтобы бунт не подняли против властей!
Теперь все повскакали, окружили Кахыма, грозили кулаками, орали и бушевали:
– Царь Пугач, оказывается, жив и здоров. Он в Пензе собрал большое войско, пойдет на Москву!
– А Салават-батыр бежал с каторги на Урал и там собирает полки джигитов!
– Нас увели с Урала, чтобы мы не ушли к Салавату!
– Царь Пугач и Салават-батыр истребляют русских помещиков, башкирских тарханов, а мы здесь, скитаемся на чужбине!
Коню Кахыма словно передалась от всадника тревога, и он вертелся кольцом, скалил зубы, рыл копытом землю, а со всех сторон сбегались с саблями и копьями парни, угрожающе вопили, лезли вперед с перекошенными от ярости лицами:
– Слава царю Пугачу! Слава батыру Салавату!
– Вернемся на Урал, спасем башкир от кабалы!
Никто из джигитов Двадцатого полка из Пермской губернии Кахыма в лицо не знал. Конечно, он разговаривал с ними по-башкирски, но мало ли офицеров, свободно изъясняющихся как на башкирском, так и на татарском языках!.. А если бунт разрастется полымем, то удержать рвущихся в родные места джигитов будет невозможно. Вера в Салавата – священная, нерушимая. Но если полки уйдут, то страшно себе представить, какие реки крови прольются, – у правительства есть в резерве и драгунские полки, и донские казаки, и стрелковые дивизии, и батареи. Окружат, сомнут, истребят!
Кахым поднял руку.
– Потише! Выслушайте меня! – миролюбиво сказал он. – Я же вам не враг, я вам не чужой…
Дружелюбный тон офицера постепенно успокоил толпу, самые главные горлопаны замолчали, продолжая сверлить всадника свирепыми взглядами. Сотники уже покрикивали на ослушников, и те привычно вытягивались в строю.
– Я – Кахым Ильмурзин, – громче сказал он, – мой отец Ильмурза – старшина юрта, воевал с турками вместе с губернатором Волконским.
– О старшине Ильмурзе я слышал, – наконец заявил рябой всадник.
– А я о его сыне слышал, – вступил в беседу джигит с копьем, – говорили, что губернатор послал сына старшины в Петербург учиться на офицера.
– Так я выучился и теперь офицер, – засмеялся Кахым и коснулся руками эполетов на плечах казачьего кафтана.
Парни переглядывались, вполголоса совещались, но разом взорвались протяжным могучим криком, едва кто-то сказал, скорее вслух подумал, чем со злым умыслом:
– А царь Пугач живой в Пензе…
Кахыму опять пришлось поднять руку, призывая к молчанию:
– Нет, агаи, нет, парни, царя Пугача казнили. И в Москве сейчас французы. Я только что был у фельдмаршала Кутузова, он хвалил полк Лачина и Буранбая…
По толпе прокатился рокот – и пермяки слышали о знаменитом певце.
– И как же я гордился храбростью земляков! – с восторгом воскликнул Кахым. – Ни разу башкиры не бросали в военной беде русских! Вас нарочно взбаламутили пособники французов, чтобы помочь Наполеону.
– А Салават-батыр? – и снова заклокотала толпа, воспламенилась, будто кто-то швырнул в сухую степную траву головню из костра, и заплясали языки огня.
– Земляки! – горько сказал Кахым. – Салават на каторге, если живой. Разве убежишь из застенков? Похоже, что скончался от унижения, страдания. Лет-то сколько прошло, как попал в плен!..
Столпившиеся около него джигиты приуныли и призадумались – не по-командирски разговаривал с ними Кахым, не властно, а задушевно, с сердечной болью.
«Куй железо, пока горячо», – сказал себе Кахым и крикнул зычно:
– Сотники, пятидесятники, ко мне!
Справившись с нерешительностью, к нему подъехали и подошли, ведя лошадей на поводу, несколько человек.
– А где остальные?
– Арестованы вместе с майором Рудневым!
Кахым выбрал взглядом плотного, рассудительного, по первому впечатлению, всадника в синем кафтане.
– Назначаю тебя войсковым старшиной, заместителем командира полка. Собери своих джигитов, самых надежных, верных, скачи, освободи майора и сотников. Честнее самим повиниться в глупости, чем ждать, когда я с русскими драгунами их освобожу. А ты… – он повернулся к молодому джигиту, горланившему недавно, да и сейчас раздувавшему ноздри, – ты веди полк в Муром.
– Слушаю, ваше благородие! – молодцевато гаркнул парень, самодовольно подбоченясь.
– Да говори всем по дороге, что Кахым-турэ шутить не любит и разделается с крамольниками железной рукою.
– Слушаю, ваше благородие, – еще звонче отчеканил джигит, взмахнул плетью, лошадь рванулась, пошла боком, оттесняя толпу. – Станови-и-ись!
– Кураисты, вперед! Песню! – вдогонку сказал Кахым и когда услышал зажигательные переливы курая, дружный напев: «Хай-хай, Урал-тау…», то снял шапку, вытер рукавом лоб и долго не мог отдышаться, словно мчался бегом из последних сил, пот холодным кипятком залил спину, лицо.
«Кажется, все окончилось на удивление благополучно!»
И точно, в Муроме полки были уже разведены по привалам, на плацу, на улицах не шлялись джигиты, часовые брали ружья на караул, командиры полков, завидя Кахыма, подъезжали к нему и рапортовали с виноватым видом, что никаких происшествий не случилось…
Если бы не случилось!..
Кахым послал джигита за тестем Бурангулом, чтобы тот откровенно, вне служебных соображений, рассказал, как возникла смута, кто, по его мнению, зачинщики, почему растерялись и сразу не пресекли бунт командиры полков.
Но потолковать по-родственному не удалось, – подъехал командир Восьмого полка капитан Плешевцев и с унылым видом спросил:
– А что мне теперь делать?
Кахым так и залился темным румянцем от гнева:
– Не знаете, что делать, ваше благородие? Порядок в полку навести. Железный порядок.
– Это я понимаю, – вяло протянул капитан, – но полка-то нету, вот беда…
– Как это полка нету? А куда он пропал?
– Подожди, зять, не горячись, – сказал Бурангул, – вот какая вышла история… Стояли мы полком в Самаре, а затем пошли маршем в Нижний Новгород. И в пути вдруг пошел слух: царь Пугач в Пензе, жив-здоров, царствует, собрал войско, чтобы идти на Москву. А Салават-батыр на Урале бросил клич – джигиты, ко мне… Ну, дальше – больше, офицеров и сотников в шею, словом, две сотни целиком убежали на Урал. И угнали еще двести восемьдесят пять ремонтных лошадей.
– А остальные три сотни?
– Те, слава Аллаху, ушли вперед на перегон и ничего не знали о крамоле! А если б задержались…
– Кто зачинщики?
– Хорунжий Тимербаев, пятидесятники Тимербаев Ишимбай, Биктимеров Айсуак, Киньягулов Хайбулла и сотник Азамат Юлтимеров.
– У-у-у, Азамат, знал ведь я, что он баламут, задира, крикун, а тут расчувствовался и предложил его в сотники! – Плетка забилась по голенищу сапога, судорожно сжатая рукою Кахыма. – А хорунжий Тимербаев, он же умный, как поддался на такой обман?
– Тимербаев сперва не поверил, – сказал капитан, – а тут со всех сторон крики: Пугач в Пензе, Салават на Урале… Он и счел недостойным батыру не присоединиться к Салавату.
– Ты, зять, не тужи, твоей вины тут нету, – принялся уговаривать Кахыма Бурангул.
– Все мы виноваты! – яростно прокричал Кахым. – Послать погоню за беглецами! Поймать и судить зачинщиков! Ко мне командиров полков, войсковых старшин, полковых мулл.
Когда командиры всех званий и рангов собрались здесь же, на плацу, Кахым с седла строго отчитал их за развал дисциплины, то и дело приподнимаясь на стременах, он отрывисто выговаривал офицерам, которые годились ему в отцы:
– Не знаете, о чем думают, говорят, мечтают джигиты!.. Услышали подстрекателя – тут же расстрелять на месте! Муллы, намаз намазом, а надо душевно беседовать с парнями у костра.
Бурангул смотрел на зятя с восторгом – не ожидал от молодого офицера такой прыти и такой властности.
– В Тарутинском лагере русская армия переформировалась, отдохнула, подучилась, ждет не дождется приказа фельдмаршала Кутузова, чтобы ударить по французам. Завтра грянет сокрушительная битва. В корпусе атамана Платова овеянные славой башкирские казачьи полки. Что я скажу землякам, вернувшись в Тарутино, о ваших полках, покрывших свои знамена срамом? Как взгляну им в глаза?
Командиры полков наперебой убеждали Кахыма, что дисциплина будет восстановлена, что поддавшиеся бунтарям джигиты пристыжены, раскаиваются и клянутся воевать честно, храбро.
Вечером Кахым послал с нарочным генералу Коновницыну рапорт – порядок восстановлен, полки продолжат с утра ученье со стрельбами и рубкой. О себе ни слова не написал: вызовут – поеду, а промолчит Коновницын – буду служить в корпусе Лобанова-Ростовского.
Ужинать и ночевать он пошел к тестю. За вечерней трапезой Бурангул спросил осторожно:
– От Сафии приходили письма?
– Нет.
– А ты ей писал?
– Да понимаешь, ни минуты свободной, – сказал Кахым, опустив глаза.
– Я лично получил послание от твоей тещи. У Сафии все благополучно. Недавно сват Ильмурза, сватья Сажи да и Сафия с Мустафой приезжали в Оренбург, навестили ее, погостили.
– Слава Аллаху, – буркнул Кахым.
«Нет, суть не во времени, а в том, что я решил: если война, то надо забыть и о жене, и о сыне!..»
– Напиши Сафие письмо, – попросил тесть.
– Обязательно! Сегодня же! – горячо пообещал Кахым, но вдруг осекся: – Понимаешь, кайным, сейчас надо писать рапорт князю Лобанову-Ростовскому и в ночь послать с курьером в Нижний.
4Две сотни Восьмого полка на рысях форсированным маршем шли на Урал, всадники подгоняли друг друга и лошадей, но кони словно чуяли, что возвращаются в родные аулы, и бежали неутомимо. Власть над обеими сотнями самолично захватил бурный Азамат, и хорунжий Тимербаев не перечил ему – видно, на все махнул рукою, одолеваемый мрачными предчувствиями.
На рассвете третьего дня беглецы подскакали к реке Иргиз у горы Байсур.
– И-эх, красивы, привольны родные просторы, – восхищался пятидесятник Ишимбай. – И осенью, и с ветрами, буранами, хороши! Слушай, сотник, надо свернуть в аул, устроим дневку, отдохнем, кумысу похлебаем…
У Биктимерова и Киньягулова в глазах заплясали плутовские огоньки.
– И кумысу, и молодух Иргиза надо отведать! Ха!..
Азамат так и взвился, загорланил свирепо:
– Торопимся к Салават-батыру, а у них на уме не борьба за свободу, а кумыс да бабы!
– Сотник, сотник! – заныл Ишимбай. – Зачем спешить?.. Салават-батыр поведет войско к Волге, значит, навстречу.
– А погоня?
– Да если русские казаки услышат весть о приближении армии великого Салавата, то оробеют и повернут обратно! – пообещал щедрый на посулы Биктимеров.
Всадники оглушительно, заливисто захохотали, но хорунжий Тимербаев с досадой поморщился.
– Скорее бы соединиться с войском Салават-батыра! – задорно выкрикнул молодой паренек из сотни Азамата.
– Ну тогда мы им покажем, царским правителям! – угрожающе подхватил его сосед.
Азамат неожиданно остановил коня, посмотрел по сторонам, пожаловался:
– Джигиты, тихо вокруг, тихо. К добру ли?.. Без башкирских полков Салавату придется туго, а мы вот плетемся словно с базара…
– Не каркай! Не накликай беды! – зло сказал Айсуак. – И без того лошади шатаются, вот-вот рухнут.
И все же беглецы построжали, подтянулись, не заикались о кумысе и молодухах.
– Песню! – скомандовал Азамат.
Кураисты завели напев, а всадники дружно, прочувствованно затянули походную героическую:
Конь Салавата
Могучий, крылатый,
Ветра быстрее мчится батыр,
Кличет Салават верных джигитов.
Скачет Салават зелеными долами,
Резвый конь играет иноходью.
Беспощадно громят извергов
Царь Пугач и Салават.
Стрелы батыра Салавата
Медноконечные, пернатые.
Много было великих героев,
Но Салават всех славнее.
Тимербаев вздохнул:
– Справедливо это, наш Салават – батыр из батыров. Такого уже не будет.
– Пока народ живой, и батыры народятся, – послышались голоса. – О-го-го, они еще покажут себя!..
– Так-то оно так, – еще сокрушеннее завздыхал хорунжий, – но пока я наследника славы Салавата не видел.
– А Кахым-агай?
– Да что Кахым! – подумав, сказал рассудительно Тимербаев. – Он и умный, и смелый, и с образованием. Но молод. А полководцу нужна мудрость. Фельдмаршал Кутузов – наимудрейший старец.
– К Кахыму тоже с годами придет мудрость.
– Вот тогда я его и признаю своим вождем…
Тимербаев еще сильнее помрачнел, ехал молча, кусая ус, лезущий в рот, наконец решительно мотнул головою и позвал к себе Азамата.
– Ехать наугад, вслепую рискованно… Мы ничего не знаем, не ведаем!.. А если в Оренбурге и Уфе прознали о нашем марше и выслали с границы, с дистанции русских казаков! Перехватят и вырубят… Я поеду в разведку в ближайший аул.
– Только возьмите охрану из надежных всадников, – сказал Азамат, – так будет поспокойнее. – Его самого пугала гнетущая тишина полей.
Беглецы разнуздали лошадей, пустили их по озими, степной ветер кое-где сдул снег, и на проплешинах зеленели всходы, а на меже и трава; нашли омет соломы и раструсили ее на охапки, чтобы каждому коню досталась хоть какая-то порция, а сами парни уныло пожевали черствые корки хлеба и кругляши корота.
Хорунжий вернулся темнее грозовой тучи – аул большой, два порядка, сотни три домов, ходил он из избы в избу – никто не слышал о возвращении Салавата; зашли к купцу – тот разъезжал по базарам, – и там разговоров о великом батыре не было… Пошел Тимербаев к мулле, но святой отец, едва услышал о Салавате, зашипел, как прокисший в жару кумыс, затопал ногами и прогнал хорунжего из горницы.
«Не зря у меня сердце ныло и левый глаз со вчерашнего дня дергается», – сказал себе Азамат, но и виду не подал, нарочно громко заявил:
– Здешние жители ужасно хитрые, я и до войны это знал, – если они и знают, то ничего не скажут. Поехали дальше!..
Но подбодрить всадников не удалось, они переглядывались, шептались, глаз не сводили с озабоченного лица хорунжего: Тимербаев – в годах, у него житейская сметка, рассудительность, Азамат же опрометчив, скор на шальные поступки.
Верстах в тридцати от Уфы наткнулись на башкирского казака из Уфимского полка, который ехал в родной аул на поправку – его отпустили по болезни. Служилый едва с седла не слетел от нежданной-негаданной вести:
– Какой Салават-батыр?.. О нем ни слуху ни духу. Гарнизон – Уфимский стрелковый полк. Купцы торгуют, готовятся к Рождественской ярмарке, ждут из Самарканда шелков, атласов!.. На базарах привоз богатейший.
И, боязливо поглядывая на заскрипевшего зубами от ярости Азамата, человек огрел плетью лошадь и поскакал по тракту, моля Аллаха о спасении от этой шайки то ли разбойников, то ли бунтовщиков.
Но его никто и не пытался задержать – все накинулись с попреками на Азамата:
– Ты нас погубил, сумасброд!
– Теперь нас казнят!.. На войне погибнуть не страшно – Аллах возьмет праведника в рай, а качаться в петле – позорно!
Тимербаев места себе не находил – то слезал с седла и быстро расхаживал по обочине, то плотно растирал ладонью лоб, то бормотал ругательства в усы.
– На старости лет поддался на такую удочку! – поносил он сам себя. – Не зная броду, полез в воду! Ведь меня бы вот-вот назначили войсковым старшиной.
Но Азамат не признавал себя обманутым, вертелся в седле вправо-влево, кричал до хрипоты, раздувая горло, как крикливый петух:
– Нас на испуг берут! Этого болтуна-джигита царские власти подослали, чтобы внести разброд! На Пермь пойдем – там Салават, там!..
Однако хорунжий сказал наотрез:
– Никуда не пойду. Нас подло обманули.
И благоразумные всадники потянулись к нему.
Взъяренный Азамат назвал их отступниками, палачами башкирского народа, погубителями великого Салавата, но эти исступленные вопли уже никого не сбили с толку, – хорунжий приказал негромко, без нажима, строиться и повел сотни в ближайшее село Нукут.
С Азаматом осталось всего шестьдесят забубенных головушек, то ли отчаявшихся, то ли издавна мечтавших поразбойничать, и он умчался с ними в горы, положившись на судьбу, надеясь на заимках подкормить лошадей, отлежаться и броситься с парнями на кровавую сечу за Салават-батыром.
5Азамат все еще не верил, что его обманули. «Нет дыма без огня. Великий батыр на Урале, но прячется, ждет, когда к нему придут верные джигиты». И он беспрестанно посылал парней в соседние аулы – поразведать, выспросить, что говорят в народе о возвращении батыра. И сам ездил на поиски… Все напрасно! В аулах зимняя спячка, да и мужчин-то вовсе не осталось – ушли с башкирскими полками на войну. Надеяться ему не на что, остался Азамат в дураках.
Кроме того, некоторые хитрюги с удовольствием уезжали на розыски, но в лагерь Азамата не возвращались – значит, подались к родственникам в глухие уголки отсидеться до поры до времени.
Что делать теперь Азамату? Стыдно, нестерпимо стыдно стать дезертиром! Его земляки уже в бою на подмосковных рубежах, честно сражаются. И если бы убежал один, а то ведь сманил за собою две сотни всадников. Может, не заворачивать в Оренбург, мчаться с повинной в свой полк? Искупить вину храбростью в битвах, и тогда простят, обязательно простят. Но если в пути перехватят свои же башкиры и по закону дедов и отцов предадут суду аксакалов? Тогда – позорная смерть. Убежать за кордон, в немирную степь? Измена.
Наконец он решил: «Чужой не пощадит, а свой не убьет», распустил парней на все четыре стороны и один-одинешенек поплелся на коне – единственном своем достоянии – в аул Ельмердек, чтобы потолковать с отцом Кахыма, старшиной юрта Ильмурзою.
Ехал он не дорогою, а лесами, буераками, ложбинами. В безлиственном лесу было необычайно просторно, но уныло. В оврагах конь увязал в снегу по брюхо, выбивался из сил, скользил на оледеневших склонах – сломает ногу, и пиши пропало…
Часто он слезал с седла и вел коня в поводу, вполголоса напевая песенку:
Запряги в сани коня,
Уеду в дальние горы.
Дайте бумагу, перо,
Напишу завещанье.
Не всякая дорога прямая,
Не всякая птица певчая.
Всегда и всюду нужен друг,
Пропаду без друга.
Вот и околица Ельмердека. Рискованно ехать по улице, и он свернул к реке, чтобы пробраться к своему дому задами, по берегу, через огороды.
Стоял самый глухой час ночи, даже собаки отлаялись и забились в конуры.
Азамат взошел на расшатанное крылечко, дверь открыта, ступил в темную избу, и на него пахнуло могильной тишиною – ни жены, ни сына, ни дочки… Он долго стоял в оцепенении, даже застонать, расплакаться не было сил.
И зашагал к дому старшины.
Едва вошел во двор со стороны сараев, летней кухни, амбара, как собака вскинулась, загремела цепью, забилась в злобном лае. Азамат совершенно растерялся – то ли уходить, ждать рассвета, то ли звать работника, кучера.
Вдруг с порога кухни послышался испуганный женский голос:
– Кто там? Кто?..
– Танзиля!..
Азамат с трудом перевел дыхание, холодный пот заливал лицо. Всегда он был дерзким, самоуверенным, а тут трясся от страха.
– Это я, Азамат! Аза-ма-ат!.. – прошептал он еле слышно.
И Танзиля тотчас же успокоилась, словно предчувствовала, что он придет, ждала… Она отвязала собаку, увела ее и закрыла в сарае, та смолкла, видимо, решив, что свой долг выполнила и можно теперь поспать…
– Азамат, – сказала она вернувшись, глядя с осуждением и жалеючи на искаженное горем лицо джигита, – уходи скорее, беги из аула, тебя ищут драгуны и русские оренбургские казаки. Поймают – убьют на месте.
– Где же дети? Жена?.. Танзиля, голубушка, скажи скорее, ты же добрая, – умолял Азамат.
– И дочь и сын умерли от заразной болезни… Убегай скорее, агай! А жена рехнулась от горя, и тебя, беглеца, стыдилась, горевала и голодом себя уморила… Уходи, агай!
Азамат пошатнулся, заскрипел зубами, не зная, то ли рухнуть и грызть землю, то ли кинжалом распороть себе живот.
– Я не беглец… – выдавил он. – Танзиля, ты же добрая, добрая, верь мне…
– Ты трус! Испугался французов и сбежал.
– Нет!.. – Перед глазами Азамата плыли багровые пятна, он жмурился, отгонял их рукой, словно кольца табачного дыма. – Был бы трусом, не пришел бы сюда.
– Не беглец, не трус, так кто же ты? А?
– Меня обманули, Танзиля, злые люди! Верь мне, милая… Мне сказали, что батыр Салават вернулся на Урал и созывает войско, и я к нему поскакал, под его знамена… Выходит, я ошибался, я заблуждался, но я не преступник.
Танзиля бесцеремонно оборвала его жалкий лепет:
– Ты на Салават-батыра вину не сваливай, никто тебе не поверит, и я не верю! Ты свой народ опозорил, улепетнув из армии. От тебя народ шарахнется, как от зачумленного!
Азамат в бешенстве завопил:
– Баста!.. Замолчи, глупая! Беги, доноси на меня! Никого не боюсь! Уйду на войну и кровью спасу свою честь! Потому и пришел к старшине Ильмурзе! Иди подыми его с перины, скажи – Азамат явился с повинной!
Но у Танзили характерец был крутой, и она тоже взбеленилась:
– Ты на меня голоса не подымай! Ты не грози! Ишь разбушевался!.. Да как ты смеешь, прощелыга?.. У свекра забот полон рот – призыв в армию, посылка обозов с провиантом в Нижний! И вдобавок молодая жена сбежала с красавчиком Хафизом!
А в доме проснулись, свеча, лучась, поплыла из окна в окно, с кухни в горницу, заскрипел засов на парадном крыльце, вышел Ильмурза с посохом в руке, поддерживаемый служкою.
– Килен, ты с кем так разругалась? – спросил он ворчливо.
– Да как же не ругаться? В такую пору заявился Азамат и требует, чтобы я тебя вызвала.
Ильмурза помолчал раздумывая, почмокал губами, запахнул на груди теплый стеганый халат и произнес громогласно, словно на сходке:
– Путник, ступивший на порог дома, – мой гость, и я встречу его достойно! Заходи, кустым… – И обратился к Танзиле: – Килен, – отвел ее, зашептал в ухо, сквозь платок, и сноха кивнула, побежала к калитке. – Кустым, – продолжал старшина радушно, – проходи в горницу, мусульманам не годится беседовать стоя, на ветру, о серьезных делах. Сейчас прикажу поставить самовар.
– Да разве мне до чаепития! – без слез прорыдал Азамат. – Скажи, простят ли меня башкиры?
– Я послал килен собрать аксакалов. Придут старцы, вынесут справедливый приговор. Глас народа – глас божий!.. – Ильмурза широко развел руки: дескать, его власть не беспредельна. – Сам знаешь, сколь суровы башкирские законы о наказании беглецов с войны.
– Я не беглец! Не дезертир! Пойми, Ильмурза-агай, меня обманули, сказали, что Салават…
– Не надо, кустым, – остановил его старшина, – расскажешь о себе, о своем поступке аксакалам.
Вскоре прибежала запыхавшаяся Танзиля, а за нею приплелся мулла Асфандияр, стуча посохом о мерзлую землю, о ступеньки крыльца, а там, один за другим, пришли старцы, снимали у порога кожаные калоши, шептали молитву, гладя ладошкой бороду, и величаво шествовали в горницу, рассаживались на нарах, застланных паласом, подминая подушки.
Тем временем злая служанка – выспаться не дали – принесла, брякнула на поднос самовар. Сажиде, видно, тоже не хотелось подниматься с перины ни свет ни заря, но она подчинилась обычаю и с вымученной улыбкой расставляла чашки, тарелки с казы, с холодной вареной кониной и сыром.
Ильмурза пригласил в горницу понурого, бледного Азамата.
– Святой хэзрэт и вы, аксакалы, должны сейчас судить по законам мирским и божеским сотника, ушедшего на войну и сбежавшего оттуда. Вверяю вам его судьбу.
Но старцы со свистом хлебали душистый чай – только у Ильмурзы можно полакомиться китайской травкой, а дома приходилось довольствоваться настоями трав – и, казалось, Азаматом не интересовались.
А рассвет уже высветлил верхние стекла окон, лишь ниже и на подоконниках лежали рыхлые, словно шерстяные очески, тени.
Ильмурза и старцы ждали мудрого слова муллы Асфандияра.
– Надо сперва выслушать самого… преступника.
Азамат вздрогнул.
– Да, преступника, – твердо повторил мулла. – Пусть объяснит, как сбил с верного пути башкирских джигитов, ушедших на войну против врагов России.
Азамат заговорил медленно, тщательно подбирая верные слова, – он страшился, что его все станут именовать и преступником, и дезертиром:
– Святой хэзрэт, почтенные аксакалы! Я признаю, что увел две сотни Восьмого полка на Урал из лагеря под Муромом. Однако я повел их на помощь великому Салавату… Только здесь, по дороге в Уфу, мы узнали, что нас обманули.
Мулла дробно застучал посохом по половицам:
– Грех подбивать людей на бунт! Это от гордыни, а не от смирения!..
– Но, святой отец, Пугачева, Юлая, Кинью, Салавата власти проклинают, а народ чтит благолепно, – опрометчиво возразил Азамат. А спорить ему не надо бы.
– Нет власти, если не от Бога!.. – взвизгнул мулла. – И великие башкирские батыры не имеют отношения к твоему бегству.
Но Азамата уже понесло напропалую:
– Когда на Самарской стороне пошел слух, что Пугач в Пензе собирает войско, то русские мужики сразу оседлали барских лошадей и поскакали к нему. А тут говорят – Салават на Урале. Как можно отмолчаться, отсидеться? И мы поскакали к нему.
Рябой тощий старец неосторожно высказал то, о чем, пожалуй, втайне думали и остальные аксакалы:
– Азамат поступил как истинный башкир.
И мулла, и Ильмурза осуждающе взглянули на него, а Азамат подумал: «Теперь тебя, болтуна, со всеми аксакалами в дом старшины юрта не пригласят».
Ильмурза сказал разумно, как и положено старшине, доверенному лицу генерал-губернатора:
– Не спешите с приговором, дабы не свершить непоправимой ошибки. Все следует обдумать, обсудить всесторонне, глубоко… Башкирский джигит всегда садился в седло, брал в руки лук, стрелы, саблю, когда России угрожали враги. Это не нами началось и не с нами закончится. Это – от прапрапрадедов!.. Это из седой старины!.. Джигиты ушли, а башкиры Оренбургского края отправили в подарок русской армии четыре тысячи сто тридцать голов лошадей. Из стариков-башкир, не подлежащих призыву, сформировали двадцать башкирских полков для охраны восточного кордона России. Всю мужскую работу в аулах выполняют женщины и подростки. И вот теперь скажите, аксакалы, как отзовется о нас народ, если оправдаем Азамата?.. «Наши мужья, наши сыновья проливают кровь на войне, иные уже голову сложили на поле брани, а вы простили беглеца!» – с такими проклятиями обрушатся на нас женщины. А мой сын Кахым? – дрогнувшим голосом спросил Ильмурза. – Он на войне! И жив ли?..
Удар – отцовский! – был нанесен с предельной точностью, и аксакалы словно преобразились – метали на Азамата гневные взгляды.
– Да разве вернулся бы я на Урал, если б почувствовал, что слухи о Салавате – обман? – взвыл Азамат, но возмущенно заговорившие старцы его уже не слушали.
– Если б такой слух прокатился, то и мы бы услышали!..
– А почему из других полков не сбежали?
– Струсил, так и говори!..
Азамат уже не защищался:
– Э-э, делайте со мной что хотите. Значит, шайтан попутал.
Мулла предложил, и старцы единодушно с ним согласились, – отправить Азамата в Оренбург, в распоряжение генерал-губернатора.
– Если вы, земляки, меня не пожалели, то в Оренбурге и вовсе не пощадят, – горько усмехнулся Азамат. – Ладно, я готов. Закуйте в кандалы и везите в тюрьму! – и он протянул мускулистые руки.
– Не торопись, – успокоительно заметил Ильмурза, довольный, что не он лично властью старшины, а святой отец и аксакалы именем народа осудили беглеца. – Пока ты в моем доме, тебя не тронут. Иди на кухню, там накормят…
«А рядом с собой уже не сажаешь!» – смекнул Азамат.
– Поставь лошадь, если она у тебя еще имеется, в конюшню.
– Беглец не имеет права на гостеприимство старшины юрта! – крикнул в запале Азамат.
Аксакалы закачали бородами:
– Зря упрямишься, парень!
– Верно говорят: злого повесят, а смирного согнут еще ниже, но пощадят!
– Покорную голову меч не сечет!..
Но Азамат уже ошалел от обиды и ярости:
– И в Оренбурге перед губернатором шею не согну! Раз вы, отцы, меня сочли виноватым, приму любое наказание. Сам в тюрьму приду. Без конвоя!..
И он выбежал опрометью из горницы.
В сенях его поджидала заплаканная Танзиля.
– Прощай, красавица! И ты меня заклеймила! – едко сказал Азамат, заглянул в ее глаза и увидел, что она его пожалела.








