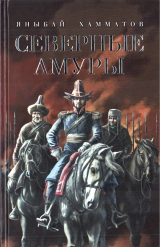
Текст книги "Северные амуры"
Автор книги: Яныбай Хамматов
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 42 страниц)
Состоится ли завтра генеральная битва – «второе Бородино»? К пущей злости царя Александра и Беннигсена, Кутузов явно не желал большой баталии – фельдмаршал берег солдат, справедливо считая, что французскую армию окончательно доконает Генерал Время.
Наполеон страшился нового главного сражения, хотя и страстно мечтал о победе. В деревне Городне в покосившейся крестьянской избе он всю ночь получал донесения разведчиков, увы, беспросветные: костры в русском лагере умножались, свежие, отдохнувшие войска подходили, полукольцом перехватывая Калужскую дорогу. Император послал маршала Бессьера, пользовавшегося его безусловным доверием, лично осмотреть позиции русских. Маршал с конвоем скитался полночи, вернулся измотанным и приунывшим, честно сказал, что атаковать армию Кутузова невозможно.
На рассвете Наполеон сам выехал на рекогносцировку в сопровождении адъютантов. Охрану императора предупредили с опозданием, и злые, невыспавшиеся, голодные кавалеристы еще седлали лошадей.
Вся Калужская дорога была заставлена остановившимися еще вчера повозками, фурами, телегами, пролетками; среди них попадались и артиллерийские зарядные ящики, и фургоны с боеприпасами. Среди бивуаков гвардии, считавшейся резервом Наполеона, за обозами, он чувствовал себя в безопасности.
Неожиданно по дороге послышались испуганные крики, вопли, стоны, во все стороны разбегались ездовые, солдаты, легкораненые офицеры. К Наполеону мчались ровными стройными рядами всадники, и он и свита решили, что это спешит эскадрон охраны. Но почему же возникла паника на дороге? Опрокидывались экипажи, трещали оглобли и колеса, визжали в предсмертных муках лошади. И грянуло такое удалое, такое молодецкое «ура», что конь под Наполеоном заплясал и по нему пробежала мелкая дрожь. Если бы платовские казаки не гаркнули привычное «ура», то изрубили бы и Наполеона, и его офицеров. Была роковая минута, когда французского императора защищали саблями лишь маршалы Мюрат и Бессьер, генерал Рапп и адъютанты. Вскоре подоспели эскадрон легкой кавалерии и гвардейские егеря. Платовские казаки не приняли боя и ускакали, увозя с собою многочисленные трофеи.
Весь день Наполеон широко улыбался, приглашая подчиненных вместе с ним посмеяться над забавным происшествием. Однако в глазах его метались искорки страха.
Вечером он вызвал к себе гвардейского доктора Ювана и попросил дать ему пузырек с безотказно действующим ядом, решив далее не искушать судьбу – до сих пор она относилась к нему благосклонно, но теперь стала чудовищно мстительной.
Не потому ли он и повернул поток отступающей армии на Боровск, Можайск, а дальше на Смоленск, даже не догадавшись, что этого и ждал от него мудрый Кутузов?
Когда к фельдмаршалу заехал накоротке зять Кудашев, то Михаил Илларионович добродушно занимался чаепитием, то и дело вытирая вспотевшее лицо полотенцем.
– Здравствуйте, батюшка, – радостно сказал полковник, целуя тяжелую, с выступившими фиолетовыми жилами руку. – Счастлив, что вижу вас в добром здравии.
– Мне-то что, дело стариковское, – ответно улыбнулся тесть. – Где корпус?
– Задействован на преследование бегущих французов. Но, батюшка, им не сладко, но и нам не весело – маршируем по выжженной земле: ни дома, ни сарая, ни бани, ни клочка сена. Пленные показали: Наполеон приказал вернуть нам русскую землю обугленной, испепеленной. Лошади шатаются от бескормицы.
– Морозы придут, станет еще хуже, – трезво предсказал Кутузов. – Мы хоть как-то наладим подвоз, а французы обречены на вымирание… Скорее бы выгнать полчища Бонапарта. Если не помру до этого светлого дня…
– Ну-у, батюшка, – укоризненно протянул зять.
– Если не помру, – повторил фельдмаршал невозмутимо, – то удалюсь на покой. Уеду в Волынскую губернию. Там воздух сладчайший.
– А согласится ли Екатерина Ильинична покинуть Петербург? – осторожно осведомился Кудашев.
Речь шла о жене Михаила Илларионовича, теще Кудашева.
– Ее полная воля. Принуждать не стану. Одиночество – удел стариков. Мой погодок, друг заветный, князь Григорий Семенович Волконский, проживает с одна тысяча восемьсот третьего года в далеком Оренбургском крае. А чем, спрашивается, я его лучше? Значит, заживу бобылем. Да, напиши-ка от моего имени письмецо князю Григорию Семеновичу. Не поленись, Николенька.
– Извольте, батюшка.
Кутузов диктовал медленно, выбирая слова осмотрительно, бережливо:
«…Спешу поздравить ваше сиятельство с победою и поставлю за особливую честь ускорить извещением о счастливом действии нашего оружия против врага отечества… Все случаи показывают настоящую гибель французов. За ужас и слезы поселян наших достойную получают они плату, и воздух наш не заражен более врагами, но земля усеяна костьми их. Вы не можете представить, ваше сиятельство, радости и удовольствия, с какими все и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем, и с какой храбростью наши воины, в том числе и казаки, и некоторые башкирские полки, поражают их. Вчерашнего числа вновь взяты 21 пушка и более 3000 рядовых французской гвардии с генералами и 60-ю офицерами. Войска неприятельские доведены до неимоверного состояния. Генералы их едят лошадей, солдаты же употребляют в пищу умирающих товарищей своих, что мы лично видели… При запечатании письма еще привели 2000 человек пленных французов и 26 офицеров неприятельских…»
Последние слова фельдмаршал произнес после того, как дежурный адъютант вошел в горницу и прочел вслух только что доставленное в Главную квартиру донесение.
16Князь Григорий Семенович вернулся в Оренбург из длительной поездки по уральским казенным заводам, выполнявшим заказы военного ведомства. Ровно четверть всех пушек и боеприпасов давали армии заводы вверенной его попечению Оренбургской губернии. Авзяно-Петровский, Узянский, Зигазинский, Катав-Ивановский, Симской, Белорецкий заводы изготовляли бомбы, ядра, гранаты, картечь, а Златоустовский, Саткинский, Кусинский отливали пушки разных калибров.
Поездка была старику непосильной: он и щеки отморозил, его заносило вьюгой в степи, но князь держался, взяв себе в образец подвижничество Кутузова, сверстника, держащего на своих плечах всю войну с Наполеоном. Придавал ему бодрости и уральский мастеровой – шустрый, смекалистый, острый на язык, неутомимый, а рабочий-то день длился двенадцать часов… И ни слова жалобы! «А ведь они лили пушки и ядра для армии Пугачева и Салавата, – думал со свойственной ему широтою воззрения Григорий Семенович. – Все мятежные батареи были укомплектованы уральскими пушкарями. И – забыли, как и башкиры. Не вспомнят ли после войны?»
В Оренбурге князь попарился в бане, хлестал его веником на полке все тот же Филатов-Пилатка, отлежался на пуховиках в жарко натопленной горнице, сходил в собор, отстоял и обедню, и молебен с акафистом, приложился к чудотворному образу и, наконец, явился в губернскую канцелярию, сухой, пряменький, в мундире.
Правитель канцелярии Алексей Терентьевич Ермолаев вручил ему личное письмо фельдмаршала Кутузова и распухшую от бумаг папку с циркулярами и предписаниями различных министерств и ведомств из Петербурга, с рапортами гражданских губернаторов, начальников кантонов.
– Докладывайте, – сказал князь, придвинув бумаги Ермолаеву, а сам погрузился в послание Михаила Илларионовича, изредка с одобрением кивая: – Да, да, так… согласен… – Вдруг он вскинул голову и прочитал громко, почти прокричал с заблестевшими от слез глазами: – «Вчерашнего числа вновь взяты 21 пушка и более 3000 рядовых французской гвардии с генералом и 60-ю офицерами!..» Слышите? Тысячами сдаются в плен! Михаил Илларионович, мой любезный друг, вот-вот окончательно добьет французскую армию! Услышал Всевышний наши молитвы! – Григорий Семенович истово перекрестился; Ермолаев из вежливости тоже осенил свой мундир мелким крестиком. – Станете писать в губернии, в кантоны, обязательно сообщайте такие новости!.. – и протянул письмо правителю канцелярии.
– Пришло письмо от известного вам Кахыма Ильмурзина. Пишет, что видел вашего сына Сергея Григорьевича. Молодой князь здоров, в отличном настроении.
– Еще бы! – Старику Волконскому было вроде неудобно после такого счастливого послания Кутузова, таких вестей, каких ждала вся Россия, радоваться, что сын здоров-невредим, и он с притворной строгостью заметил: – Завидую Сергею, что он на передней линии. Проклинаю старческие свои хворости, из-за которых не обратился к царю Александру с нижайшей просьбой отправить меня на войну.
– Вы и здесь приносите огромную пользу русской армии, – сказал Ермолаев, и он был прав.
Уладив все дела, подписав нужные бумаги, князь спросил:
– Ну что еще, Алексей Терентьевич?
– Смотритель тюрьмы заезжал. Сотник Юлтимеров Азамат, ну тот, зачинщик мятежа, очень плох. Видно, умрет днями.
– Распорядитесь увезти в деревню. На дровнях. В казенном тулупе. И пусть дома, в своей избе помирает.
Пожалуй, это был великодушный поступок князя.
– А примут ли деревенские старцы отступника? У башкир к беглецам беспощадное отношение.
– Напишите старшине юрта Ильмурзе, что преступник получил по заслугам шомполами. Наказан справедливо. Кроваво.
В этот же день искалеченного, слабодышащего Азамата уложили плашмя в сани, прикрыли тулупом и в сопровождении урядника отправили в его родной аул Ельмердек.
Старшина Ильмурза вертел письмо Ермолаева и так и сяк, послал служку за муллой – пускай, дескать, святой отец сам рассудит. Мулла охотно явился к чаепитию – к обряду, соблюдавшемуся в доме старшины неукоснительно, однако решать этот вопрос самолично не рискнул, попросил созвать аксакалов. Старики осушили два ведерных самовара, бурно спорили. Сперва они отказались, согласно древним законам, принимать беглеца, но наконец признали, что Азамат уже сурово наказан и теперь все во власти Аллаха.
Проводив гостей, Ильмурза заныл, жалуясь жене:
– Ушла на угощенье пачка китайского чая. Съели все медовые лепешки. И все из-за этого негодяя Азамата! Опозорил весь аул. Кого приставить к нему, чтобы хоть как-то ухаживал? И все заботы на мне!
– Да кто ж согласится идти в его дом? – сказала Сажи да.
В семействе старшины эту зиму было уныло, скучно, неуютно: молодая жена Ильмурзы Шамсинур сбежала с красавчиком Хафизом, Сафия килен с внуком Мустафой уехала в Оренбург к матери да и осталась там. Ясно, что хозяин по любому поводу срывал злость на Сажиде и Танзиле.
– Я пойду лечить и кормить Азамата, – вызвалась Танзиля, смело взглянув на свекра.
– Ай, Аллах мой! – воскликнула Сажида, схватившись за голову. – Это наша килен войдет в избу одинокого мужчины? Что за новости!
– Я пойду к больному. К умирающему.
– Ты же его терпеть не могла, – напомнил Ильмурза.
– Мало ли что было и быльем поросло, – повела плечом Танзиля. – А чего я здесь торчу? Свершу доброе дело.
– Это доброе дело – присматривать за беглецом?! – закудахтала Сажида.
– Азамат хотел идти к Салават-батыру. Он же не струсил, не сбежал с поля боя. Верю, что кайнеш Кахым благословил бы меня на услужение больному.
– Ты моего Кахыма не задевай! – рявкнул Ильмурза. – Наш сын – высокий турэ, он на войне.
Но упоминание о любимом сыне подействовало на Сажиду умиротворяюще, и она захныкала:
– Конечно, дело божье – помогать скорбящим и немощным. Атахы, – обратилась она к мужу, – а вдруг Аллах нас накажет за то, что не пустили Танзилю.
Ильмурза почесал бороду, походил по горнице, посопел.
– Э-эй, да пускай делает что хочет. Не совладать мне с такой шальной килен! Но смотри, – он выпучил глаза, затопал ногами в белых шерстяных носках, – грех ляжет на твою душу, а мое дело – сторона. Ай-хай, да разве Азамата мыслимо поднять на ноги? Шевелиться не может, так его исхлестали, мясо, поди, клочьями летело.
У Танзили уже дрогнули ноздри, она накинула бешмет и понеслась по улице. В доме Азамата – лютый холод, в щелях ветер свистит, как в поле. Танзиля накопала в погребе еще не промерзшей за зиму глины, смешала ее с навозом, замазала углы, дыры в стенах, в двери, в полу, в полуразвалившийся чувал вставила камни, выпрошенные у соседей, разожгла огонь – дрова тоже взяла взаймы у соседей.
Аул гудел сплетнями, у ворот стояли языкастые, злые старухи и любопытные молодухи, но Танзиля, не обращая внимания на их осуждающие взгляды, помчалась обратно в дом свекра, вернулась скоро с кастрюлей.
Вечером растерянная кухарка сообщила Сажиде, что исчез чугун с похлебкой, хозяйка всплеснула руками и засеменила к мужу с жалобой, но Ильмурза лишь сплюнул, надел шубу и зашагал в мечеть к намазу.
А в доме Азамата задорно трещали в чувале дрова, блики пламени бегали по стенам. Согрев похлебку, Танзиля кормила его с ложки – до того ослабел, что голову поднять не смог.
– Зря ты мучаешься со мной, – прерывающимся голосом сказал Азамат. – Не стою я такой заботы. Я пропащий.
– Аллах не допустит твоей смерти, – горячо произнесла Танзиля. – Ты благородный! Салават от тебя не отрекся бы. Клянусь, я тебя исцелю.
В сумерках пошла она к знакомой старухе-знахарке, получила от нее мисочку с волшебным настоем лесных и луговых трав, напоила им Азамата, и он уснул в блаженной истоме на нарах возле пышущего жаром чувала.
А неутомимая Танзиля полетела к дому свекра, шмыгнула на задний двор.
Утром кучер доложил хозяйке, что вчера вечером ее килен увезла воз сухих березовых дров, свалила во дворе Азамата.
Взвизгнув от негодования, Сажида поспешила к мужу, но Ильмурза вздыбил бороду, затопал ногами:
– Сама виновата: ах, грех, ах, Кахым! А я что поделаю с этой настырной молодухой?
Вбил ноги в валенки, надел шубу и отправился в мечеть к утреннему намазу.
Сидя около ровно дышащего во сне Азамата, Танзиля думала: «Чего это вековать мне в чужих стенах, в доме свекра? Здесь хоть и покалеченный, но живой Азамат, и я ему нужна. Свяжу с ним свою судьбу. Хватит мне ютиться у стариков, стану жить своим домом, хоть и впроголодь, хоть и полунищей. Лишь шайтан мыкается без надежды, потому так и злобствует. А я надеюсь, что Азамат поправится, подобреет, война закончится, и мы с ним проживем жизнь счастливо».
Не от чудодейственного навара, и не от тепла в доме, и не от горячих похлебок, а от щедрой доброты Танзили Азамат круто пошел на поправку.
Сажида прислала за Танзилей служанку, пригласила к себе.
Азамат уже сидел на нарах, смотрел, как засуетилась Танзиля, как натянула легкие кожаные сапожки.
– А почему ты валенки не носишь? Или каты с суконными голенищами? На улице же мороз, вот и студишь ноги.
Танзиля не привыкла в доме свекра к такой заботливости и прослезилась.
– Я ведь не хожу, а бегаю! – с притворной бодростью сказала она полуотвернувшись.
Ильмурза с Сажидой сидели в горнице с унылым видом.
– Что случилось? Плохие вести с войны? – бросилась к ним Танзиля, почувствовав угрызения совести: совсем забросила стариков.
– Нет, сыночек, слава Аллаху, жив-здоров. Недавно привезли из Оренбурга послание. Кахым – турэ! – гордо сказала Сажида-абей.
– Так чего же?..
– А то, что без тебя жилого духа в доме нету. Возвращайся-ка, килен, киленкэй, миленькая, обратно.
Старик Ильмурза поддержал жену:
– Да, возвращайся! Просим, вернись.
Танзиля догадалась, как трудно было это произнести самолюбивому старику.
– А что станет с Азамат-агаем без меня?
– Найму старушку, она его и выходит, – заверил Ильмурза.
Танзиле тоже трудно было отрицательно качнуть головою:
– Нет, чужая не поставит его на ноги!
Сажида от обиды захлебнулась плачем:
– А мы разве тебе чужие? Килен, что ты сказала, побойся Аллаха!
– Да, вы мне родные, люблю как отца и мать и буду теперь каждый день навещать, но и Азамата бросить не смогу.
– Чем же околдовал тебя этот Азамат? – с нескрываемой злостью спросила Сажида. – И еще неизвестно, выживет он или помрет.
– Знаю, знаю, но видно, потому и тянется моя душа к нему!
– Ну раз не ценишь нашего попечения, благорасположения, то уговаривать не станем, – после недолгого раздумья отрезал Ильмурза.
– Да, насильно мил не будешь, – проглотив слезы, согласилась с мужем Сажида.
Танзиля низко поклонилась им и вышла.
Старик и старуха остались одни в богатом, но как бы оглохшем доме, где в каждом закоулке притаилась тоска.
17Вся зима прошла в ожесточенных сражениях с отступавшими, но зло огрызавшимися вражескими корпусами. Наполеоновских вояк добивали не мороз и не голод, – русские солдаты тоже и замерзали, и голодали, – но непрерывные, со всех сторон удары казаков, партизан и крестьян – прифронтовые деревни целиком брались за вилы и дубины, нападали на отходящие французские части в лесах, оврагах, излучинах рек.
Командиры русских полков доносили Кутузову, что интенданты провианта не привозят, деревни вдоль дорог опустошены и сожжены французами, у наших солдат нет теплой формы. А что мог сделать фельдмаршал? Остановить победное движение армии к своим государственным границам? Да любой солдат, идущий впроголодь в летней тонкой шинельке по снегам, на лютом ветру, знал, что остановиться невозможно.
И страстотерпцы во имя святого отмщения за муки русского народа молча, без жалобы, без стона шагали и шагали на запад.
…«Великая армия» превратилась в сборище оборванных, голодных, озлобленных на всех и на вся, включая самого императора, бродяг. Они плелись по Смоленской дороге, не обращая внимания на крики, понукания и угрозы офицеров, а если, выбившись из последних сил, ложились отдохнуть на обочине, то уже не поднимались, коченели, превращались за ночь в заледенелые трупы.
Раненых и больных безжалостно сбрасывали с санитарных повозок и фургонов прямо на дорогу, под окованные колеса пушек и зарядных ящиков. Но у Днепра, под Смоленском, французы уже бросили и пушки, а лошадей, тощих, костлявых, резали и тут же на шомполах жарили конину над кострами.
И все же Наполеон торопил армию, требовал от маршалов и генералов, чтобы они, невзирая на чудовищные потери, форсированным маршем гнали и гнали полки на запад.
А казаки атамана Платова, партизаны Давыдова, Сеславина, Фигнера, Кудашева, башкирские, тептярские, калмыцкие полки, стрелки Милорадовича нещадно добивали французов.
В Смоленске армии Наполеона не удалось отдохнуть, подкормиться, пополнить артиллерию ни боеприпасами, ни свежими лошадьми – фельдмаршал Кутузов не позволил. Русская армия смертельно устала, солдаты кормились только подношениями крестьян, дальних, не разоренных французами деревень. Зимнего обмундирования не было – солдаты мерзли в тоненьких, летнего образца шинелишках, обмораживались и заболевали.
Французские полки таяли, однако и русские полки слабели, и не от боевых потерь, а от недоедания и морозов.
Но Кутузов не разрешал передышки – просил, умолял по-отечески не сбавлять шага. Дальновидность великого стратега позволила Михаилу Илларионовичу различить в белорусских лесах и болотах Березину, еще не замерзшую, по донесениям разведчиков. Именно там, на берегу, надо было окружить, пленить, утопить в реке армию завоевателей.
Между тем и Наполеон не потерял еще в русских снегах чутья полководца, смекнул, какую западню готовят ему и Кутузов, и Березина. И приказал корпусу Удино оборонять до конца, до последнего солдата город Борисов, а около деревни Студень строить мосты через Березину.
Если бы к реке первыми подошли Милорадович, Раевский, Ермолов со своими богатырями, пробившимися сквозь снега, одолевшими и голод, и стужу, то остатки армии Наполеона погибли бы у Березины. Но подошел адмирал Чичагов, вовсе не приспособленный к военным действиям на суше, да к тому же постыдный трус в душе. Он выслал авангардом отряд Палена, наобум, без тщательной разведки, и маршал Удино опрокинул, отбросил к Борисову русские войска. Перепуганный адмирал остановил всю свою армию, а ведь пришедшие с юга полки были полностью укомплектованы отборными, обученными, хорошо вооруженными солдатами.
Наполеон был спасен.
Он лично наблюдал за строительством мостов, да еще велел строить мост ниже Борисова, близ Ухолода, чтобы Чичагов рассредоточил свою армию, решив, что именно здесь и возводится основная переправа. И Чичагов клюнул на приманку, остановил армию, бесстрастно созерцая, как у деревни Студень французские саперы по грудь в ледяной воде уже укладывали последние доски настила на балки. Сперва построили легкий мост для пехоты, затем взялись за мост прочнее, крепче – для артиллерии и обозов – выше по течению.
То, что мог, но не сделал Чичагов, делали, хотя и с неизбежным опозданием, казаки Платова, партизаны Сеславина, полки Ермолова, башкирские Третий, Четвертый, Пятый полки – они теснили французов, нагоняли на беглецов, и без того-то запуганных, страх, отчаяние.
Мост для пушек и обозов рушился дважды, саперам удалось восстановить их лишь через семь часов. Наполеона перевели усачи-гвардейцы, – император даже здесь ухитрялся хоть как-то сносно кормить их и одевать… Третий раз мост обрушился днем.
Когда уцелевшие заметили, что старая и молодая гвардия ушли, то они поняли, что обречены. Вой, вырвавшийся из тысяч глоток, был уже не человеческим, а звериным – так воют волки, окруженные охотниками. К мосту рвались толпы, давя друг друга, ломая перила, скатываясь в пучину. Кучера рубили постромки и, столкнув с дороги повозки, верхами переплывали реку. Напиравшие сзади не видели, что мост посредине обрушился, ломились напропалую, сметали в волны людей лишь для того, чтобы через минуту-другую их тоже выдавили вниз. Тонущие плакали, умоляли о помощи, проклинали Наполеона и Бога, но император был уже на западном берегу.
Люди, лошади барахтались в сизых от стужи волнах, всплывали, уходили в бездну, чтобы не выбраться из нее. Воинская дисциплина, французский гонор, честь наполеоновского солдата – где они? Обезумевшие от горя, страданий, безнадежности генералы, офицеры бросали своих солдат, врубались саблями в кипящую, рыдавшую и вопящую людскую гущу.
А ядра русских батарей равномерно падали на берег, на остатки мостов, в волны, дробя и людей, и льдины, вспарывая воду.
Чичагов и Витгенштейн не утопили в ледяной купели Березины всю армию Наполеона, хотя должны были и могли это сделать, однако французские полчища были обескровлены. Не осталось артиллеристов, егерей, кавалеристов, саперов, гвардии старой и гвардии молодой, – в рубище, в лохмотьях, бросив ружья, пушки, уцелевшие медленно плелись, одолевая шаг за шагом, бредили наяву куском хлеба и теплым домом.
Даже видавших виды маршалов мороз пробрал по спине, когда Наполеон в местечке Сморгони 6 декабря безучастно сказал, что, конечно, им были допущены некоторые ошибки, но теперь об этом говорить поздно, а надо создавать новую армию и тогда победа обязательно достанется великой Франции.
И он умчался в карете в Париж, передав командование неаполитанскому королю Мюрату.
Кутузов спас Россию.
Всю зиму он избегал «лобового», фронтального столкновения с Наполеоном, чтобы сберечь солдат, чтобы добивать противника не ударом «живой силы», а маневром и внезапными вылазками казаков, партизан и вооруженных мужиков. Он знал, что солдаты воюют впроголодь, и приказывал офицерам, просил, уговаривал их любыми мерами добывать продовольствие. А что могли сделать офицеры?..
Во время объездов войск Михаил Илларионович сперва спрашивал не о трофеях, не о том, сколько французов взято в плен, а о том, накормлены ли солдаты. Как-то он без свиты, с казачьим конвоем подъехал к бивуаку лейб-гвардии Измайловского полка. Солдаты вскочили, радостно приветствовали любимого полководца.
– Есть ли хлеб, ребята? – спросил Кутузов.
– Никак нет, ваша светлость!
– А говядина?
– Никак нет, ваша светлость!
– А по чарке водки выдавали?
– Никак нет, ваша светлость!
Сведя круто брови, грозно сморщив обычно добродушное лицо, Михаил Илларионович с угрозой посулил:
– Велю повесить провиантских чиновников! Завтра привезут вам хлеба, мяса, водки.
– Покорнейше благодарим, ваша светлость! – гаркнули гвардейцы.
– Но вот что, братцы, пока вы станете отдыхать да угощаться, злодей-то улепетнет. Значит, придется, братцы, догонять француза и без сухарей и без чарки. Верно?
– Так точно, ваша светлость! – от души прокричали солдаты и проводили фельдмаршала дружным «ура», с любовью и нежностью глядя, как трусил на смирной лошадке тучный, рыхлый старик.
После освобождения Вильно на русской земле не осталось ни единого наполеоновского солдата, исключая пленных. Во всех полках, батареях 21 декабря 1812 года был зачитан приказ Верховного главнокомандующего:
«Храбрые и победоносные войска!
Наконец вы на границах империи. Каждый из вас спаситель Отечества. Россия приветствует вас сим именем. Стремительное преследование неприятеля и необыкновенные труды, поднятые вами в столь быстром походе, изумляют все народы и приносят вам бессмертную славу…»
Кахым приехал в Первый башкирский казачий полк, прочитал перед строем приказ фельдмаршала Кутузова сперва по-русски, затем по-башкирски.
– Князь Кутузов шлет вам, джигиты, величайшую благодарность! – сказал он с седла и поклонился.
Всадники в ответ прокричали «ура» и тоже поклонились, сняв шапки.
Кахым велел мулле Карагошу перевести и записать приказ Кутузова по-башкирски и почаще напоминать джигитам мудрые слова полководца в проповедях при намазе.
В Литве в деревнях и поселках война не бесчинствовала ни летом, ни зимою, амбары ломились там от зерна, в хлевах полно скота и свиней, все мелкие лавчонки открыты и бойко торгуют. Ясно, что джигиты вечерами у костров после обильной трапезы беседовали благодушно, затягивали родные песни.
Кахым ужинал в палатке майора Лачина, присутствовали старшина Буранбай и мулла Карагош.
Подняли тост за Михаила Илларионовича, награжденного только что орденом Георгия первой степени.
– Люблю я фельдмаршала, – растроганно сказал Кахым. – Мудрость. Доброта. И он людей жалеет, а ведь многие генералы смотрят на солдат как на серую скотинку, а на нас как на диких скифов.
– Кто же не любит Михаила Илларионовича, – согласился Лачин. – У костров только и слышишь: «Кутус», «Кутус»… Даже в самые трудные дни, когда французы были в Москве, наши джигиты верили: с Кутусом не пропадем!..
– Кустым, а ты царя Александра видел? – спросил Буранбай.
– Видел. И не раз.
– А какой он из себя?
– Наш царь умный, мягкий, деликатный, – искренне сказал Кахым. Он, как и все молодые офицеры, был очарован галантностью Александра Павловича. – Добрая улыбка вечно сияет на его красивом лице. И ему ведь всего тридцать пять, а выглядит намного старше.
– Еще бы! Когда начал воевать с Наполеоном, – заметил Лачин, – подряд неудачи. Только теперь пришла победа.
Все согласились с ним.
– Нам, башкирам, так нужен добрый царь, – сказал Буранбай. – Закончится война, и он вернет башкирам былые вольности, сдержит свое обещание.
– На всех намазах возношу молитвы о здравии царя, – поддержал мулла Карагош.
– И в проповедях прославляй царя и фельдмаршала Кутузова, – попросил Кахым.
Перед отъездом из полка он взял домбру и спел с волнением песню:
Неисчислимы французские полки,
Почему же онемели их пушки?
Почему не гремят пищали?
В плену их генералы, полковники,
В сугробах похоронены солдаты.
Тысячную рать французов
Наши джигиты разбили.
Башкирская конница идет —
Спасайтесь, французы.
– Это не моя песня, – тотчас объяснил он, боясь, что слушатели расхвалят, – это сэсэн Байык сочинил, а мне писари-башкиры из Оренбурга прислали в письме. Мотив-то я сам здесь подобрал.
– И очень удачно, – серьезно сказал Буранбай. – В состязаниях с киргизскими и казахскими домбристами Байык всегда побеждал. Конечно, он уже состарился, но видишь – слагает благозвучные песни.
– И вдохновляет нас на ратное служение, – сказал мулла.
– У тебя, кустым, это письмо с песней аксакала Байыка с собою? Оставь, я перепишу и верну тебе с оказией, – попросил Буранбай. – Либо твой мотив повторю, либо свой сложу.
– Нет, ты уж сам сложи, агай, – улыбнулся Кахым. – Мне с тобой, таким музыкантом и поэтом, не тягаться!
И он пошел к коновязи, а Буранбай велел названому своему сыну Зулькарнаю оседлать и привести лошадь.
– Провожу Кахыма, есть с ним серьезный разговор, – сказал он майору Лачину.
Они поехали не спеша по пробелку, ординарец Кахыма ехал в отдалении.
– Скоро ли закончится война? – понизив голос, спросил Буранбай. – Орды Наполеона изгнаны из России, не пора ли остановиться, распустить армию по домам.
– Видишь, агай, я ведь не все знаю, не обо всем при мне в Главной квартире говорят, – тоже вполголоса сказал Кахым. – Но, судя по громогласным заявлениям генерала Беннигсена, император Александр и не помышляет о замирении. Наоборот, он жаждет победы окончательной и бесповоротной и заключения мира в Париже. Петр Петрович Коновницын хмурится, отмалчивается.
Буранбай закручинился, сказал вздыхая:
– Едва пошли в полках разговоры о мире, я взял и написал Тане в деревню – скоро, мол, приеду за тобой. И получится, что я ее обманул.
– Зря ты, агай, затеял эту историю, – сказал Кахым. – Конечно, мне, молодому, неудобно так тебе говорить, но если ты сам начал…
– А если я полюбил? – с обидой спросил Буранбай, откинувшись в седле и сердито посмотрев на Кахыма.
– Любовь любовью, а надо еще учитывать, агай, что Таня – девушка крепостная, – рассудительно сказал Кахым: он теперь зачастую удивлял знакомых и даже друзей не по его возрасту умными словами в беседе. – Захотят ли хозяева-помещики продать ее тебе?
– У меня жалованье войскового старшины – насобираю денег.
– А ее отец-мать? – терпеливо продолжал Кахым. – Таня православная, а ты, агай, нехристь, басурман.
– Таня перейдет в нашу веру!
– Сомневаюсь! Не слышал я что-то, чтобы русские девушки принимали мусульманскую веру, зато уж башкирских, калмыцких, киргизских офицеров православных – уйма!.. Да твой командир майор Лачин – крещеный. Крестились-то его родители, видишь, как давно это было.
– Тогда я свою золотоволосую украду! – лихо воскликнул Буранбай.
– И куда ты с нею денешься? – горько спросил Кахым. – Увезешь в аул, а там по жалобе помещика, по приказу Волконского, тебя и арестуют. Значит, погубил и себя, и Таню.
– Что же мне делать? Отказаться от золотоволосой? – Обычно самоуверенный старшина растерялся.
– Не знаю, агай, не знаю. И вообще в сердечных делах советовать наивно… У тебя же осталась любимая на Урале?
– То было и быльем поросло. Нет, до встречи с Таней я ее крепко любил, верно любил. А сейчас… – И он низко опустил удалую голову воина, поэта и музыканта.
Кахыму было жаль его, так и подмывало покривить душой, сказать, что, дескать, все образуется, но он промолчал.
– Спасибо, кустым, – Буранбай остановил коня. – Ты поступил по-джигитски, по-нашему. Пусть Аллах спасет тебя в военных передрягах. Я понимаю, что иначе ты со мною говорить не мог. – И он протянул Кахыму руку.








